ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Богуславская Зоя
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сысоева Татьяна
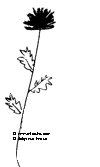


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Каплинская Елена 1983
Низкий, похожий на корабельный, коридор с коричневыми лакированными пятнами дверей кают-кабинетов привычно привел Женю в зальце-оранжерею директорской приемной. Вместо окна там была стеклянная стена, по ней ползли развешенные на прозрачных лесках зеленые кудри каких-то экзотических растений и шатром нависали над столиком секретаря Тонечки.
Серый пушистый бобрик, устилавший пол, гасил шаги и голоса. (Это была идея Рапортова. Он прослышал про новый шумоизоляционный материал, пытался его достать, но ничего не выходило. И в конце концов Жене пришлось даже самому съездить в Комитет, чтобы получить этот бобрик для «Колора» из какой-то экспериментальной лаборатории. Господи, на каждую мелочь Жени хватало!) Тонечка, погруженная в чтение бумаги, из-за этого бобрика сначала не услышала шагов Жени, но потом подняла глаза и увидела его, уже входящего в кабинет Рапортова.
Лицо ее сделалось испуганным.
Женя сразу остановился, спросил:
— Что, Тоня? В чем дело?
Она пробормотала:
— Как это, как это, Евгений Фомич... что вы, Евгений Фомич...
И Женя вошел в кабинет.
Рапортов стоял вполоборота к двери, что-то оживленно рассказывал. А прямо перед ним, присев боком на широкий, темного полированного дерева подоконник, слушал и слегка улыбался Всеволод Леонтьевич Ижорцев.
Женя вошел, и возникла пауза. Рапортов замолчал, Ижорцев смотрел на Женю вопросительно.
...Этот кабинет был Жениной штаб-квартирой. Когда здание «Колора» только подвели под крышу, сюда связисты протянули «отводную трубку» от его телефона на «Звездочке». И Дюймовочка все звонки начала переключать сюда. В уголке под этим окном, тогда еще не обшитом, как теперь, дорогим деревом, стояла раскладушка, закрытая листами оберточной бумаги и полиэтиленовой пленкой от известковой пыли.
Эта раскладушка мне не нравилась ни с какой стороны. Я не одобряла ночевок на «Колоре». Как всякая нормальная жена, я не видела необходимости уже так сильно приглядывать за строителями. Будто бы больше некому, кроме генерального директора! Тем более, что к тому времени уже работали кое-какие производственные участки, за которыми, как раз в свою очередь, приглядывала по части технологии рыжая Лялечка Рукавишкииа. Я не была убеждена, что Лялечка нажимает только на технологию, упуская из внимания другие аспекты действительности.
Словом, кабинет изначально принадлежал Жене и входить сюда, находиться здесь когда захочет и сколько захочет было его правом, правом «породившего», которое не отменяется ничем. Это же естественно, так Жене казалось.
И вдруг — пауза, прерванный разговор, вопросительный взгляд. Оба — друзья, ближайшие помощники и даже больше, больше — тоже «порожденные»...
Но — ни тени смущения. Вчера — одно, а сегодня — другое.
Вошел, прервал. Что дальше?
Женя неожиданно взбодрился, потерял естественную свободу, обрел какую-то неестественную сверхсвободу. Захохотал, сказал:
— Друзья, вы сейчас смахиваете на одну картинку. Там так: в собственной вилле пожилые супруги сидят на кухне, завтракают. Вдруг — стена вдребезги, въезжает самосвал. «Извините, — спрашивает шофер, — как покроче проехать в Нью-Йорк?» «А! — говорят супруги, — так это вам надо через спальню, гостиную и налево по шоссе». А лица у них точно как у вас.
Рассказав это, Женя долго хохотал, громко, один.
Ижорцев встал с подоконника, пальцами, прицелившись, сбил несуществующую пылинку с рукава.
— Так. Ну, а действительно, покороче? Вы с чем-то пришли?
Женя трудно поморщился, сводя с лица заклинившуюся улыбку.
— Разумеется, — и повернулся к Рапортову. — Меня беспокоит Краматорск. Когда позвонят, переведи разговор ко мне, Гена.
— Краматорск звонил вчера, — сказал Ижорцев. — Я с ним разговаривал.
— Ах, вот как. А я-то удивляюсь, что за молчание. Вы могли бы, Всеволод Леонтьевич, поставить меня в известность.
— Евгений Фомич, у меня нет времени каждого сотрудника ставить в известность о моих действиях.
Рапортов опустил глаза. Он просто отключился.
— Товарищ генеральный директор, — сказал Женя, — я пришел сюда, беспокоясь о заводе. Там трудные смежники. Я полагал, мой опыт общения с ними пригодится. Но я, кажется, помешал? Может, мне пойти к себе и подождать вызова? По субординации?
Это была полуобида, полушутка.
Ижорцев застегнул пиджак и одернул полы.
— Неплохая мысль. Конечно, мы вас пригласим, Евгений Фомич. Если понадобится говорить о металле. Но, по-моему, там все улажено.
Женя шагнул к двери, дернул никелированную ручку. Серый бобрик действовал безотказно, глушил и шаги и голоса. «Не может быть, — думал Женя, — не может, не может быть. Такого вот, такого».
Он шел обратно по каютному коридору, и корабль уже вовсю штормило. Мотало стены и потолок, выгибало пол. Желудок выдавливало вверх к горлу подступившей морской болезнью.
«Главное, с металлом в порядке, — думал он, спасаясь. — С металлом все хорошо. Больше ни о чем...»
Мне запомнился день — это было после ночной ссоры. Позорной ссоры. Из-за Лялечки Рукавишкиной. Наутро мы с Женей поехали к Директору на дачу. Голова трещала, глаза пекло от слез. Мы дико не выспались. Но поехали. В электричке меня одолевали сомнения: может, Директор просто так обмолвился, что мол, приезжайте, а Женька и готов стараться, едет и еще меня, полуидиотку, с собой тянет... Женя немедленно оживился насчет этого «полу»: полуидиотка — здорово, удачно сказано, просто блеск. Полуидиотка! Сказано в самую точку.
Но меня уже не трогал его сарказм. Я уже одеревенела. О боже, куда мы едем? Куда мы, вообще-то, премся?
Для меня в детстве люди делились на реальных и нереальных. Реальные люди жили в знакомых коммунальных квартирах, ездили в метро, ходили в киношку, покупали у лотошниц сливочные тянучки. О нереальных рассказывала учительница в школе, они стояли на Мавзолее во время парадов или же просто представляли собой несколько алфавитных букв, сложенных в широко известные фамилии. У этих людей не было домашних тапок, тянучек, соседей, должков до получки. Они нигде не жили, ни с кем не ругались, никого не звали в гости. Но весь этот недостоверный, сплетенный быт людей, которые двигали глыбы народной жизни, преобразовывали, ломали, создавали, влияли на ход истории подчас в целом мире — делали их еще более нереальными для меня. Я не могла признать в них обыкновенных людей.
Наш Директор был первым в моей жизни, встреченным так близко человеком из «нереальных». И вот он позвал нас, мы едем, куда — за зеленый забор? Что ждет нас там, на директорской даче?
Один раз Таня Фирсова рассказала, как провожали на пенсию мать Фестиваля. Весь барак гудел два дня, женщины готовили еду и несли на общий стол, мужчины бегали в гастроном, все старые звездовцы в гостях перебывали. И приехал, конечно, Григорий Иванович.
Мать Вали Фирсова была уже здорово тепленькая, веселенькая, очень благодарила за почет и выразила это так:
— Вот мои дорогие, расстаюся я с заводом, тута главное мне ни почести, ни чины, мы выпьем по рюмочке, закусим ветчины! Я наработалась с двадцать девятого года и с честью вам скажу: устала я от работы! Лучше утречком посплю!
Стол ревел от восторга, Директор взял руку матери и поцеловал. Кто сидел поближе, заметили — плакал. И в водочке себе не отказывал, это тоже заметили.
Тогда уже поговаривать начали, что Григорий Иванович, случается, подкрепляет винишком свой дух. Да разве ж это не уразумеет рабочий человек? Никто Директору за слабость такое не ставил; наоборот, попроще да поближе его к себе чувствовали. От прежней крутизны характера сохранялся забористый директорский лексикон, который заводские воспринимали как признак бодрости Григория Ивановича и не любили, когда он появлялся молчаливым. Тогда переглядывались тревожно: «Сдает наш Директор...»
Но на проводах матери Фирсова Директор был как надо: и стаканчики опрокидывал, и плакал, и поругивал детишек, вертящихся комариками возле взрослых. И даже мужчины из самых коренных звездовцев, самые асы, когда вышли покурить, решились попридержать Директора в уголку коридора и давай его выспрашивать, как там у него было со Сталиным, как он ему депутатский мандат вручал. Любопытно здорово было: в Кремль ли к нему ездил, или вождь сам в избирательную комиссию явился? Но ничего не выведали — и для них тоже, как для меня, Директор остался человеком наполовину из «нереальных», закрытых личной тайной.
И вот мы с Женей к нему ехали. В гости. Это было невероятно. И страшно. Как будто входишь в чей-то давно привлекательный, но уже полуопустевший по каким-то трагическим причинам дом.
Тогда мы были еще слишком молоды, слишком у начала своего времени, чтобы понимать то, что видели глаза. Мы только чувствовали... не в силах разобраться в причинах своих ощущений.
По дачному поселку вела сначала улица, широкая, окопанная канавками, отделявшими ее от высоких деревянных заборов. На калитках виднелись железные таблички «Злая собака», крыши дач тонули в густой листве деревьев. За дачами шли простые рубленые дома, с дощатыми наличниками окон, с палисадниками, разбитыми на батончики грядок. Горбатились хозяйственно сложенные поленницы, в сарайчиках виднелись кровати, умывальники, кухоньки — знакомая картина, все напоминало поселок, где жила мать Жени, где была и наша «дача».
От улицы мы свернули на тропинку, миновали пустырь, болотце, три березки и остановились возле серого некрашеного штакетника.
На директорском участке тоже были грядки, только расплывшиеся, заросшие одичавшей клубникой. Дощатый дом с высокой террасой, застекленной разноцветными квадратиками, выглядел просторным.
На ступеньках террасы сидел Директор, в гимнастерке, галифе, теплых носках и тапочках, в потрепанной генеральской овчинной безрукавке.
Во время войны он был генералом — как все директора крупных военных заводов.
— Григорий Иванович! — крикнул Женя.
Директор увидел нас, встал и пошел по дорожке к калитке. Мне показалось, что он немного сонный, бледно-зеленые глаза плавали в прищуренных бережках красноватых век.
— А у вас есть злая собака? — бодро спросил Женя, когда звякнула щеколда.
— Нет, — сказал Директор. — Чего их плодить, злых-то.
— Защищать имущество.
— Мне уж защищать надо покой, а не имущество. Покой вот здесь, — Директор круговым движением потер грудь. — Тут я сам себе заместо злой собаки. На себя и лаю.
— Ничего, людям тоже достается, — ввернула вышедшая из-за угла дома высокая, тонкая, как девушка, старуха.
— Сестра. Паня. Так ее и зовите. Ей «Пелагея Ивановна» не нравится. Не вышло ей имя-отчество.
Паня была одета в сарафан с кофточкой, какие носили комсомолки тридцатых годов. Подстриженные ровно волосы удерживал на затылке круглый гребень.
Паня повела нас к зарослям клубники и велела приподнимать шершавые листья — под ними таилось довольно много ягод. Самые сочные попортили улитки, выев сердцевину. Наше нашествие произвело среди улиток переполох, и они уносили ноги, таща на горбу свои ракушки.
Женя возгорелся было что-то там делать с пропадающими от неухоженности грядками, но Григорий Иванович махнул рукой.
— Это жена-покойница развела. Она и возилась. А мы уж не трогаем без хозяйки. Пусть так растет все, как она оставила.
Я впервые в жизни ощутила силу ушедшего человека. Вернее, силу ухода. Отсутствия. Присутствие — обыкновенно. Можно что-то не так сказать, поступить небрежно, ошибиться, засмеяться, вернуть. Отсутствие — безнадежно и потому величественно. Поступкам, слезам, словам — нет возврата. Даже легкое, но последнее прикосновение полно смысла. Уход человека возвеличивает то, что было обыкновенным во время его присутствия...
В комнатах дачи на тумбочках, круглых валиках кушетки и бамбуковой этажерке лежали вязаные салфетки, на окнах висели полотняные гардины, вышитые цветами. Все здесь не молчало, все говорило о жизни хозяйки-хлопотуньи, рукодельницы, женщины простой, домашней. Она была подругой и спутницей Директора, она была его дом в большой и бурной жизни. Вот что давали понять простенькие вещи, доверчиво открытые нам.
Паня стала накрывать на стол на террасе, я взялась ей помогать. Мне хотелось спросить, сколько же длится такая память о человеке, когда он еще будто бы живет? Я не удержалась и спросила, давно ли умерла жена Григория Ивановича. Паня ответила невпопад:
— Она была моя подруга. Говорю Гришке: женись, нечего чубом по ветру махать. И уж не молоденький, тридцатый годок ему шел. В гражданскую навоевался, потом с питерскими отрядами хлеб по деревням собирал. По всем статьям парень, и партейный, и работящий, и собой хорош, только жениться! Брат, значится, приехал посля этого всего ко мне в Москву, так вокруг него — фрр! — дамочек этих вьется. А одна, а другая, а пятая-десятая. Сплошной крепдешин. Мы-то с Валькой, подругой моей, как идейные, считали, что в наружности главное — естественность. Мы были боевые. Нас даже, помню, в горком комсомола вызывали, ругали, чтоб мы со смены в комбинезонах по трамваям не ездили, публику не пачкали. А мы метростроевки, понимаешь ты, и гордились: это не грязь на нас, а юра! Юрская глина, порода такая в шахте. Наш копер стоял точь-в-точь на том месте, где теперь памятник Карлу Марксу. Двенадцатая шахта там была. Мы станцию «Охотный ряд» строили. А бараки, общежитие наше на Мазутном проезде. Вот мы и дули в трамвае через всю Мещанскую в этих своих комбинезонах. Хоть бытовки нам устроены были в Сандунах, баня такая на Неглинке, знаешь? Шикарная, туда трешник билет стоил на старые деньги. С бассейном мраморным. Но мы там не переодевались, нам охота в комбинезонах красоваться, чтоб все знали: мы Метрополитен строим!
Вот мы какие девчата были передовые. А Гришка, видишь ли, в женщинах совсем на другое поглядывал. Не на наши строительные качества. Натуральность, говорил, у женщины хороша абсолютно в другом смысле. Пришлось моей Вальке фильдекос натянуть да одеколоном сбрызнуться. Чтоб у Гришки глаза раскрылись как надо. Ну и он тоже не дурак оказался, сразу крепдешиновых побоку. С шахты потом, когда поженились, она ушла. Орден, что за первую очередь получила, в шкафчике хранила.
Мы семьей дружно жили. Особенно до войны. Гриша на «Звездочке» работал начальником сбыта. Мой Коля бригадиром проходчиков был, в аэроклубе занимался. Увлекались тогда метростроевцы летчицким делом. Коля погиб в сорок втором. Но мы с ним расстались в первый день войны, так больше и не свиделись. Ни разу. Я вот иногда думаю: а он еще жил на земле, полтора года. Полтора года целых. Сколько раз можно было свидеться. Знать бы... Пешком страну перепахала бы.
Тарелки, рюмки, миски с винегретом и селедка в продолговатом блюде заполнили стол, и Паня кликнула мужчин.
Григорий Иванович и Женя вошли не прерывая разговора. Это была та степень погружения, когда их можно было кормить негашеной известью с мышьяком. И если скажут «спасибо», то лишь для того, чтобы отмахнуться.
Разговор шел о Лучиче. У Жени только что вышел с ним инцидент.
Женя докладывал «у Лучича», как обычно, о состоянии дел в цехе, о ходе работ на монтаже «Большой дороги».
Ее овальное полукружие уже царственно раскинулось между хозяйствами технохимиков, оптико-монтажников, тренировочными стендами. Над стыками тонких рельсов копошились слесари-механики, подгоняя их так, чтобы колеса тележек проходили как по маслу, не тряхнув стеклянное плоское тело «лягушки».
Внутри овала в хаосе машин и насосов колдовал Василий Дюков со своей бригадой наладчиков.
Снизу, из экспериментального цеха, привозил на грузовом подъемнике свои машины Фестиваль. Сдавал Дюкову и заботливо укрывал бумажкой, чтоб пылинка не села до времени, пока дюковские ребята установят их на фундамент, вмонтируют в тело «Большой дороги».
Эта «большая дорога» была вроде как зуб, растущий у ребенка. А завод — как семья, где все тети, дяди, бабушки, близкие и дальние родственники живо затронуты приятным, но хлопотным явлением.
Когда Женя брал слово на техсовете, наступала тишина. Это был краткий хлесткий шедевр информации: что, как, почему. От каждого запутанного узелка обязательно прослеживалась цепочка, на конце которой «обретался» тот недоглядевший, недоработавший, по чьей личной вине... Уж Женя обязательно до него докапывался. Все это знали. Немедленно следовало распоряжение Лучича, принимались меры, узелок распутывался, дело шло.
Женя не воздерживался и от обобщений. Он говорил но всеуслышание о некоторых привычках на производстве, которые всеми другими воспринимались как «не нами заведено, нас не спросят». Секретарь парткома, покрываясь пунцовыми пятнами, просил Женю точнее
формулировать мысль, но едва Женя выполнял его просьбу, смущенно замечал: давайте все же вернемся к конкретному вопросу.
Лучич никогда Женю не прерывал и не останавливал. Смотрел спокойно выпуклыми голубыми глазами, задумчиво и в пустоту.
На техсоветах Женя выглядел единственным бузотером. Зато после них, в коридоре, вокруг него свивался тесный круг, еще некоторое время не выпускавший его из своей разгоряченной сердцевины.
Потом все шли работать, выполнять точные и жесткие распоряжения главного инженера, отданные в полном соответствии с требованием Жени.
Женя привык к корректности великого Лучича. Это его даже немного злило, совсем тайком, как злит равнодушное отношение к нам человека, от которого мы в чем-то зависим. Но равнодушие все же приемлемей, чем неприязнь. Равнодушие ранит самолюбие, неприязнь калечит существование. И я, честно говоря, радовалась, что Женьке никак не удается нарваться. Но была убеждена, что ему этого хочется, как хочется прыгнуть с площадки над куполом Исаакия, если уж ты попал в Ленинград и тебе удалось туда забраться.
И так все держалось до последнего техсовета.
Заканчивая свой обычный спич, Женя мимоходом упомянул, что конечная операция на выходе кинескопа тоже будет механизирована. Принята интересная идея молодого рабочего, электрика Севы Ижорцева, которую Женя собирается оформить как рацпредложение или даже как изобретение. Вместо рабочего-газорезчика стеклянный штенгель у оболочки кинескопа будет отрезать и заваривать маленький электроробот. Сэкономится одно рабочее место. Причем такое, где требуется очень высокая квалификация, точность и внимательность.
Женя сказал это и ждал аплодисментов. Но Лучич спокойно заметил:
— Отвергается. Рано, — и глазами уже обратился к следующему докладчику.
Вот тут-то Исаакий вдруг загрохотал своей золотой шапкой, затопал темными колоннами, забухал ступенями фасада, маня Женьку в прыжок, не давая уступить поле брани.
Женя взвился на дыбы: что значит рано, и что именно рано, если речь идет о прогрессе производства, о вытеснении ручного труда?! В каком смысле рано?!
Лучич мягким жестом руки усадил уже поднявшегося было с места начальника цеха металлосплавов и весьма охотно объяснил туповатому Ермашову, что идея — одно, а жизнь — другое. Можно, например, гарантировать полную безопасность авиационных полетов: для этого надо лишь упразднить землю. И разбиваться будет не обо что, не так ли? В изложенной идее все правильно и прекрасно, но в жизни все вкривь да вкось, потому что землю-то не упразднишь. На земле все слишком зависит от людей. Нисколько не умаляя людских достоинств, но и не обольщаясь относительно присущих русскому человеку качеств, можно проблему сформулировать так: нам свойствен романтический подход к технике! Мы приписываем ей свою славянскую душу, вознося ее, или насилуя, или бросая с легкостью за борт в набежавшую волну. А техника бездушна, ей лучше всего служит обыкновенная аккуратность, пунктуальность, неутомимость в прозаическом исполнении положенных обязанностей. Портрет, надо сказать, отнюдь не наших сильных черт. Воспарить, навалиться, скинуть в пользу незнакомого страдальца последние портки — тут нам нет равных. Но простую кнопку нажимать не с размаху или не подправлять кувалдой то, что неаккуратно засунуто и потому не входит,— на это нам надо, пожалуй, положить парочку-другую поколений, с молодых ногтей приучая детишек к трудолюбию и аккуратности. Готовить, готовить надо людей к новой технике. А пока нет привычки, разве можно рисковать? Да еще на конечной операции? Кинескоп стоит не три копейки, и лучше пусть аккуратный, пожилой, опытный, уравновешенный и непьющий Кузьмич своими pyками обрежет и запарит трубочку отсоса, чем электроробот по недосмотру дежурного наладчика слегка сместится и трахнет по результату общего многочасового труда всего цеха. Стекло все-таки. Нет уж, еще рано браться за конечные операции. Надо еще начальные как следует отработать, чтобы внедрение новой техники приносило эффект, а не урон. И надо рассматривать этот процесс не с точки зрения поощрения электрика Севы Ижорцева (которого, кстати, надо приветствовать и отметить), а как крупную государственную задачу. Изложив так подробно мотивировку своего отказа, Лучич добавил, что не уверен, достаточно ли он разъяснил слово «рано» в понятии товарища Ермашова.
В ответ на любезную речь Лучича Женя весьма остроумно изловчился назвать рассуждения главного инженера демагогией. Это произвело довольно сильное впечатление на присутствующих. Поведение Жени не одобрили. Кто-то тут же произнес панегирик Лучичу. Кто-то будто захлопал (что, вообще-то, не практиковалось на совете). Кто-то не попрощался с Женей, когда расходились, кто-то следующим утром не поздоровался. Кто-то сказал: «Грубо играешь, Ермашов». Зато юный электрик Сева Ижорцев в один миг превратился в героя дня. Ему сочувствовали, Жене — нет.
Технолог Лялечка Рукавишкина изволила громко поругаться в буфете на третьем этаже с кем-то из отдела обеспечения на тему о Ермашове. И сделала это так ретиво, настолько образно описала сравнительные, с другими достоинства Жени, что оппонент ошарашенно замолчал; а затем в состоянии, близком к стрессу, выпил бутылку кефира, заел булочкой и отправился в заводоуправление, где на ушко поделился с Дюймовочкой услышанным. На что та сказала:
— Ого! — достаточно громко.
Именно это восклицание не понравилось мне больше всего. Тут чудилась некая разнузданность, некий сомнительный намек на мужскую жизнь с сугубо личными приключениями. Ну хорошо, ну пожалуйста, размышляла я, пусть все думают что хотят, но какое право имеет эта Рукавишкина рассуждать о моем муже так, будто никто кроме нее не догадывается, каков он? Нашлась защитница. Ведь это же значит — взять и поставить человека в смешное и беспомощное положение, выворотить у всех на глазах его жизнь, подвести под всеобщее обозрение, под это «ого». Да ведь это предательство!
Женя выслушал мои мудрые рассуждения мрачно. Повел плечами, как будто ему за шиворот невзначай упала холодная капля с крыши.
— Не понимаю, — заметил он скучным голосом. — Есть человек, который за нашу идею стоит горой. Друг. Да это подарок! Не понимаю, почему ты булькаешь.
— «Человек»? Не слишком ли общо? Все дело в том, кто именно!
— Ну какая разница?
— Огромная. За «и-де-ю» почему-то она, а не Лучич, к примеру!
— Ах, против него ты бы не возражала?
— Абсолютно. Ввиду существенной разницы. Лучич все-таки главный инженер. И мужчина.
Женя встал, снял с ног ботинки и с силой швырнул их в пространство. Ботинки грохнули о дверь и вылетели в коридор. Дверь, печально скрипнув, как бы потирая ушибленный бок, затворилась.
Женя лег на раскладушку, повернулся лицом к стене и замер. Я продолжала сидеть за столом, придумывая варианты конца. Можно уйти в ванную, напустить горячей воды и лезвием Жениной бритвы разрезать вены на запястьях. Я их на всякий случай прощупала — выпуклые голубые шнурочки. Да, но у Фирсовых маленький ребенок, он может увидеть, как меня будут выносить, обескровленную, серую. Нет, детям такие зрелища ни к чему. Можно просто выйти на улицу, выбрать местечко у трамвайной линии и, когда загрохочет трамвай... бррр, это слишком публично. Нехорошо свою личную трагедию навязывать другим. Лучше так: уйти к маме, живя у нее, похлопотать о переводе в далекий город, там встретить человека, не эгоиста, умеющего любить преданно, ласково, без неистовства.
Дверь тихонько скрипнула, начав отворяться, и в узкую щель въехал Юрка, сын Фирсовых. В данный момент он изображал самосвал с прицепом. Юрка фырчал, исходя веером слюны, ныл и гудел утробно, а на прицепе вез поставленные рядком Женины ботинки. Сделав плавный разворот, Юрка подогнал прицеп к раскладушке, аккуратно сгрузил ботинки и отбыл обратно в коридор.
Я не выдержала и начала глупо хихикать.
Женя не обернулся. Его каменная спина осталась неподвижной до утра. Мы так и не помирились. Не осыпали друг друга ужасными, но зато облегчающими душу упреками, не вымолили потом у себя прощения за их несправедливость, не плакали вместе, ужасаясь себе, не целовались с обновленной неистовостью, не старались неловко угодить друг другу во исцеление причиненной боли. Мы молча проглотили крючок и, не выдавая его колющей и разрывающей внутри пытки, на следующее утро отправились за город и вот сидели теперь у Директора за столом на веранде его дачи.
В этом доме было больше прошлого, чем настоящего. И это прошлое казалось мне значительнее и глубже настоящего. Там все происходило серьезно, крупно, было насыщено смыслом эпохи. Даже простой рабочий комбинезон в трамвае обретал черты идейной борьбы. Я представляла себе ту молодую женщину, Валю, жену Директора, глядевшую с фотографии на стене: маленький берет, губы сердечком и чернобурка на плече. В ее судьбе ощущалась строгая, преданная направленность. Даже память о ней, даже зеленеющие грядки покинутой клубники были полны значения.
А в нашей жизни все выглядело каким-то необязательным! Ну что из того, спорю я или смиряюсь, страдаю или люблю, добиваюсь или отвергаю? Разве это связано с главной направленностью времени, отражает суть выбранной цели? Цель разбилась на миллион конкретных задач, и если один кто-то со своей не справляется, это незаметно в навале всех остальных. Мы рассыпались, нас стало много, и наши цели измельчали, и наши поступки потеряли значительность и потому стали неряшливее. Мы больше уже ничего не создавали все вместе. А только существовали, каждый по-своему.
Мне снова виделась Женина каменная спина, она пугала своей жесткой, мелкой непримиримостью. И вдруг бухнуло в груди: а ведь это из-за пустяка! Почему, зачем каждый из нас так фанатически оборонял свой пустяк? Ведь нет же серьезной причины для розни! А мы сразу — враги. Это страшно. Надо остановиться! Нельзя опускаться до мелочей.
Здесь, в директорском доме, все это мне увиделось ясно впервые. Беспощадность мелкости, грозящей нам. По сравнению с простым и прочным духом большого директорского дома. Тут все было подлинное, а у нас — еще нет... Мы свою подлинность еще не обрели.
Я взглянула на Женю. Его лицо обтянулось, побледнело, обрело благородную красивость, такую, что захотелось зажмуриться.
— Это чистый снобизм, — говорил он. — Лучич просто узурпировал себе право быть пророком в технике. А время пророков миновало, настало время способных ребят. Пора их хватать, впрягать, тянуть за уши. Они работники.
Директор потянулся за графинчиком, где плавал остренький язычок красного перца.
— Ты, Ермашов, знаешь, чего скажу? Ты какой-то взрывной. С чертовщинкой. Вроде поступаешь нормально, как надо, а люди вокруг тебя шалеют. Такое, друг ситный, редко в ком сидит. Тут поразмыслить надо.
— Да будет тебе, Гриша, — вмешалась Паня. — Чего размышлять, когда огонек есть? Вот когда не светится человек, тогда за голову хватайся.
— Так это огонек. А у него паяльная лампа. Перевооружен ты природой, Ермашов. Вот где загвоздка.
— Не во мне дело.
— Извини, — согласился Директор, наливая рюмки. — И я туда же, в пророки. У нас с Лучичем так уж заведено. Рассказать, как мы с ним коммунию образовали? Тридцать лет продержались. Из-за взбитой перины туч над верандой выплыло розовое солнце, как выспавшийся младенец, заалевший на одну щеку. В пологих, уже привечерних лучах заплясали первые комарики.
Я сразу легко представила себе Лучича, молодого, рукастого, широкими плечами нависшего над столом президиума, покрытого красным сукном. Сукно давало снизу отсвет на его квадратный подбородок, и лицо, должно быть, розовело, как от солнца, ползущего по крышам дачного поселка к закату.
Директор рассказывал, а я все это видела будто сама.
В цехе шло общее собрание.
Я видела стул, гнутый, так называемый венский, и сидящую на нем женщину, которую разбирали. Мужской пиджак, шершавые руки, сложенные на коленях и заметно дрожащие... Анюта Зубова, начальник лампового цеха. Партийка, еще недавно сама работница, назначенная руководить. Выдвиженка. Ох, она хорошо знала, как со своего брата рабочего состругать ленцу. Она и прикрикнуть, и усовестить «пролетарским интересом» могла жестко, без оглядки, не боясь, как иной инженер, что «запишут» в интеллигенты, во враждебные «белоручки».
И за то, что знала она все уловки лодырей и умела не давать передышки никому, Анюту в цехе не жаловали.
Так что же ждало ее на открытом партийном собрании, где каждый мог взять слово и потребовать: долой! От горлопанов, получалось, в тот миг зависела ее партийная судьба. Все было предрешено.
Лучич был техноруком у Анюты Зубовой. Более разных людей трудно себе представить. Резкая, грубо открытая, прямолинейная женщина, чуждая всяких нюансов, не признающая «личных чувств», рабочая «эмансипатка» в мужской кепке, с закушенной папиросой во рту. И любознательный, увлеченный «технарь», упоенный перспективой развития науки в недрах производства, жаждой внедрения технических идей. Они существовали в каких-то параллельных, не соприкасающихся плоскостях. Даже, казалось, не очень знают друг друга в лицо. У каждого свои дела, свои интересы, и им вроде все недосуг как следует познакомиться. Сидя за столом президиума, Лучич спокойно взирал на гудящий грозно цех, на серые фигуры рабочих, примостившихся гроздьями на лавках, на цоколях станков и даже на столах мастеров. Сквозь высокие, запыленные окна проникал, тоже становясь серым, свет солнечного дня. То глухие, то корявые, то высокие, с заливистым захлестом, голоса выступавших, казалось, не тревожили его, не достигали его безмятежно голубых глаз, чистого белого лба, бархатных, вразлет бровей. Потом он перевел взгляд и как будто впервые заметил сидевшую на стуле Анюту Зубову. Бурые пятна ужаса, проступившие сквозь толстую кожу некрасивого лица, дрожащие ладони, мявшие ситцевую юбку на коленях...
Дождавшись, когда очередной оратор прекратит голосить: «Ишь ты, надсмотрщица какая выискалась эксплуатировать рабочий класс, долой перерожденку! Не для того мы буржуев прогнали, свободу никому не отдадим!», — Лучич попросил слова.
Он сказал о деловых качествах начальника цеха. О ее воле и справедливом характере. О том, что революция лишь перераспределила доходы от производства в пользу рабочих, но само производство не изменилось, по-прежнему надо работать, а не бить баклуши. Нужна дисциплина, сноровка, бережливость, хорошая выработка. Не обойтись также без аккуратности, чистоты. Электропромышленность — самая передовая, самая технически сложная. Электролампочки — дефицит, всюду они нужны, по всей стране их ждут люди. Поэтому лодырничать стыдно. Молодой технорук напомнил, какие были штрафы при прежних хозяевах фабрики: пыль на столе — две копейки, лопнула колбочка — пять копеек, задержался на три минуты во дворе — десять копеек, и это при жалованье в день полтинник! Нынче штрафов нет, на одну сознательность расчет. А если человек несознательный, то какое средство воздействия у товарища Зубовой, кроме, извините, крепкого голоса? Ее тоже понять надо, на ее место встать. Ведь она для страны старается. Для народа. Не для себя.
И отбил! Вслед за ним голос взяли серьезные рабочие, стали возражать горлопанам. Бедная Анюта Зубова перевела дух, почувствовав, что партбилет остается у нее в кармане... что угроза его потери миновала. Жизнь постепенно возвращалась к ней, она обрела способность шевелиться и несвойственным ей робким взглядом окинула своего нежданного спасителя. Лучич едва заметно кивнул ей в ответ: не пугайся, мол, держись, ты права.
Григорий Иванович, тоже сидевший тогда за столом президиума, прижавшись спиной к стеклянной конторке начальника цеха, выслушал выступление технорука с большим интересом. Отважный парень и притом интеллигент, по сути дела, вышел один против враждебного настроения коллектива. В отсечь шел за рабочую бабу, беспартийный — за партийку. Ради дела. И тогда же для себя решил: этот парень надежный.
Он уже знал, что станет директором. Товарищи по гражданской войне, работавшие в наркомате, говорили ему: ты готовься, Гриша, подбирай людей. Чтобы это уж было прочно, надежно.
На «Звездочке» тогда намыкались с часто менявшимися директорами. Никак не мог прочно зацепиться ни один из них, не находился такой человек подходящий. И менялись главные инженеры. Одно время был даже какой-то англичанин, Бруно Джонович, из иностранных спецов, помогавших осваивать заграничное оборудование , купленное за валюту...
— Да погоди ты, погоди, Гриша! — вдруг взбунтовалась Паня. — Куда ты в такую тьмутаракань. Они ребята молодые, будущим своим интересуются, а он им старую балалайку.
— Так это ж былое, Паня. Былое надо знать. И я ему вот, Ермашову, этому упрямцу, глаза хочу на Алешку Лучича раскрыть.
Году в двадцать девятом (только только отдал концы нэп) прислали к нам «для исправления» бывших нэпменов, уволенных из учреждений, да через биржу труда человек пятьдесят амнистированных уголовников. Бывшие нэпмены работали хорошо, а вот «прочие» все стремились исчезнуть. Их руки абсолютно не выносили никакой работы. Сборщицам приходилось за них выполнять норму, своим горбом тянуть план, оставаться после смены. Так вот было на участке Лучича. Он сам, инженер, работал у машины по две смены. Говорил: я двойного роста, двойной силы, ничего удивительного. А девчата-сборщицы, наши звездовские, говорили — но зарплата у тебя одинарная, мастер! В конце концов, уголовники растворились все до одного. Напрасные хлопоты были, напрасные надежды, что станут людьми. Зря мы силы потратили, ни один, понимаешь, за завод не зацепился.
Но наша «Звездочка» при всех подобных «нюансах» первой в Москве досрочно выполнила пятилетку. И получила орден. Ну, это вы знаете. В жизни, Ермашов, только доска плоская.
Григорий Иванович опять звякнул пробочкой графина, налил и опрокинул рюмку, совершенно машинально, не позвав с собой никого, и за этим открылась привычка одинокого человека. Глаза Директора набухли, обрякли веками. Он сгреб в кулак свои губы, пригорюнился, застыл так, опираясь на локоть...
— Сколько человек с собой всего тащит, — проворчала Паня. — На дьявола-то такие тяжести. Надо бы так: отошло — и из памяти долой! Опять человек легкий, чистый, весь тут. Тогда бы и старости не было. Старость — это воспоминания. Только собственные, твои. Все помнят общее, а ты — еще что-то, твое, особенное. А в этом она и сидит, твоя старость. Вот бы особенное, твое, вон, вон из головы. И только о том думать, что сейчас каши просит.
Она встала, загремела тарелками.
Директор посмотрел на нее снизу, и глаза у него сделались, как у печального добермана. Но все же проскальзывало в них легкое, с хитрецой выражение.
— Ишь ты ловкая какая. А если старость в том, что человек все больше там остается? Не с собой тащит, а сам у тоболков сидит? И поезд пошел, а он отстает, толчется возле поклажи, потому — куда ему ехать от собственного, нажитого? Там ему все понятно, все дорого, всем владеет. А здесь непонятного уже много, уже чьи-то владения иные появились.
Тут Женя, пропустив, видно, мимо ушей конец разговора и углубленный в прошлое, открывшееся ему в рассказе Григория Ивановича, неожиданно спросил:
— А что Зубова, долго ли потом продержалась, после защиты Лучича? Ведь все равно небось выгнали?
Директор оборотился к нему, локоть неловко соскользнул с края стола, и Григорий Иванович будто нырнул подбородком. Но тут же вынырнул. Он приблизил к Женьке глаза, полные непонятной мне тогда жалости. Теперь, спустя много лет, я склонна приписывать Григорию Ивановичу черты провидца, но это скорей он просто умел хорошо разбираться в людях и понимал, какие чувства ими движут. В начале судьбы Лучича на заводе было много схожего с судьбой Жени, и это мне тоже бросилось в глаза. Казалось странным, что на производстве, где время так необратимо все меняет, может хоть что-то повториться. Тридцатые годы — одна эпоха, пятидесятые — совсем иная. И вместе с тем что-то извечное, людское, неподдающееся изменению, как рождение, смерть, любовь, — как краеугольные камни бытия — что-то здесь было такое же в причине этого повторения. Поэтому Женя спросил о чужой судьбе, подсознательно желая, быть может, заглянуть в свое собственное грядущее.
Жалость в глазах Григория Ивановича мелькнула, исчезла, дав место доброй усмешке.
— Ну, она-то продержалась. И неплохо. Пошла по профсоюзной линии, работала потом в ВЦСПС, достигла крупных постов. Отличный была товарищ. А с Лучичем они поженились.
— Как?! — воскликнула я невольно. Уж очень не вязялся образ крупной работницы в мужском пиджаке с той маленькой женщиной с собачкой-лакомкой на поводке, которую я видела в доме. — Вот эта, тихонькая такая, мышка?
Директор покачал головой.
— Нет, нет. Аня-то умерла. А с Соней они уж после ее смерти... Да, пожалуй, всего года четыре.
В саду попискивали птицы, уже приноравливаясь к ночлегу, перепархивая с ветки на ветку, ища уюта, пока солнце не окончательно село за горизонт.
— Так вот, Ермашов, дело-то такое... — сказал Директор. — Ты, кажется, с Яковлевым дружишь. А он станет директором вместо меня. Во как, а?
Он негромко засмеялся.
— Ему я без сомнений завод передам. Он лучше меня.
Паня свирепо грохнула вилками.
— Кто лучше тебя будет, Гриша, дурья голова! Таких теперь штампуют, по-твоему? Сдурел...
Мы с Женей молчали ошарашенно. У меня даже загудело в ушах.
— Меня выгоняет техникум, Паня. — Директор вытянул руки вперед, положил на стол ладонями вниз. — Четыре класса приходской школы и заводской техникум, да и тот я закончил в тридцать девятом. А ныне у нас на шестидесятые лета дело заворачивает. То лампочки мы делали, а сейчас, вона спроси его, Ермашова, он кинескопы какие осваивает? Я к нему в цех зайти боюсь!
— А ты рабочих спросись! Они те объяснят, технарь ли им нужен.
Паня точно так, как он, облокотилась на стол, захватив рукой губы в горсть. Она все сказала, и сама поняла, как слабы ее слова, ее убежденность, ее уговоры против высшей силы неминуемого.
И тут случилось невероятное.
Директор встал, подошел сзади к стулу, на котором сидел молчащий, подавленный Женька, и положил ладонь на его двухцветные волосы, спереди светлые, сзади темные. Просто положил на темечко, как маленькому.
— Эх-ма... у каждого свое оружие...
Я несколько раз звонила Жене на «Колор», но незнакомый голос новенькой секретарши, одной на двух замов, отвечал надменно, что он вышел. Можно было сообразить, что я ей поднадоела и нарушаю своими звонками тишину в маленькой проходной комнатке, где она сидела возле двух деревянных лакированных дверей. Женин сосед занимался вопросами координации и находился в командировке, Женя «вышел» еще с утра, и рабочий день мог бы сложиться для нее довольно сносно, если бы не мои изнуряющие звонки. Но у девочки вполне хватало присутствия духа, чтобы отвечать мне без раздражения, со спокойной издевочкой. У нее было море бездонное и спокойствия, и издевочки, превосходство нерастраченности, беззаботности над моей издерганностью и израсходованностью.
Как сравнение, возникла Дюймовочка: резкая, злая, она не жаловала Женю, так и не приняла его после Директора и Яковлева, могла нагрубить, могла не исполнить, но всегда точно знала, где директор и чем занят, как его найти и можно ли оторвать от дела, какому вопросу дать ход в данный момент или позже. Она была профессионалкой и принадлежала «Звездочке» точно так, как Фестиваль или Лучич, или сам Директор.
А эта равнодушная девочка принадлежала только себе. Ее сверстник — завод «Колор» — вовсе не представлялся ей судьбой, делом, а лишь местом работы, равным всем другим «точкам» получения зарплаты.
Она не знала, куда и зачем «вышел» Женя. И не интересовалась. Пегий мужичонка, ничего особенного. Побежать поискать? Она не может. Зачем это ей? Она вообще никуда не бегает. Рост сто семьдесят пять, каблуки семь сантиметров. Прямые волосы, закрывающие лицо. Вельветовые брючки. Французская тушь.
...Кто это? Кто мне привиделся за спокойным голоском, слегка растягивающим «а» в некой истоме? Света. Стоит посреди сцены, как свечечка, в сарафане и кокошнике, гортанным голосом выводит частушки.
Частушки по всем правилам: собственного сложения, на темы заводского дня, едкие, задиристые. Зал довольно коротко грохает барабанным хохотом. В частушках есть про соцобязательства и ОТК, которое их не читает и потому не знает, что монтажницы работают без брака, и продолжает браковать изделия (хохот, аплодисменты); есть про электролампочки, снятые с производства как устаревший вид продукции, и про отставших от техпрогресса москвичей, не умеющих вкручивать в люстры вместо перегоревших лампочек неоновые трубки (аплодисменты, переходящие в овации). Пропев куплеты, Света собралась уходить со сцены, но ее не отпускали: «Еще! Спой, Светик, не ленись!» Она осталась. Опустив вдоль тела руки, чуть наклонив к плечу голову, начала петь «страдания»: «Ох, если б были в груди дверцы, посмотрела б, что на сердце», «Так нельзя, миленок, делать: ко мне ходить, к другой бегать». Зал, в котором задето было что-то исконное, деревенское, от предков, дышал восторженно. Она нравилась и должна была очень нравиться мужчинам.
Я покосилась на Женю, сидящего рядом со мной, чтобы проверить свое впечатление, но мое внимание привлек вовсе не Женя, а Сева Ижорцев по левую руку от него. Вот уж кто выглядел сраженным!
В те дни Сева сильно привязался к нам, особенно к Жене. Женя помог парню получить свидетельство бриза на электроробот, и хоть на «Большой дороге» его изобретение не было осуществлено — Лучич так и не согласился, — на молодежной технической выставке Ижорцева наградили грамотой за модель установки. Модель они изготовили вместе с Валей Фирсовым, который в таких случаях не заставлял себя уговаривать — сам рвался.
По настоянию Жени Сева поступил в вечерний институт. Женя даже взялся и поднатаскал его накануне приемных экзаменов.
Дома у Ижорцева были сложности. Отец, контуженный в боях где-то в Австрии, не выносил ни малейшего шума и поэтому мог работать только ночным сторожем, хоть физически казался совершенно здоровым. В их домике и летом окна закрывались наглухо, иначе отец не мог существовать. Так что через край у них не переливалось, и давило вынужденное одиночество. Поэтому Сева так тянулся к нам, к нашему молодому дому. Но он вовсе не был назойлив. Временами исчезал, мы не позволяли себе спрашивать куда, думали — домой. Не догадывались, что он по-прежнему бывает у нашей хозяйки на Басманной.
И вот я увидела Севу со стрелой в сердце — ни малейших сомнений, что в него только что ловко угодил Амур. Парень весь осел, как хрупкая конструкция, обреченно и изумленно светился карий глаз, видный мне в полутьме зала, этим глазом Сева только и держался за лучезарную свечечку, колеблющуюся в пламени на сцене, чтобы не рухнуть и не рассыпаться окончательно.
Затем возникает в памяти жаркий день зрелого лета. (Я вспоминаю дальше, дальше, только бы не думать, куда «вышел» Женя.) Американская промышленная выставка в Сокольниках. Круговорот людей на тесной площадочке у станции метро, дружный поток по аллеям парка, к павильонам. Сева выстоял очередь за билетами, и мы идем вчетвером: с нами Света, уже как неотторжимая спутница Севы. Она его чуточку выше ростом, если на «шпильках», остреньких высоких каблучках, по новой моде, и совершенно вровень, если в плоских туфельках-тапочках уже миновавшей моды пятидесятых годов. И Света плюет на моду, ходит на пятках, плечом прижимаясь к плечу Севы, слегка приседая и горбясь, чтобы чуть снизу заглянуть в его карие глаза. Сева же сделался вдруг здорово красив — темная точечка родинки у уголка приподнятых вверх губ, оливковая кожа и народившийся самодовольный басок обожаемого мужчины. Света своей любовью накачивает в него уверенность, сознание неотразимой желанности.
Света — монтажница в цехе радиоламп. Там изделия с каждым новым заказом все более мелкие, как того требует научный прогресс. От работы с микроскопом у нее иногда глаза воспаленно блещут, и тогда похоже, будто она просто плачет от любви. А может, она действительно истаивает любовью, и мелкие изделия тут ни при чем.
Одним словом, мы идем вчетвером, полыхающим молодостью тандемом, даже мой драгоценный сухарь Ермашов выпускает в мою сторону розовые лепестки. На свете есть любовь, ее достаточно, чтобы заполнить все помыслы и стремления человека, окунуть его по самые уши, понаставить главных вопросов бытия. «Ох, если б были в груди дверцы...» Разве можно еще мыслить хоть о чем-нибудь? Мы идем, мы гуляем, мы таем, мы счастливы.
И мы приближаемся... ох, если б я знала тогда, к чему приближались мы!..
На Американской выставке две главные сенсации: пепси-кола и цветной телевизор. «Как, вы еще не видели? — говорят друг другу москвичи. — Обязательно сходите! Это надо посмотреть. Это невероятно, удивительно. Ну, американцы! Все могут! А нам это и не снится. Нет, где там... Отстали...» — «Извините, позвольте вам напомнить, не кажется ли вам, что, завоевав первыми космос, мы...» — «Вот именно, именно. Космос мы можем. Вполне допускаю, что первым в космос полетит наш человек. Мы вообще можем крупное, но такую мелочь, как цветной телевизор, — увольте. Человек в космосе — одно понятие, а человек дома, у телевизора — совсем другое. Их миллионы! Это мы с вами. Человек в космосе мне, извините, нравится абстрактно. А цветной телевизор конкретно. То — для необозримого будущего, такого необозримого, что не ощущаешь его пользы. А это — для нас с вами, для того, чтобы с нами общаться, говорить, информировать, влиять на наши чувства, вкус, культуру, бог мой, объединять нас в народ, живущий общественными понятиями. Недальнозорко такие вещи игнорировать. Американцы не игнорируют. А у нас кишка тонка. А пора уже усвоить, что за понимание борются, его завоевывают. Прошло время, когда на нас действовали приказом. Отпала и высшая необходимость отказывать себе в простом насущном «по объективным причинам». Американцы сидят перед цветным телевизором. А мы — нет. Сейчас это важнее космоса».
В бурлении таких разговоров вокруг нас мы двигались по тесно запруженным толпой аллеям к павильону, где были выставлены чудеса новой промышленной электроники.
...Подумать только, как быстро летят годы. И вот что забавно: быстрее, чем мы меняемся в возрасте, переходим из одной весовой категории человечества в другую. Мы с Женей еще не успели обрести примет «третьего возраста», а на нашем веку люди утратили мифическое благоговение перед чудесами науки. Они уже не язычники науки, а просвещенные потребители вещей. Их больше не сбивает с катушек самая невероятная идея, а беспокоит лишь «ноу хау» — «знаю как» это сделать.
Ноу хау — проблема времени. Всех интересует, как это приспособить к быту, приноровить для удобства человека. Чтобы взять и пользоваться.
На нашем веку самые невероятные чудеса, казавшиеся еще недавно фантастикой, не удивляют и ребенка. Человечество показало, что оно на многое способно, так чему же теперь удивляться. И человечество как ребенок, которого задабривают подарками в неблагополучной семье, завалено теперь всевозможными вещами. Его интересует только скорость, с которой эти вещи с выставки попадут ему в руки.
А тогда, в пятьдесят девятом, у цветного чуда еще толпились язычники, умевшие бескорыстно восхищаться. Многие видели цветное телевизионное изображение впервые. Что касается меня, то я была в некоторой степени приобщенной: в лаборатории Ирины Петровны Яковлевой уже был сконструирован цветной кинескоп, а ее заказ на разработку стекла для его оболочки выполнялся в нашей лаборатории. Когда опытный образец изготовили, Ирина Петровна пригласила меня на маленький сабантуйчик. Мы пили шампанское, в центре комнаты на маленьком стенде сияла цветной картинкой трубка. Изображение на ней было пока неподвижное, но очень яркое и четкое. Праздник вышел не очень веселый. Все поговаривали с грустью о том, что до промышленного внедрения еще ой как далеко, слишком дорого, дорого, дорого пока получалось.
Кто-то рассказал, что американские специалисты подсчитали: наше народное хозяйство, претерпевшее военное разорение, сможет достичь необходимого для промышленной электроники уровня лишь к двухтысячному году.
Мне это врезалось в память: к двухтысячному! Сорок лет потребуется, чтобы каждый, кто захочет, мог пойти в магазин и свободно купить цветной телевизор?..
А вот американцы уже показывают его на выставке. Их промышленность достигла уровня, обладает средствами и материалами, да и специалистами. Крупнейшие ученые, оставив растоптанную фашистами Европу, нашли приют на спокойном заморском континенте. Американские промышленники используют свои преимущества, сохраняя за собой монополию, никому в мире пока не продают ни лицензий, ни оборудования. Цветной телевизор производят только американцы!
Они показывают, мы смотрим. Толпа восхищенных посетителей окружает молодого симпатичного американца, сотрудника выставки, весело щелкающего переключателем программ.
Этот парень заметно, на целых полголовы, выше стоящих вокруг него людей. В те времена еще ощущалась внешняя разница, мы были мельче породой, мы, оставившие позади две войны, две разрухи, голод двух поколений и нечеловеческое напряжение сил, чтобы создать индустрию. И одеты мы были неброско, и зарабатывали тогда не густо, и еще не привычны были к разнообразному благу вещей. Американец привлекал свободной и открытой манерой держаться, приветливостью, перламутровой улыбкой. Это был удивительно простодушный парень. Светлые короткие волосы идеально расчесаны на тонкий косой пробор, рукава белоснежной рубашки закатаны по локоть, узенький аккуратный галстук булавкой пристегнут к рубашке, на грудном кармашке эмблема выставки. Он успевал отвечать довольно чисто по-русски на все вопросы, двигался быстро, моментально оборачивался на голос и не подозревал, видимо, что на свете существуют усталость и раздражительность. И о себе, когда его спрашивали, охотно сообщал, что он студент, на выставку приехал подработать в каникулы и заодно совершенствоваться в русском языке.
Американец был так обаятелен, так хорош, что я обернулась к Жене, поделиться впечатлением... и увидела его бешеные, торчащие глаза.
В первый миг я испугалась. Не поняла причины. Что случилось?! Никто не задел Женю, не мешал ему, ни о чем с ним не спорил... Я схватила его за руку, придвинулась к нему. В толпе можно было незаметно прижаться. Я прильнула к железному плечу. Приникла к каменной его оскорбленности. И тут же сообразила. Это, действительно, казалось несправедливостью: люди, стоявшие перед цветным экспонатом, были теми, кто принял на себя главный удар. Во всем мире — они, эти самые. Все без исключения. Трудно даже объяснить, что это значит. Это надо вот так, по мелочам, по подробностям, лишь подробности дают истинный объем. Никто из нас, ни один человек не смог бы сказать: «Война меня мало коснулась». Такое невозможно. Прошло четырнадцать лет со дня Победы — а однажды я вошла в свою лабораторию, там сидели мои лаборантки, уже слегка разрыхлевшие женщины средних лет, и плакали, читая какое-то письмо. Письмо пришло с Урала и, сказать по правде, в нем не было ничего особенного. Просто упоминалось, как под Новый сорок второй год звездовцы прибыли туда эшелоном и разгружали вагоны в чистом поле, как через полтора месяца пустили там производство, какой это теперь большой хороший завод. И живется все лучше и лучше, землянки забыты давным-давно. Но есть печаль и тоска по родной «Звездочке». По Москве.
«Пройти бы хоть разок по нашей улице, войти в мраморный подъезд, свидеться и обнять вас, мои дорогие...»
Мои лаборантки плакали, плакали, хоть уже давно не могли припомнить лица написавшей им письмо подруги.
Это все еще была война...
Она была и в самых неожиданных вещах. Например, в шторах.
Как-то вечером Валя Фирсов, ни с того ни с сего разговорившись, рассказал мне про шторы. Весной сорок пятого на «Звездочку» прибыл из Германии эшелон с оборудованием. В заводском дворе принялись за распаковку станков. Отбили у первого ящика крышку и увидели, что ящик до краев набит какими-то платьями, ботинками, детскими вещами... «Станка даже, — говорил Фестиваль, — не было видно». Сначала подумали — ошибка. Но среди тряпья было засунуто письмо от солдат, готовивших эшелоны к отправке: «Дорогие наши женщины! Это одежда из разбомбленного магазина, хозяин которого сбежал. Четыре года шла война. Мы сражались, вы работали, помогали нам. Мы знаем, что вы обносились, что детишки ваши раздеты. Поэтому примите наш солдатский дар и помощь. Разделите все это между собой по справедливости».
По справедливости.
Валя Фирсов в разделе вещей участвовать отказался. Сказал, что у него никого на фронте нет. Отец, рабочий меховой фабрики, болел сильно легкими, его на войну не взяли. А мать, родив зимой сорок второго последнего ребенка, тоже никак не могла оклематься, хворала, вынуждена была уйти со «Звездочки» и шила дома рукавицы для армии. Шестнадцатилетний Фестиваль сказал, что он не женщина и ему ничего не надо. Но работницы окричали его, напомнили про мать и семьищу и в конце концов ему достались по жеребьевке шторы. «Бери, бери, — сказали женщины. — Мать из них младшеньким рубашек нашьет». Валя принес домой шторы, кинул матери на колени, сгорая от смущения. А она... да господи, никогда у них в жизни никаких штор не было. Окна в бараке закрывали газетами да синей истрепавшейся бумагой светомаскировки. Мать всплакнула, обняв «кормильца». «Повешу! — решила она. — Ишь, какие шелковые. Пускай висят, красиво будет».
Так жили.
По справедливости.
Справедливо ли было, что теперь эти люди, сумевшие жить так, стояли вокруг цветного телевизора, как возле недоступного им чуда техники, а специалисты фирмы, не продававшей никому в мире лицензий, чтобы сохранить выгодность своего положения, подсчитывали, что Советский Союз «догонит уровень» лишь в двухтысячном году?..
Мы с Женей начали выбираться из толпы не сговариваясь, не задав ни одного вопроса симпатичному Джонни. Он-то тут был ни при чем и на то, что нас интересовало, ответить не мог. Когда Ижорцев со Светой догнали нас в боковой аллее, Женя уже успокоился.
Мы ели сардельки в павильоне, попробовали пепси-колу и забрали с собой на память высокие бумажные фирменные стаканчики. Потом, в какой-то момент, когда Женя и Сева Ижорцев шли впереди, а мы со Светой сзади, она придержала меня и сказала: «Я ужасно, ужасно счастлива. Знаете, Вета... вчера мы с Севой решили пожениться. Это здорово, да? Я просто не могу вынести такого счастья. Завтра идем подавать заявление. Знаете, что он спросил? Будешь ли ты мне верна до гроба... Он говорит, что любовь держится только на верности. И если хоть разок, хоть чуточку на кого-то посмотришь, это уже не любовь. Вы не сердитесь, что я с вами делюсь? Господи, даже не верится. Я только Евгения Фомича немножко стыжусь. Он у вас такой серьезный, принципиальный. Ему это может показаться смешным. А Севка его так уважает».
Играл вокруг нас летний день, и мы были молоды. Впереди нас по аллейке шли наши любимые. Да, так это начиналось. Такими мы были. И так началось.
Еще несколько раз позвонив на «Колор», но так и не сумев выяснить, куда Женя «вышел», я едва дождалась конца рабочего дня и помчалась домой. Сердце уже подсказывало мне, что случилось самое ужасное. Еще в метро я мысленно намечала, куда позвонить и что предпринять. Профессор же предупреждал! Пока не пройдет период адаптации, никаких возбуждающих эмоций. Избегать.
Добравшись наконец до дома, я бегом миновала наш респектабельный вестибюль, поднялась на ужасно медленном лифте, открыла ключом дверь квартиры. Стояла тишина, и уютный запах нашего жилья, сохраненный плотно закрытыми окнами, хлынул мне навстречу, будто соскучившись в одиночестве.
Однако в большой комнате что-то происходило. Я двинулась туда, осторожно ступая. В углу светился бесшумный цветной экран «Рубина». А перед ним, съежившись, вжавшись в мягкую глубину бархатного кресла, сидел Женя. Он не спал, не шевелился, смотрел на беззвучно мелькавшие красочные образы.
Я обошла кресло кругом, встала возле Жени на колени. Обхватила своего мужа руками. Мы оба молчали.
На экране «Рубина» появились пальмы и голубой залив. Пестрый африканский город. Веселая разряженная толпа била в барабаны, плясала, тряся бедрами. Реяли разноцветные флаги. Черный-пречерный негр говорил речь, мелькали зубы и розовые ладони поднятых рук.
— Ты дома, — сказала я. «Ты жив», — подумала.
По зеленому газону бежали люди с автоматами. На вираже тормозили полицейские мерседесы. Кто-то падал на тротуар, закрывая голову курткой. Красивая женщина в меховой шубке, держа под руку элегантного мужчину, сходила по трапу авиалайнера. Мир вопил, дрался, жадничал. Все труднее становилось пробиться разумному голосу добра и миролюбия. Мы с Женей молчали и смотрели на мятущиеся картины усилий человечества, отраженные цветным экраном. До двухтысячного года было еще ой как далеко...
Зазвонил телефон. Я встала, подошла, сняла трубку.
— Елизавета Александровна? — это был Рапортов. — Ну как там наш Евгений Фомич?
— Спасибо, нормально.
— Пошли его к чертовой матери, — раздельно произнес Женя. Рапортов услышал.
— Извините, — сказала я. — Он, кажется, уснул.
— Превосходно. Пусть отдыхает, — короткие гудки отбоя.
Женя протянул руку из кресла, согнувшись, тяжко вздыхая, включил звук мультипликашки. Смешной силач-волк никак не мог справиться с простаком и симпатягой зайцем. Я подумала, что во всей этой эпопее волко-заячьих отношений произошел перебор, и накопившаяся лавина неудач некогда грозного волка уже превратила его в жертву непобедимого удачливого зайца. А люди этого не замечают, привыкнув считать волка хулиганом, и радостно хохочут над его ужасными шишками. Хорошо на экране. В действительности-то шишки могут стать смертельными.
Я вышла на кухню, чтобы приготовить Жене чаю с мятой, как рекомендовал профессор, выписывая его из больницы. «Отныне девизом вашей жизни, — повторил он, — должно стать одно слово: избегать».
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:







