ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Богуславская Зоя
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сысоева Татьяна


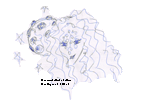
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Соротокина Нина 1991
Очень я люблю ирландских сеттеров. Все они, как говорит знакомый охотник, «паратные, высокоперёдые», они выносливы, энергичны, позывисты на свисток. А как они работают в быстром галопе! Поднимает голову, пройдет легким шагом и встанет в стойку, словно окаменеет. С сеттером хоть куда — и на бекаса, и на дупеля, а то и на глухаря.
А я люблю их за мягкие уши, за взгляд, которым они могут сказать гораздо больше, чем все четвероногие, за уменье слушать и сопереживать. И главное — это мой пес, любимый пес, хотя ему я обязана тем, что по сию пору несу крест, название которому «старая дева».
Не могу сказать, что это самый грустный удел на свете — есть работа, друзья, весна, она тоже для всех, и вообще жить стоит. Но много в жизни вечеров, когда стучит по жести подоконника дождь, перекликаясь с подтекающим на кухне краном, и так тихо, что звуки капель кажутся единственной в мире реальностью, а все остальное — молчание и пустота.
Пережить такие вечера помогает хорошая книга, голова собаки, уткнувшаяся в колени, и сознание, что если бы не мой сеттер, то я несла бы сейчас другой крест, название которому «разведенная жена». Кто соразмерит тяжесть этих крестов?
Итак... Случилось это пять лет назад. Была у меня тогда любовь, и звали ее Аркадий. Трудно беспристрастно описать человека, которого любила когда-то: молодой, красивый, может, и не красивый, а ладный, как говорят о лошадях или собаках — «хороших кровей», так и в Аркадии чувствовалась порода. Приобрести легкость походки, уменье носить свитера и лихо обращаться с гитарой помог ему целый ряд спортивных дисциплин. Он был перворазрядником по гребле, второразрядником по теннису, а еще занимался слаломом, и водными лыжами, и, кажется, биатлоном. Но все это между делом. Главное — он был талантливый человек, аспирант, физик. Наука была его храмом, в который он вот-вот собирался войти, принеся к жертвенному алтарю свой вклад — диссертацию.
У Аркадия была наука, а у меня Сид. Я жила тогда в маленькой комнате коммунальной квартиры на шестом этаже. За месяц или за два до того, как горизонт озарился появлением Аркадия, я не купила давно задуманного пальто. Мне было двадцать восемь, в этом возрасте уже начинаешь ощущать одиночество, и я, почувствовав себя ротшильдовски богатой (деньги на пальто копились долго!), приобрела махонького щенка, ирландского сеттера, которого назвала Сидом за красоту и гордую осанку.
Что можно сказать про эту покупку? Собачник меня сразу поймет, несобачнику все равно не объяснишь. Одно скажу — собаку иметь трудно. Она создана не для коммунальной квартиры и не для моей зарплаты. Огорчений от собаки столько же, сколько радости, и это при условии, что радость безгранична.
Любовь захватила меня врасплох в разгар материнских чувств к Сиду, и я разрывалась между желанными встречами с Аркадием и обязанностями по отношению к собаке. Я всегда спешила домой — гулять с псом, кормить его, подтирать лужи и усмирять соседей, обалдевших от собачьего визга. Аркадий прощал мне укороченные свиданья, но привязанности к моему щенку не испытывал, а точнее, испытывал легкую неприязнь. Ну сеттер, ну красивый, ну «высокоперёдый», а танцевать-то вокруг него зачем? Есть дела поважнее.
Самыми важными делами на свете Аркадий считал свои собственные. Не берусь судить, действительно ли наше знакомство совпало с полосой неприятностей у него на работе, или просто он с полным доверием приподнял передо мной завесу тайн, обнажив научные закулисные дрязги, знаю только, что сразу после первого поцелуя я буквально потонула в его неприятностях.
Была весна, и яблони устилали белыми лепестками тропинки скверов, и мы ходили, обнявшись, по этим тропинкам, он говорил — я слушала. Как красиво, логично и значительно умел он говорить!
Чем конкретно Аркадий занимался, я так и не поняла, слишком сложно, хотя он много раз пытался мне «все объяснить». Гораздо легче мне было разобраться в бытовой стороне вопроса, и я поняла, что дорога к храму (Науке!) извилиста, крута и камениста, что установка, на которой ставится его эксперимент, — это «большая телега», и что никто не хочет толкать эту телегу, но каждый норовит провезти на дармовщинку свой научный скарб, а главное, я узнала, что очень много есть любителей вставлять палки в колеса этой тяжкогруженой, скрипучей, плохо смазанной телеги.
Все серьезно работающие люди знают этот отряд «палко-колесо-втыкателей», но у Аркадия их количество явно превышало всякую доступную воображению норму. Судя по его рассказам, все стояли с палками — и руководитель темы, и завлаб, и свора аспирантов из конкурирующего отдела, и мастерские, и даже бухгалтерия, и даже начальник отдела кадров. Рассказывая об этих людях, Аркадий темнел лицом и сбивался на брюзжащий стариковский тон, а потом начинал ругать все подряд — соседа по общежитию, вчерашний фильм, завтрашний день... Я не выдерживала и говорила: «Это безобразие! Тебе не дают работать. Пойди к дяде, посоветуйся».
Я очень хотела помочь Аркадию толкать его телегу и всей душой осуждала дядю, забывшего родство. Дядя-академик заведовал в том же институте отделом, но направленного интереса к работе племянника явно не проявлял.
Аркадий отвергал мои советы. «Я сам, — говорил он. — При чем здесь мой дядя?» Мне очень нравилась в Аркадии эта независимость.
Уже потом я догадалась, что и выбор профессии, и друзей, и сам стиль жизни Аркадия находились в полной зависимости от этого дяди, который в глазах племянника был вкладом, положенным на его имя самой природой. Но это потом... А пока был май и цвели яблони.
И вот однажды где-то в середине лета Аркадий предложил мне поехать на дачу познакомиться с дядей и прочими родственниками.
— Не бойся... Веди себя просто, естественно. Ты это умеешь, — готовил меня Аркадий. — Они славные люди. Не бойся.
— Я не боюсь, — врала я.
Я не только боялась, я очень боялась. Меня представят важной родне, а это значит, что наши отношения с Аркадием вступают в новую фазу. Кроме того, он дал мне понять, что решился, наконец, на разговор с дядей, «глобальный» разговор и мое присутствие должно было придать этой беседе непринужденный семейный характер. При желании можно было уловить в тоне Аркадия и намек на то, что дядя сам предложит свою научную помощь, так сказать, в качестве свадебного подарка. Но я не уловила этого намека. Мне было не до того. «Я буду естественной, — повторяла я, как заклинание. Я буду очень естественной».
Ехать намечено было в пятницу вечером. Для путешествия дядя ссудил нам свою машину, роскошную, как катафалк. Машина нелепо выглядела в нашем обшарпанном дворике и манила к себе, как посул, как обещание приобщить к новой прекрасной жизни. И не академические дачи были пунктом нашего назначения, нет, мы ехали на Олимп, на современный пир богов, где гудят реакторы и синхрофазотроны, где люди веселы и гиниальны и знают что-то такое, что нам, простым смертным, не понять, не осмыслить, не охватить.
В таком ожидании чуда я предстала перед Аркадием, держа на поводке Сида.
— Как, и он с нами? — удивился Аркадий.
— Мне не с кем его оставить, а пес не может жить один двое суток.
Аркадий с сомнением покачал головой, что-то прикидывая в уме и разглядывая Сида, словно видел его впервые.
— Ну, ну... А подстилка? Он же испачкает сиденье.
Пока я бегала за одеялом и забытой миской, Сид успел обежать двор, заглянуть на стройку, вывалялся в грязи и извести и, наконец, удовлетворив свое любопытство, забрался под машину и принялся грызть шину. Аркадий безучастно наблюдал за суетой Сида, продолжая машинально вытирать влажной тряпкой, будто поглаживать, глянцевый бок дядиного добра. Я отобрала у Аркадия тряпку и принялась за Сида — он только пофыркивал.
Наконец мы с грехом пополам расположились на заднем сиденье. Как ни мала моя комната, машина показалась Сиду еще теснее, и он стал рваться в заднее окно, царапая кожу обшивки. «Ох, не стоило его брать», — подумала я, но мы уже ехали.
Москва подмигивала нам светофорами, мы подолгу стояли у каждого, и мне казалось, что их слишком много, потому что каждая остановка, повизгивание тормозов, чужие лица, мелькавшие в пристроившихся рядом машинах, беспокоили Сида, и на вопросы Аркадия я отвечала невпопад, короткими фразами. Разговора не получалось.
Когда проехали окружную, наступили сумерки, и начал накрапывать дождь. Вначале маленький, он потом припустил вовсю и уже не каплями обозначился на стекле, а сплошной водяной завесой закрыл от нас деревушки, прижавшиеся к обочине, и поле, и лес. Фары освещали небольшой кусок шоссе, на котором плясали, бесились струи воды.
Мы озабоченно молчали. Аркадия беспокоила дорога, а меня Сид. Он, казалось, спокойно лежал под рукой, но глаза его, как у кошки на ходиках, с механической точностью двигались туда-сюда, объединившись в одном ритме с шаркающимися дворниками. Боясь этих поблескивавших восторгом глаз, я слишком крепко прижала к себе собаку. В ответ на мою непрошеную ласку тело Сида вдруг напружинилось, и в следующий миг лапы Сида вдруг легли на плечи Аркадия. Не поймай я взметнувшийся перед лицом хвост, пес перемахнул бы через спинку прямо на руль.
— Держи его, держи! — отчаянно крикнул Аркадий. Машина вильнула задом, грозя выскочить на обочину. — Ты что, с ума сошла? В кювет захотелось?
— Аркаш, это же не я на тебя прыгнула. Это Сид.
— Сид, Сид... Корнель — Расин! Представление устроили!
— Аркаш...
Шоссе мокрое, говорил Аркадий, а он непрофессиональный водитель. У него нет безусловной реакции. Видимость ни к черту, добавлял он, а я удивительно безответственна. Собак вообще нельзя возить в автомобилях, и я могла бы это сама сообразить. Поэтому Сида надо было оставить дома. Присутствие Сида в машине может стоить жизни не только нам, но всем попутным и встречным.
Машина катилась осторожно, будто ощупью. Я молчала, гладя Сида. «Мы виноваты, виноваты, господи, как мы виноваты, а ты прав. Только зачем так долго говорить об этом?»
— Больше он не прыгнет, Аркаш. Далеко еще? Может, ему надо выйти...
— Пусть терпит. Я поеду быстрее. Только бы не ГАИ, — и он погнал машину.
Нас задержали в маленькой деревушке, где скорость не должна была превышать тридцати километров в час. Мокрая рука потянулась в кабину за документами.
Аркадий знал, что с милицией нельзя говорить, развалясь на сиденье, а лучше стоять рядом и соглашаться. Он быстро нырнул в дождь, и все бы обошлось, если бы не Сид, который дернулся, поднял шерсть дыбом и залаял. Он совсем недавно выучился лаять у соседской пузатой таксы. Лай был громкий, с богатыми модуляциями, сходящими на тоскливый вой. Последнее время он вообще любил попробовать голос без всякой причины, а сейчас он лаял на погоду, на тесноту, на свое отекшее прижатое к сиденью тело. Милиционер решил, однако, что лают именно на него, а в ГАИ тоже люди, и дождь действует на них, как на всех прочих, неблагоприятно, По тому, как начал повышаться его голос, я поняла, что он старается перекричать Сида. «Зря это он», — подумала я, засовывая голову собаки под мышку.
У Аркадия начало капать с носа, и еще он не любил, когда в разговоре с ним повышают голос, поэтому он вдохнул побольше влажного воздуха и, напрягая что есть силы голосовые связки, начал отстаивать свою шоферскую правду.
— Зря это они, — сказала я уже вслух, но тут Аркадий плюхнулся на сиденье, мотор взревел, и Сид умолк, как выключенный.
— И часто он так лает? — был первый вопрос Аркадия.
— Редко, — соврала я уверенно.
— Видишь ли, лучше, чтобы он не лаял.
И опять Аркадий говорил, а я слушала. Выяснилось, что у дяди был раньше пес Рем. Он погиб на охоте. Дядя очень любил Рема, и теперь любой лай его травмирует. И вообще дядя пожилой человек и плохо спит. Его сон надо беречь. За стеной от меня будет спать двоюродная сестра Аркадия с двумя дочками. Та, которой шесть лет, тяжело больна, врачи предполагают астму. Если она просыпается ночью, то кашляет до утра. У сестры скоро защита диссертации, и она приезжает на дачу передохнуть. Ее сон тоже надо беречь. На даче живет бабушка Наташа, дядина мама. На вид она еще крепкая, но у нее диабет и повышенное кровяное давление. Спит она очень чутко — мышь зашуршит, она просыпается. В поселке почти на каждой даче есть собаки, но они не лают, потому что воспитанные...
— Мы не будем лаять, — сказала я дрогнувшим голосом. — А что милиционер?
— Прокол. Номер записал. У дяди могут быть неприятности.
Остаток пути прошел тихо. У Сида вышел запал, и он удовлетворенно заснул.
Приехали мы совсем ночью. За мокрыми деревьями уютно светилось окно.
— Это в кухне, — сказал Аркадий. — Все уже спят. Смотри, чтоб не лаял, — добавил он, глядя на потягивающегося Сида.
Дождь кончился. Приятно ехать, ехать и приехать к чистящемуся окну в лесу. Там сухо, тепло, чайник ждет на плите.
— Неприятности нас ждут, — ворчливо сказал Аркадий, закрывая гараж. — Одна большая неприятность и две маленькие.
Я рассмеялась. Что делает с человеком дорога! Сид не лаял, радость моя. Суетился, все обнюхивал, нервничал, но молчал.
На кухне нас действительно ждал горячий чай. Аркадий отослал спать сонную домработницу и стал накрывать на стол.
— Ну... выпьем! — и он налил водки в рюмки. — Бери маринованные грибы. Тебе с чем сделать бутерброд? С рыбой? Ты понравишься дяде. Это я понял. Если ты хочешь, ты всегда умеешь понравиться.
— Да? — спросила я кокетливо, ловя ускользающий масленок.
— Да... Будешь салат? Ты легко сходишься с людьми. На дне рождения у Льва ты всех очаровала. Он и позвал-то меня ради дяди.
— «Ради-дяди» — смешное слово. Да?
— Смешное, — согласился Аркадий. — Но сам я Льву нужен, как прошлогодний снег.
Мы рассмеялись и поцеловались.
— Лев прямо рот открыл, когда тебя увидел. Очень ты ему приглянулась.
— Нужен мне твой Лев, как...
— ...прошлогодний снег. Бери масло. Здесь чудное масло. С рынка. А Лев, между прочим, очень башковитый парень, от него в лаборатории много зависит. Ну, выпьем...
Мы ели, улыбались друг другу, наши руки, как бы невзначай, все время встречались. Меня совсем разморило от водки, от ласковых глаз Аркадия.
Мир был прекрасен, но он затрещал по швам, этот радужный мир, когда я встретила кричащий Сидов взгляд. Он хотел есть. Я ненавидела его в эту минуту. Совсем другими глазами посмотрела я на заставленный стол: копченая жесткая колбаса, влажные листья салата, ломтики севрюги. Если бы здесь лежала ливерная колбаса! Человеку никогда не бывает до конца хорошо, и никогда не предусмотреть, что ему понадобится для полного счастья.
Аркадий поближе пододвинул стул, теплая его рука легла на мой затылок, пальцы нежно перебирали волосы. Сейчас, вот сейчас он поцелует меня еще раз... Что делать с Сидом? Выбрав момент, когда ласковые губы отстранились чуть-чуть от моего лица, я, судорожно сглотнув слюну, все еще находясь во власти любовной истомы, но панически боясь пустого Сидова желудка и потенциально повисшего в воздухе лая, прошептала:
— Я забыла миску в машине. А пес хочет есть.
— Что? — Он не понял. Он не мог так быстро вернуться на кухню из того сладкого небытия, куда возносит людей ласка.
И осмыслив вдруг всю неуместность своих слов, смутившись, похолодев от стыда, я суетливо начала лепетать про собачий режим, просить супчику, или молока, или кефира. Я рассказывала, как трудно с собакой, как он еще мал, даже встала на колени перед Сидом, как бы наглядно показывая права щенка на меня.
Успокоенная своими словами, я, наконец, подняла глаза на Аркадия и испугалась. Ничего не сказав, он повернулся и вышел. Остолбенело смотрела я, как в темноту коридора удаляется неестественно прямая спина.
— Куда ты? — Мне показалось, что он совсем уходит от нас, и голос невольно прозвучал мелодраматически.
— За миской, — сказал он тускло.
Это легенда, что охотничьи собаки аккуратны в еде. Сид обычно вытаскивал вкусные куски из миски и ел их с пола, кости прятал в кресло или в углу за шторой. Супчик ему явно понравился. Обрызгав все вокруг и исследив всю кухню, он начал греметь миской, требуя добавки.
Я краешком глаза следила за Аркадием — что сказать, что сделать, чтобы простил, обнял. Обняла я сама, и мы помирились. И мог бы этот вечер, суетный и бестолковый, кончиться пасторально тихо.
— Теперь спать, — прошептал Аркадий. — Завтра длинный день. Спать...
Мы уже пробирались на цыпочках в свои комнаты, когда Сид тихо заскулил..
— Аркаш, его надо прогулять.
— Давай я пойду. Тебе постелили в холле. Это просто большая комната, так что не пугайся звучного названия.
— Он с тобой не пойдет. Еще залает!
— Пойдем вместе.
Темнота обдала нас сыростью и запахом цветов. Калитка мягко открылась, приглашая приобщиться к тайнам ночного леса. Налево? Направо?
— Подожди меня здесь. Я забыл сигареты.
Вот оно какое — счастье... Оно пахнет цветущими липами и укутывает ноги теплым туманом. Мокрый асфальт блестит, как лунная дорожка на морской глади. Небо очистилось от туч, и звезды сияют: одна Медведица, другая Медведица, где-то распушила волосы Вероника, есть еще созвездие Гончих Псов... Псов! Кстати, где Сид?
Он только что вертелся под ногами. В кустах раздался шорох. Я бросилась туда, но опоздала. Длинная тень выскочила на дорогу и большими скачками понеслась прочь от меня.
Вы бегали когда-нибудь за ирландским сеттером? Легкое поджарое тело, которое не бежит, а парит в воздухе, легко перебирая лапами, не касаясь земли. И если бы в тишине не стучали гулко лапы по асфальту, я решила бы, что гонюсь за ускользающим миражом, за диким веселым бредом, оборотившимся собакой, несущимся сквозь стволы, мокрые листья, и только мелькают лужи, в которых на секунду, на доли секунды закрывается собачьей тенью отражение луны.
Я никогда не умела бегать. Еще в институте на кафедре физкультуры, где к моим «хвостам» относились так же естественно, как к тому, что у меня есть руки и ноги, тренер, седой многоопытный мужчина, сказал мне:
— Милая барышня, у тебя все на месте, но у тебя мягкие мускулы, а того, от чего они твердеют, у тебя нет.
Это было давно. И если за десять лет у меня и затвердели какие-нибудь мускулы, то не те, которыми бегают.
Но я бежала. Поворот налево, канава, другая, низкий штакетник, через который я лихо перемахнула, и вот уже лес, и растопыренные ветки секут меня по лицу, обдавая брызгами недавно прошедшего дождя, потом опять унылая стена заборов.
Пусти десять лет назад тренер передо мной сеттера и всели в мою душу испепеляющую ненависть к этой рыжей твари, я дала бы невиданный доселе рекорд в марафоне, потому что если и не могла его догнать, то дистанцию держала. Потом-то я поняла, что это Сид сам держал дистанцию, воспринимая мое свистящее дыхание как утверждение своего бега и радости.
— Фу, Сид, фу... — бессильно шептали губы.
Мне казалось, что мы бежим не по дачному поселку, а по огромному дому, которому нет конца, и дом этот набит спящими людьми. Их много. Одних академиков, наверное, полсотни. А у них еще родственники — старые, больные, малолетние. И за их сон я в ответе перед суровым взглядом Аркадия, перед своей совестью, перед высшим судом. Я должна поймать и придушить Сида, потому что его бег непременно кончится звонким лаем во славу природы. Ужас охватил меня при этой мысли и уже не оставлял всю эту проклятую ночь.
Вдруг Сид остановился около низкой калитки.
— Бух, бух, бух, — залаяла за калиткой собака и загремела тяжелой, словно якорной, цепью. Сид подпрыгнул и ответил звонкой пулеметной трелью. Я схватила его за ошейник, сунула руку в пасть и поволокла прочь от калитки.
Без сил повалилась я на траву. Земля упруго поднималась и опускалась в такт моим стонущим легким. Будьте вы неладны все! Если мне суждено умереть здесь, то вы так и найдете меня со сведенными судорогой пальцами на собачьем загривке.
Я лежала у дороги в канаве, заросшей одуванчиками. Один мой злоязычный друг говорил, что на академических дачах потому так много одуванчиков, что их разводят специальные садовники, а потом специальные доктора приписывают академикам дуть на одуванчики вместо зарядки — от инфаркта сдувать пятьдесят штук, от повышенного кровяного давления — сорок пять, и так далее. Кончалось насморком — от него один одуванчик. Я дунула, как академик, но пушистая шапочка отсырела и не сдувалась.
Где я? Куда идти? Я даже не знала номера дачи, а знай я его — ни спросить, ни увидеть. Ночь, сыро, пусто...
Я оглянулась по сторонам. Но рано мне было самоопределяться. Кровь опять отхлынула от сердца. Маленькая шавка-блондинка, казавшаяся розовой в свете бледного фонаря, сидела за редким забором, а перед ней, царственно подняв голову и лениво поигрывая хвостом, лежал Сид. Пальцы мои сжимали пустой ошейник.
Как он попал туда, и как мне забрать его назад? Я стала бегать на четвереньках, ища какой-нибудь лаз, проверяя прочность досок, но напуганная мной шавка тявкнула истерически и скрылась в кустах, а я застряла, всунув голову в дыру под забором, и только комок глины, вылетевший из-под взметнувшихся Сидовых лап, пощечиной шлепнул меня по лицу.
Все, кончен бал! Я вылезла из-под забора. Пока на чужом участке было тихо, но я уже видела, как оставляют теплые постели перебуженные обитатели дома, как ловят они лающего Сида и кричат, и носятся по комнатам, и перевертывают вазы с цветами. Почему-то именно вазы, много ваз с ухоженными розами, с благополучными сытыми тюльпанами, нахально разросшейся сиренью, с одуванчиками, черт знает с чем, мелькали в моем обезумевшем сознании, и вдрызг разбивался хрусталь, и падали на пол обломки керамики.
— Сид, где ты, Сид? — тихо скулила я, и слезы потоком лились по щекам, шее и даже за ушами.
Сид возник неожиданно. Он стоял за забором, явно потеряв дыру, через которую проник в чужой сад, и теперь заискивающе просил у меня помощи.
— Ты дрянь, Сид! — Я не стала ему ничего советовать. — Ты бессовестная дрянь. Ко мне, негодяй! Тебе рано еще интересоваться блондинками. К ней ты сразу нашел дорогу. Ко мне!
Голос мой перешел на крик, и пес ринулся ко мне наобум. Бедный маленький Сид. Он рывком пролез через узкую щель, слабо пискнул, и вот он стоит передо мной, а по лапе течет густая и липкая кровь.
Мало того что у них нельзя лаять, мало того что наставили кругом заборов, так еще набили гвоздей шляпками внутрь!
Почему нельзя и ему, Сиду, немного порадоваться жизни? Люди настроили серых домов, залили траву асфальтом и считают, что так и надо жить на свете, а когда попадают в лес, то пьянеют от запаха листьев, от свежего воздуха и проклинают свои серые дома. Так что же делать охотничьему щенку, который, еще нетвердо стоя на ногах, познакомился с «жестким» поводком и видел только город, только асфальт и пыльные скверы? Триста лет из поколения в поколение воспитывалась в нем инстинктивная любовь к лесу, и не его вина, что люди добились своего. Бедный Сид! Край вырванной кожи острый, как нож. Я стаскиваю косынку с головы, затягиваю изо всех сил его рану, и мы бредем неведомо куда. Кажется, это уже другой поселок, заборы вроде пониже. Помнится, мы бежали лесом и лугом, и еще речка была.
Холодно... Ой, как холодно! Сид трется о мою ногу, я вытираю кулаком слезы и выговариваю ему шепотом:
— Мы должны вести себя естественно и понравиться дяде. А ты что делаешь? Мы должны обязательно понравиться. Когда мы хотим, мы это умеем. Мы уже очаровали Льва, а от него многое зависит. Теперь нам надо понравиться дяде, а ты ведешь себя как ошалелый щенок.
Среди кромешной тьмы блеснул огонь, и мы пошли на него. На подоконнике сидел человек.
— Простите, — вопрос застрял у меня в горле. Что, собственно, я могу узнать? Мы бежали со скоростью сеттер в час, а теперь надо спросить, где живут академики?
Сидящий на окне, мужчина лет пятидесяти, курил и внимательно рассматривал нас через очки.
— Простите, я хотела узнать, где я нахожусь?
— Это вас интересует в философском плане или конкретно?
— Простите, но...
— Это сеттер?
— Да.
— Гордон?
— Ирландец.
— А почему черный?
— Потому что темно.
— Сколько ему?
— Семь месяцев.
— Для сеттера он, пожалуй, великоват. В нем явно проступают пойнтеровские крови.
— Его отец чемпион породы, а у матери вся грудь и даже плечи в медалях.
— Все мы чемпионы породы и очень честолюбивы, но никто из нас не может поручиться за отсутствие татарской, еврейской и даже китайской крови. Вы можете поручиться?
— Я согласна поручиться за что угодно, но...
Видно, разладился мой слезоточивый канал, слезы полились сами собой, и казалось, что они не сохнут, а кристаллизируются от холода. Колени мои стучали друг о друга, как кегли, а человек, уютно устроившись на подоконнике, швырял в меня витиеватыми и заумными фразами. Оказывается, все люди и собаки — братья, и не просто, как все сущее или биологически, а как-то посложнее. Я перестала его слушать только на мгновенье, а он уже перешел к захоронениям где-то в древней Ниневии. Можно было только диву даваться, как от сомнений в чистопородности моего пса можно так уверенно шагнуть в глубь веков.
— Почему вы не хотите сказать мне дорогу? — Я всхлипнула. — Мы так устали.
— Дорогу куда?
— Куда-нибудь... На электричку. Мой пес ранен.
— Кем?
— Не пистолетом, боже мой. Забором. Мне нужны академические дачи или электричка.
— Ночью не ходят электрички. Что вы ревете? Лезьте в окно. Я перевяжу вашего пса.
— Я вам лучше его подам, если подниму. А у вас можно лаять?
— Не знаю, не пробовал, — сухо ответил мужчина. — Странная вы, право. И нервная. Не хотите в окно, идите в дверь. Я вам дам чаю. Потом спрошу у наших, где находится то, что вам нужно. Сам я не знаю, я гость.
Чай принесли быстро, словно в этом доме всю ночь кипел самовар. Сонная хозяйка объяснила не только где находятся академические дачи, но даже та, которая мне нужна, я сообразила назвать фамилию академика. Ориентиром мне должна была служить гигантская клумба. Если идти по прямой, то это в трех километрах.
Мужчина перевязал Сиду лапу и предложил себя в провожатые, но я отказалась. Зачем так утруждать чужих людей? Спасибо им за чай и за то, что мертвецы Ниневии успокоили меня и согрели душу.
— Если не найдете дачи, приходите. Я не буду гасить свет, — пообещал он мне на прощанье.
С Аркадием мы встретились на подступах к клумбе. Видно, он пробежал с наше, разве что с меньшей скоростью. Ни вопроса, ни удивления. Так мы и молчали до самой раскладушки, на которой мне предстояло провести остаток ночи.
— Понимаешь, Аркаш, — я не решилась пожелать «спокойной ночи», — он удрал, а я его ловила. Не сердись...
— Ну, ну... Если что, я за стеной,— и он ушел.
Сид залаял на рассвете, и лай этот можно было сравнить только с набатом, которым возвещают о войне или пожаре. В полумраке слабо охнула белая фигура, похожая по очертаниям на домашнее привидение, за стеной мужской голос закричал спросонья: «Тубо, Рем, тубо!» — и все смолкло для меня, потому что я уже стояла на лужайке перед домом, рядом дрожал и рвался Сид, а Аркадий совал мне в руки платье и кеды, которые успел прихватить. Сам он был полностью одет.
— Я не мог уснуть. Я работал. Я знал, что он залает, — ответил он на мой немой вопрос.
— Ты работай, а мы пойдем погуляем, — сказала я неестественно бодро, напяливая задубевшие кеды.
— Пойди. Здесь очень хороший лес. Только не опаздывай к завтраку.
Я стояла, смотрела ему в глаза и пыталась сообразить, когда же завтракают в этом большом доме. Даже если в девять, то в моем распоряжении четыре часа, а по понятиям Аркадия мне их может еще не хватить. Где, по каким дорогам мы будем бродить с Сидом? А может быть, ничего не случилось?
— Аркаш, ты не знаешь, как цветет тамариск?
Почему мне тогда понадобился тамариск, ума не приложу.
— Я даже не знаю, редиска это или укроп, — ответил он и отвернулся. Это был приговор.
— Нет, Аркашенька. Это не овощ. Тамариск растет в пустынях на развалинах старых городов и забытых могилах, у него лиловые цветы, и это очень красиво на желтом песке. Интересно, на развалинах Ниневии цветет тамариск?
Тяжелый вздох Аркадия был мне ответом.
Я не сразу уехала. Еще часа два мы с Сидом бродили вдоль тихой речки, то у самой воды, то поднимаясь вверх по заросшему корявыми соснами склону. Сид тащился лениво и все норовил лечь и поспать. «Мне нельзя ехать, — уговаривала я себя. — Это будет конец. Аркадий не виноват, что пес сбежал». Я понимала, что меня будут ждать, потом искать, но было ясно — нет такой силы, которая заставила бы меня вернуться в проснувшийся дом.
Аркадий пришел через неделю. Обида еще не стерлась с его лица. Он был озабочен и раздражен. Целоваться как-то не хотелось. Потом наши чувства быстро пошли на убыль. Он так и не смог мне простить неудачную поездку на дядину дачу.
Правда, выяснилось, что травмированный когда-то собачьей смертью академик очень хотел посмотреть на моего пса и сам помогал Аркадию искать нас в лесу. Девочка с предполагаемой астмой даже не вздрогнула во сне, а ее мать, измученная работой над диссертацией, просто увидела во сне собаку и нашла этот сон приятным. Бабушка Наташа, причина ночного лая, целый день подозрительно поглядывала на Аркадия и приговаривала: «Неспроста она сбежала... Ох, Аркадий... неспроста. Знаю я тебя».
Все это обстоятельно и грустно он сам мне рассказал, но это был подтекст, а главное — дядя после утренних поисков пил валидол, он — старый, больной, уважаемый человек, все были возбуждены и огорчены моим поступком, и всем я испортила субботу и воскресенье.
— Как ты могла? Я не понимаю, как ты могла? — причитал он, а я молчала и слушала.
Я смотрела на Сида, который лежал у моих ног и грыз обмахренный угол ковра, на крышу соседнего доме — по ней важно расхаживал голубь с перебитой лапой, на букет завядшей травы, я сорвала ее в то утро. «Каждый живет, как умеет, — думала я, — ты прости нас, Аркаш, но ты сам просил нас быть естественными».
Соседка шила за стеной, и в такт стрекотанию машинки я повторяла: «Вот так... Вот так...» И мне не было больно.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:







