ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Богуславская Зоя
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сысоева Татьяна
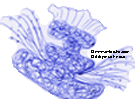

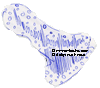
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Дарьялова Наталья 1988
Диких, кроме одичалых, собак нет.
В. Даль
Белизна на миг обожгла и снова ослепила его, и он подивился силе этого света. Белый свет, божий, божий... Странное круглое слово вертелось на языке, представлялось иглистым ежиком, кувыркалось, отдавало в ушах колокольным звоном.
Не жалобным треньканьем хиреющих деревенских церквушек, которые сиротились по пригоркам оголодавших, обугленных горем деревень, а солидным звоном тяжелых колоколов Елоховского, по-русски широкого, округлого и схожего с большим пасхальным куличом. Не то что эта костистая европейская готика, которой он за три с лишним года войны навидался вдоволь.
Он смаковал эти случайные мысли и изо всех сил отодвигал неизбежное.
Благо смерти не снизошло на него, и он был приговорен к жизни.
Он снова открыл глаза и вместил в них простор белого света. Лучи ниспадали с синеватых, щекастых туч и опускались в бледный снег. Снег и человек — антиподы. Человеку, чтобы выжить, нужно тепло, а снегу — холод.
В мире, за окном, было холодно. Суровая графика зимы уже сменила и нежную акварель раннего лета, и золотой, парадный масляный портрет осени.
С каким бы удовольствием принялся он теперь писать письма! Здесь, в размеренном быте больничной палаты, это было бы самым разумным.
На живых людей приходится тратить время. Или — живых можно ненадолго изгнать из своей жизни: пусть себе посуществуют отдельно, пока будет досуг о них вспомнить.
Мертвые поселяются в нашей памяти навсегда и урезают кусок нашей жизни, как ломоть хлеба. Теперь Василию некому было писать письма, и торчал он на свете один, словно недогоревшая головешка.
Деревенеющие веки тяжело зашторивали глаза, он утыкался темным, невидящим взором в другие глаза, которые бессильной злобой жгли его память...
В боли и шуме атаки уже по чужой, но занятой фашистами земле бежали солдаты. Бежали, доживая на бегу свой укороченный век.
А один не бежал. Он залег, схоронился в густо опавшей листве. Рядовой Дейцев.
В наступившей внезапно передышке боя Василий подошел к Дейцеву и увидел его, распластанного на земле, с высоты своего роста. Дейцев поднял потную голову с темными листьями в волосах, и маленькие, круглые, совершенно черные глаза уставились в ответ. Не глаза, а только зрачки. Черная пустота. Была в его зрачках черная пустота страха и ужас наказания.
— Пойдешь под трибунал. За дезертирство, — сказал он Дейцеву коротко и сам как бы стал его судьбой. Нет, он не имел права на жизнь этого человека и не хотел такого права. Но трус — и поэтому предатель — должен был понести наказание. В этом состояла суровая, простая мудрость военного времени, когда распутываются все клубки нерешенных мелочей, и все жизненные субстанции от середины перетекают к полюсам, и все становится проще, яснее, потому что речь идет о самом главном и святом.
А Дейцев уже выгребся из опавших листьев, поменялся с ними местами и стоял на коленях. В черных пустых зрачках была мольба:
— Вася, ты чего, окстись! Война ведь к концу идет, на хрена в самом-то конце помирать... Василий! Ты ж знаешь: меня в деревне жена и мальчонка ждут — и не дождутся, чую...
Василий покачал головой. Трибунал решит. Он расскажет, как все было. Повернулся и пошел к ребятам.
Стал было уходить. Пока Дейцев не окликнул его хрипло:
— Не понимаешь, выходит, что я бабе своей и мальчонке нужон живым? Не понима-аешь. Ну тады и я тебе скажу. Получай! — хриплый голос оборвался в натянутом морозном осеннем воздухе. — Получай. Ты-то сам, со своей хваленой храбростью, никому теперь не нужон. Так что храбрись на здоровьице.
Василий обернулся.
— Ты чего городишь! — спросил глухо, омертвело.
— Разбомбило твой московский дом. Прямым попаданием. Письмо пришло. Все знают, только молчат.
— А...
— Ничего... Никого...
Они стояли в горе и ненависти друг против друга, оба судьи и оба жертвы. Только выигравшего не было.
Война... Беспроигрышная лотерея смерти.
Он не верил. Не верил! В счастье веришь сразу, всем существом. От горя отпираешься до последнего.
Командир, немолодой, коренастый, сидел в бедной крестьянской избе. Лохматая соломенная крыша насупилась над маленькими оконцами, и они почти не пропускали света.
Василий смотрел на командира с надеждой. Командир виновато моргал безресничными рыжими глазами. Его коричневые крестьянские пальцы, лесными корнями распластавшиеся на деревянной столешнице, лежали в бессилии. Они могли сеять хлеб и добро, потом научились нести смерть, но отвратить уже происшедшее зло они не умели...
И тогда он стал ждать боя. Захлебнувшись горем, он выносил себя вперед, он стрелял, он бежал, он хотел надеть свое большое, теперь уже ненужное ему, мучительное тело на маленькую смертоносную пулю. И когда ему показалось, что он видит ее, она была похожа на черный зрачок Дейцева...
— Подъем, подъем, за работу! — разносился по палатам звучный голос докторши Антонины Петровны. Так начинался в госпитале каждый день. У докторши были пышные, соломенные, с сединой — будто в стог сена затесалась молния — волосы, расчесанные на косой пробор по моде двадцатых годов. Она носилась по палатам и заставляла больных вставать и делать упражнения.
Как-то утром она присела на край его кровати, обстукала молоточком побледневшую, уже исхудавшую отдельно от всего тела руку и спросила:
— Вы кто по профессии?
— Модельщик. На литейном заводе.
— Не слыхала даже. Объясните, что ж вы делаете?
Василий помялся:
— Чертежи оживляю. К примеру, приносят вам чертеж наисложнейшей детали, какую токарю из цельной болванки никак не выточить. И надо этот чертеж весь расшифровать, разложить до штришка и потом враз представить, какой эта деталь должна на свет явиться — со всеми своими пазами, сопряжениями, отверстиями... — Василий начал неохотно, но от нежданного внимания докторши разговорился, — надо придумать и вырезать в точности форму, родителя для этой детали. А форма — ну словно та же шинель, только вывернутая наизнанку: где у детали будет выпуклость, там у формы — выемка.
— Теперь понятно. Спасибо. — Докторша снова обмяла его руку и сказала твердо:
— Ну, поздравляю. Руку можно не ампутировать. Но оживет она вряд ли. Остальное у вас в полном порядке. Так что носа не вешать. И... начинайте прямо здесь, у нас, приспосабливаться к какой-нибудь другой работе. Можем вместе подумать. И вставайте. Нечего целые дни тут разлеживаться.
Он немо смотрел на нее, унимая подступившие слезы.
По ночам его одолевали яркие мучительные сны.
Ожившая рука с наслаждением ощущала теплую шероховатость податливого дерева, и он видел, как в причудливую форму, сотворенную его пальцами, мягко, масляно, вкрадчиво вливается расплавленный металл... Ломит натруженные пальцы от ожидания успеха. И потом они ощупывают, оглаживают железные весомые выпуклости и чувствуют холодную отчужденность уже отлитой, остывшей и затвердевшей детали — она словно выросший вроде бы на глазах ребенок, который вдруг становится новым, незнакомым человеком.
Но его гибкие пальцы уже готовы, уже полнятся силой для нового дела...
Он вскидывался в надежде, в ознобе, в поту — но безучастная рука его легко и сухо лежала на одеяле.
Совсем незадолго до выписки он, так уж вышло, расквасился прямо перед докторшей. И, с трудом собирая разбегавшиеся губы, спросил в пустоту:
— Что же мне теперь делать, куда идти?
Антонина Петровна посмотрела на него пристально и сказала:
— Ребенка взять из детского дома. Вот что. — Помолчала и добавила: — Хотя не знаю, можно ли вам доверить.
В день выписки он пообвыкся к своей старой шинели, пересчитал свои нехитрые деньги, весь капитал, нащупал в кармане дырку, купил у нянечки тети Клаши кошелек из тех, что она вязала в свободное время для продажи, обнял здоровой рукой всех по очереди и направился к выходу.
Словно против воли тащил его поезд. Ему страшно было возвращаться в Москву. Слепой день, пригнувшись к земле, лежал совсем низко, и вокзал, смутно видный в бессильном зимнем свете, был сродни войне. Все существовали здесь в ожидании чего-то: поездов, объявлений, вещей, может быть — жизни. Бестолково, испуганно суетились сорванные с корня, принудительно кочевые люди, мелькали смазанные тревогой, нечеткие лица. Наверное, людям, превращенным в пассажиров, надо было так или иначе притулиться где-то, снова врасти в землю, чтобы обрести в скорбном, все еще военном мире хоть какую-то устойчивость.
Под ногами хлюпала грязь, замешанная на притаявшем снеге. Василий топтался в сторонке, у стены, кумекая, в какую сторону податься. Рядом скучал незанятый носильщик. Он облокотился на инвалидное кресло, в котором, лицом к стене, тяжело сидела старуха. Ее оплывшее тело, как бы вмерзшее в истертое плисовое пальто, застыло в ожидании. Неподвижный взгляд упирался в стену. По щеке, затекая на время в глубокие ложбины морщин, сползала крупная, как хрусталина, слеза.
— Ты с багажом али без ничего? — без дела, для разговора поинтересовался носильщик.
— Без ничего.
— Все теперь так, — не то обрадовался, не то огорчился носильщик. — Либо со всем скарбом домашним, либо ни с чем. Война, такое дело...
Василий помолчал в ответ.
— Вот у меня тоже горе-встречальщица, — продолжил носильщик, указав на старуху. — Прикатывает сюда каждый день, сына с войны встречает. А у самой похоронка в кармане... Горе что море, и берегов не видно...
Вдруг старуха с резкой силой — явно не мускульной, а душевной — крутанула свое кресло, оказалась против Василия и возвела на него пристальные суровые глаза.
Постепенно ее прямой, вопрошающий взгляд отмяк, затеплился. Старуха быстро подняла к Василию твердые, узловатые в суставах пальцы, и он, дивясь сам себе, послушно уложил в них лицо. В ладонях было тепло и сухо, как в протопленной избе, и пахло домашней стряпней и потрескивающим в печке деревом.
— Ты ведь мой сын, да, — без вопроса сказала старуха. — Сыночек... С войны вернулся. Дождалась... Ты не грусти. Все образуется. Вернулся же. Были бы живы, а дни будут... Только пальтишко на тебе больно хлипкое...
Враз израсходовав всю силу, Василий вырвал лицо из укрытия ладоней, крепко, на миг, обхватил их, кивнул носильщику и быстро зашагал прочь.
В саду Баумана было пусто, словно метлой повымело оттуда радостную ребячью жизнь. Василий для согрева докурил, пока не прихватило пальцы, и направился к зданию военного комиссариата.
По высоким коридорам комиссариата гулял стылый воздух, под потолком, который весь пошел морщинами, мокрыми пятнами чернела отсыревшая штукатурка. Пониже, у человеческого роста, на стенах кое-где расплывались неясные следы ладоней: видно, не одно горе поддержали за войну эти стены.
Василий тихо приоткрыл массивную дверь. Комната за ней пряталась крохотная, с высоченными потолками, отчего казалась по ошибке поставленной на попа. Василий переступил через порожек, и навстречу ему птицей взлетел ершистый, задорный взгляд осанистого парня в капитанской форме. Взгляд из тех, что и от солнца и от смерти не отвернутся.
— С фронта? — спросил капитан и неуютно повел дюжими плечами. Сдавленная стенами комната была ему узка, как тесная шинель.
— Из госпиталя, — ответил Василий коротко, полез в карман и подивился своей незаметно подобравшейся неряшливости: раньше до ушей бы извозился, а документ сберег. Теперь листочки — помятые, пересыпанные рыжими крошками сухарей и табака — утеряли представительность и смотрелись сиротливо и неприглядно.
Нацелившись на справки, глаза капитана посерьезнели. Острым прищуром цеплял он каждую бледно пропечатанную букву, подковыривал и вытаскивал на просмотр каждое словечко. К последней точке взгляд его оттаял, помягчел и загрустил.
— Да... — всей грудью вздохнул он. — И вам тоже не повезло. Это ж какая обида: столько земли своим телом промерить, а победу без нас будут добывать! — Капитан с нерубцующейся досадой тряхнул головой, и на круглой его макушке вскочил вдруг совсем детский хохолок.
Василий вспомнил некстати, как Леночка и Ванюша любили, сорвав в поле перистые метелки ковыля, собирать их пальцами в такой же хохолок и потом отгадывать, что получилось: «петушок» или «курочка».
— Курочка ты, дурочка! — Ванюшка хватался за каждую ерунду, только бы похохотать до упаду, и, залучив смешинку, распахивал широкий рот с далеко расставленными крепкими зубками, заливался, пока не брызнут слезы...
Эти мелочи, раньше незаметные и обыденные, теперь вдруг вспыхивали нестерпимо ярко, и хотелось колыхать их в памяти бесконечно, но они жгли душу, как раскаленные угольки, и Василий отпускал изболевшуюся память в спасительную болотную дремоту.
— На фронте «языков» таскал, а теперь вот с бумагами воюю... — добавил капитан, и Василий понял, что он сейчас неблизко: пружинистый взгляд его раздвигал тесные пределы комнаты и все время помнил, удерживал что-то свое, залихватское и бритвенно опасное, а потому неодолимо притягательное...
Нет, неладно было этому гораздому, горячему человеку за широким неподвижным столом, не сиделось ему тут, а все же он сидел, и какая-то казачья, гордая стать не скрадывалась даже в кабинете.
— Вы чем до войны-то занимались? — спросил капитан.
— Модельщиком был. На Станколите. Одно слово, что был. — Василий тяжело замолчал. Он вообще боялся теперь говорить. Голос ворошил в горле какую-то мякоть и мокроту, там что-то разбухало, сыростью подбиралось к глазам.
— Вы не волнуйтесь. Ваш завод обязан принять вас на прежнее место, — уверил капитан. Говорил он твердо, и каждое его слово было полновесным, без обмана.
— Во-первых, завод мой был эвакуирован в Нижний Тагил, а во-вторых — не стану я подарком на них вешаться. Какой теперь из меня модельщик — вон, не рука, а ветошь болтается...
— Вы где прописаны?
— У Ивана-ветра... Все теперь. Ни дома, ни детей. Ни меня.
Капитан опустил голову. Искрящийся взгляд его померк и устал.
— Нет, браток, — выговорил он тихо, — настроение у тебя, я вижу, со двора да в воду. Не годится это. Ты жить оставлен. А сколько наших там — сам понимаешь... Надо как — отгоревав, да за дело. Я это точно знаю... А я покамест помозгую, заявки с предприятий прогляжу, как пить дать тебе что-нибудь подходящее выберем. На прошлой неделе с авиазавода приходили. Тебе как человеку военному скажу: они сейчас к новым видам литья приглядываются. И запрос сегодня оформлю, исполком площадь невдолге приищет. А пока в общежитии устроишься. Его подремонтировали малость, завтра открывается.
Капитан дотянулся до небольшого сейфа. Накинутая на плечи шинель с широкими отворотами приоткрылась, и из-под нее бело выблеснули три медали «За отвагу».
— Вот с этим зайди в пятую комнату, — он разгонисто расписался на каком-то бланке с печатью. — Получишь у Фроси карточки на первое время — хлебные и продуктовые. По ним и картошка сушеная, и чаем морковным разжиться можно. Но я лично советую прикрепиться на пару декад к столовой. Тут недалеко, в Аптекарском переулке, очень стоящее заведение имеется. Ты им карточки, они тебе — обед и улыбку. И — завтра тебя жду.
— Спасибо, — кивнул Василий. — Спасибо тебе, — и взялся за витую, резную ручку двери, которой при создании было уделено любви и времени, больше, чем иному человеку.
— Постой, постой! — всполошился капитан. — Что ж это я: милости просим мимо ворот щи хлебать. У человека крыши нет, а я карточками отделался. Давай до утра ко мне. Угол невелик, но как-нибудь разместимся.
Капитан убрал документы, замкнул сейф и нырнул куда-то под стол. Все он делал безоплошно, четко, ни одно движение у него не выходило зряшним.
Взял с пола костыль и стал подниматься — неловко, неуклюже, злясь на себя и краснея. Его прямое лицо перечеркнула боль. Наконец он приладил костыль, навалился на него, подпрыгнул ногой к Василию и положил руку ему на плечо:
— Давай, браток, как свечереет, снова сюда приходи. — Сжатые губы под темным углом усов все-таки расправились в улыбке: — Только вот, боюсь, заболтаешь ты меня. Таких говорливых я сроду не видел... — Помолчал, обвел глазами тесный периметр комнаты и, словно отвечая на сочувственный взгляд Василия, тихо добавил: — Я в госпитале когда сам с собою прощался, мне сестра одна — статная была такая, высокая старуха, из бывших — сказала: тепло — это невесомое вещество, более или менее наполняющее все тела и весь мир...
То место, где когда-то, до «прямого попадания», был его дом, неотвратимо тянуло его.
Была еще зима, и шли бои, но близкая победа неяркими улыбками размораживала серые лица.
В самом начале бывшей Немецкой улицы, где он родился, чтобы нежданно пережить свой каменный, рассчитанный надолго дом, четырехлетний малыш, обвязанный крест-накрест женским платком, кряхтя, пускал бумажный кораблик по талой воде, красные руки в цыпках нагружали кораблик щепочками, окурками и прочим уличным сором, мокрый нос деловито шмыгал.
Василий пристально разглядывал мальчика, не в силах оторваться от серьезного детского занятия. А ведь этот человечек еще не жил при мире, подумал он. Всю его жизнь шла война.
И вспомнил, что сегодня его сыну Ивану стало бы восемь лет. Но они никогда не исполнятся.
Потому ему не исполнится девять, и не исполнится десять, и не пойдет второй десяток, и не стукнет тридцать. И эти бесконечные черные «не»... А когда он сам наконец закроет глаза, на всей огромной земле не останется никого, кто бы помнил его Ванюшу.
Нет горше судьбы пережить смерть своих детей и знать, что ты оставил их в тылу, у себя за спиной, чтобы своей кровью обеспечить им жизнь, — и сам остался, сохранился, а их уже нет. И нету даже могилы, чтоб он мог прийти, помянуть и хоть так, обманно, приблизиться к ним. Нету дома. Нету ничего.
На улице женщины месили валенками грязный снег, старушки с кошелками или бидонами шли по своим обычным делам. Завернув за угол, Василий увидел отряхнувшееся от заборов стройки, облицованное полированным камнем здание метро. Медленно пробирался по рельсам недавно пущенный трамвай. На открытой подножке висела гроздь пацанов, и вагоновожатая в ватнике сердито тренькала в звоночек. На повороте гроздь с хохотом растряслась в осевшие сугробы, трамвай как бы выпрямился и пошел бойчее. Ему было хорошо. У него были рельсы.
Василий, тормозя свой быстрый шаг, словно впервые разглядывал небольшой особняк, часть усадьбы, где родился Пушкин, почерневшие, заброшенные хоромы Анны Монс, теперь — общежитие. Наконец он оторвал глаза от затихшего особняка и замер.
Его дом с вытекшими глазницами разбитых окон — стоял.
Вон окно второго этажа, третье справа. Бывало, он отыскивал его в темноте, когда шел с ночной смены. Оно одно не спало и ждало его зеленым светом круглого абажура, и обещало домашнюю мягкость байкового халата жены, накинутого на голые крутые плечи, и сулило подогретый ночной суп...
И главное — разглаженные сном, успокоенные лица Ванюши и Леночки...
Теперь он так же стоял и смотрел с улицы на свое окно. В окне виднелись заводская труба, чердак соседнего дома и тяжело летящая ворона. Ворона встрепенулась, посуетилась в воздухе, подлетела изнутри к его окну, села на подоконник и зыркнула на Василия смоляным человечьим глазом.
Дом удержался на земле всего одной стеной. Василий зашел с другой стороны. Стена, разделенная на квадратики этажей и комнат, оклеенных разноцветными обоями, была похожа на географическую карту.
Географическая карта Атлантиды...
Стена с обнаженной и обглоданной взрывом кладкой замерла против Василия, словно его отражение.
Рядом затарахтел мотор, и подкатила бочком кургузая, потрепанная полуторка. Вместо кузова за кабиной была установлена прикрытая фанерой клетка, в которой сидели собаки. Из кабины выкатился такой же кургузый, бедерчатый мужик в ватнике и шапке-ушанке. Одно ухо у шапки было задрано вверх, словно спрашивало: «Ась?»
— Эй, солдат, — окрикнул мужик, — ты, случаем, тут собак ничейных не видал?
Василий, с трудом приходя в себя, покачал головой и спросил ни к чему, лишь бы отвлечься от своего:
— А зачем тебе?
— Да вылавливаю их. Юркие, собачьи души. Аркан специяльный выдали, и то сбегают.
Василий посмотрел на клетку. В ней сидели, лежали собаки всякого вида. Кто глядел сквозь клетку, кто поскуливал, кто спал. Посередине клетки, наособицу, стояла высокая овчарка, исхудавшая чуть не до кости. Но в тонких ногах пса, напряженно упиравшихся в пол, ходила не иссякшая еще сила, острые уши упруго вздрагивали и поворачивались по ветру, нос вынюхивал что-то из воздуха, и вообще пес напоминал не заключенного в клетке, а кормчего на судне.
В ногах у него копошилась круглая грязно-белая болонка. Из тщедушного тельца, которое ютилось под пышной грязной шерстью, сочилась кровь. Временами огромный пес опускал треугольную морду и быстро, сворачивая язык в трубочку, зализывал болонке рану.
— Ить парочка! Так и будет лизать, покуда кровь у ней не замрет, — щелкнул языком собачник.— Утром отловил. Так вместе и шныряли.
— И куда же их теперь? — спросил Василий.
Лицо собачника, проперченное щетиной, ухмыльнулось:
— Знамо куда. В расход. На унты, на шапки и прочие полезные нужды.
— И не жалко тебе?
— А чего их жалеть? Все для пользы. На то оно и друг человека. Для опытов пойдут, в ученые институты. Один шибко ученый мужик был, — собачник лукаво мигнул блеклым зимним глазом, — Павлов назывался, так у него от одного собачьего вида слюнки текли... Эх, вон она! — собачник с неожиданным проворством, скоро перебирая короткими ногами в огромных валенках, кинулся за мелькнувшей рыжей дворнягой.
Из кабины полуторки нескладно вылез длинный лохматый парень. Он походил на ненужную, забытую вещь, долго валявшуюся на чердаке в пыли и паутине, а теперь извлеченную на свет без всякой пользы. Пройдя мимо Василия, он поплелся за собачником.
Огромный черный пес неподвижно, точно влитой, стоял на запорошенном снегом полу клетки. Но это была живая, ждущая неподвижность, каждый мускул сухого собачьего тела каменел напрягшейся силой. Глубокие глаза с сиреневатым отливом прицелом следили разваливающуюся походку парня.
Василий топтался у машины, ссутуленный, постылый сам себе.
Невдолге появился сонный парень. Он тащил на аркане мелкую рыжую дворнягу. Собака, собрав подушечки тощих лап в одну точку, упиралась и скользила, но парень неторопливо продвигался вперед, словно дворняжьих усилий и не было. Он шел странно, выбирая направление как бы по нюху, его мутные похмельные глаза были равнодушно полузакрыты. Василий, отвлекшись от себя, даже засомневался, проглядывал ли хоть когда-нибудь сквозь эту пелену и хмарь луч разума. Уже около полуторки дворняга подняла к парню морду и вдруг смирилась, пошла покорно, как на поводке.
— Вишь, и не больно ей совсем, — сказал подоспевший собачник. — Коли не упирается, конечно.
Он чуть приоткрыл дверь клетки и нагнулся, чтобы взять дворнягу. Василий услышал, как огромный пес вобрал носом морозный воздух, твердое жилистое тело сжалось, точно укоротилось, и через мгновенье тугой пружиной выстрелило вперед. Отброшенная дверь сбила собачника с ног, а черный пес стремительной тенью уже несся прочь.
В зубах у него была болонка.
— У, стервец! — обозленно полыхнул глазом собачник и, дожевывая на бегу ругательства, бросился за псом. Длинный парень со спящими и равнодушными к беде глазами затрусил следом.
Василий вдруг почувствовал, что он страшно замерз и устал. Дверь клетки была приоткрыта, но собаки тихо дышали худыми костлявыми телами и не шевелились. Они глядели куда-то тусклыми медленными глазами, в которых стыли покорность и равнодушие даже к себе. Наверное, им тоже было трудно носить себя и беспризорно маяться по голодному свету.
Наконец появился собачник со скулящей болонкой под мышкой.
— Ее заловил, а тот-таки не дался, стервец.
— Это что ж, у тебя работа такая?
— Ну ить не потеха? Налюбился я этого дела по горло. Раньше ничего было, а как война — так бездомные собаки город заполонили. Люди от них отказываются, себя прокормить не могут. — Собачник забросил болонку в клетку и запер дверь. — Намедни приходит к нам дамочка со щенятками. Возьмите, говорит, христа ради, я мамку ихнюю еле содержу, а тут она мне сурприз. А то еще хуже. Вчера позвонили, в Лосинке собаки одичалые сбили стаю и на людей охотятся. Это ж надо такое!
Болонка зализывала кровь и мелко плакала, как маленькая женщина.
— А того хуже, собаку вовремя не подобрать, помрет она на улице, и от нее зараза всякая по городу гуляет.
Собачник замолчал, задумался как будто, и в тишине они услышали тяжелое дыхание. Огромный пес медленно, с понурой головой подходил к машине.
— Поберегись, поберегись, — шепотнул Василию собачник и задком, по-рачьи, отодвинулся за кабину.
Но пес на них и не глядел. Он приблизился вплотную к клетке, прислонил морду к холодным прутьям и поднял свой затихший сиреневый взгляд к болонке. Она почуяла его и взвизгнула. Собачник, согнувшись от осторожности и азарта, приоткрыл дверь клетки в ширину собачьего торса. Болонка забилась в угол и сиро, нудно скулила.
Пес опустил голову ниже холки, его подведенный голодом живот будто совсем прирос к хребту. Собачник сипло выдыхал воздух в открытый рот. Парень широко зевнул.
Медленно, на прямых, негнущихся лапах пес обошел клетку и, по-прежнему ни на кого не глядя, запрыгнул внутрь. Скулящая болонка тут же подкатилась, прибилась к нему. Дрожащей рукой собачник захлопнул дверь и щелкнул замком.
— Ну, садись, что ли, — позвал он Василия к кабине. — Тебе, видать, идти-то некуда.
На территории ветстанции собаки дожидали своего часа в тесных деревянных времянках. Собачник обитал в такой же времянке.
Василий снова представил свой солидный, заданный на столетия дом, который сокрушился в один миг. И эта времянка, что была поставлена пока, между делом, а стоит себе после всех бомбежек, и никто не скажет, сколько будет еще стоять. Насмехаются люди над собой.
Собачник обжил свое пристанище основательно, домовито. Старый, невесть откуда, письменный стол — на нем наверняка еще писали при свечах, продавленный топчан, круглый вертящийся стульчик, деревенская лавка, замызганная кухонная утварь, печь-буржуйка и большая картинка с овчаркой, во всю грудь увешанной медалями. На стене молчали ходики с омертвевшей, скособоченной кукушкой.
Собачник устало стащил свою залихватскую ушанку и оказался под ней пегим, плешивым, словно потраченным молью.
— Нужна мне умная собака, чтобы других ко мне приманывала, — сказал он, раскочегаривая примус. — А то притомился я к старости сигать за ними. Да и слова сказать не с кем. — И глаза у него стали скучными, как у брошенной старой собаки.
— Приспособь вон овчарку. Пес — на редкость, — безучастно отозвался Василий. Он присел на лавку и ждал тепла.
— Шутишь! — собачник свистнул в дырку между верхними зубами. — Этот не станет.— Он еще повозился с примусом и решил: — Чего-то горло мне точит. Надо промочить. Ты как? Не брезгаешь?
Лохматый парень топтался и сопел в ожидании.
— Не маячь, сядь пока, — велел ему собачник и неторопливо, солидно разлил по кружкам.
Парень выпил взахлеб, отхватил полную челюсть хлеба, глаза его тут же залило кровяным отсветом. Он уместился лицом к стене на топчан.
— Немой, — пояснил собачник Василию громко, будто парень был глухой.
Через час стекла замутнели от набравшегося тепла, и Василий скинул шинель.
— А сколько я жизней спас, это ж не счесть, — распарившись жарким чаем, раскатывал слова уже захмелевший собачник. — Ничейная собака — что одичалый человек. А одичалый человек — страшней лютого зверя... Для людей и для себя тоже... С войной небось объедки повывелись, в пищу все годно стало, и собака за день себе ничего не нарыщет. Оголодает, душа ее собачья помутится, в глазах все покривеет — и на людей. Бешенство...
— Одичалый человек... одичалый человек... — повторял про себя Василий.
Когда в воздухе за мутным окном повисли скорые зимние сумерки, пришла уставшая худенькая девушка. У нее была бледная, цвета разбавленного молока, кожа и ласковые испуганные глаза.
— Простите, нет ли у вас маленькой такой болоночки? — спросила она несмело.
— Болоночки? — строго переспросил собачник. — Проморгала? Ну ладно, пошли глядеть. Ежели опознаешь, заплатишь штраф, что не уберегла, как положено, и забирай себе болонку. На свою голову.
— Да, да! — с готовностью кивала девушка, вытаскивая из сумочки тощий кошелек. Она очень торопилась вынуть деньги, пока собачник не раздумал, и радовалась, что сразу получился такой деловой разговор.
Большой пес по-прежнему сидел в стороне от других собак. Тщедушная болонка возилась в укрытии темного, костистого и твердого тела пса, который утесом возвышался над ней.
— Она, она, Клепа, Клепочка! — радостно прошептала девушка.
Собачник осторожно отпер дверь, болонка подняла голову, взвизгнула, засеменила ножками и бросилась к хозяйке. Знакомым движением вспрыгнула в уютные руки.
— Ить, левретка! — как-то досадливо цокнул языком собачник.
Огромный пес в беспамятном и судорожном усилии рванулся вслед за болонкой, но, отшвырнув его назад, дверь захлопнулась. Не опомнившись еще, он врезался клыками в железо решетки — и тут же отпустил.
— Вот что я тебе скажу, — начал вдруг собачник. — Ты этого пса тоже выкупи. Кабы не он, твоя моська и дня бы не протянула. А тут неделя.
— Он ее охранял? — сразу поверила девушка и благодарно оглядела пса. — Я бы с удовольствием... Да как же... Я сама угол снимаю, еле с этой собачкой упросила, а тут такой... Да и денег у меня нету...
Она помолчала неловко, потом раскрыла одной рукой сумочку, вытащила завернутый в белую тряпицу кусок непропеченного черного хлеба, бережно разломила и кинула половинку псу.
Пес не пошевелился.
Они уходили от клетки. Огромный пес не рвал больше железо, не бился, не выл — ни по болонке, ни по себе. Он застыл, накренившись вперед. Глубокий немигающий взгляд его отчаянно вбирал в себя мелькание уносимой болонки.
Плачут ли собаки? Дано ли им такое утешенье? Он не плакал.
— Сторонним людя́м мы собак не отдаем, не разрешается. Ну а желает хозяин забрать свою собаку — я завсегда пожалуйста, — объяснял Василию хмельной и оттого подобревший собачник, — ведь без человека им никак... Только кто их теперь берет. Людя́м бы себя собрать...
— А ты с чего собачником стал? — спросил Василий.
— А я сызмальства к этому делу представлен. Я собачником родился, не на шутку рассердился, знаешь такой стишок? — он хохотнул. — Сам-то кто будешь?
— А я теперь никто.
— Теперь никто? — собачник пошуровал пальцами в плешивой голове, точно раскручивая застоявшиеся, заскорузлые мысли. — Выучился и не работаешь?
Василий кивнул.
— Непутевый, значит... — безбровое щетинистое лицо заплыло улыбкой, — ну тогда иди к нам. Дело не барышное, но кормит. И мне выгода: с культурным человеком выпьешь — и в тиятр ходить не надо...
К ночи Василий вышел во двор. В морозной темноте томились собаки. Одни тихо лежали, тоскуя глазами, другие выли тревожным неумолчным воем, точно себя отпевали, третьи россыпью стонали в зыбком и жиденьком сне.
Только черный пес возвышался среди горькой собачьей ночи уныния. Он смотрел между прутьев, силою своего взгляда как бы раздвигая их, он всматривался в оставшийся на свободе мир, он знал ему цену, он голодал в нем, мытарился — и все же рвался обратно.
А может быть, он жалел этот застланный ночью город, выстуженные последним хриплым дыханием зимы улицы и даже неуютных, усталых людей? Жалел, потому что чуял, что они могут остаться без него и, возможно, без его твердого взгляда, принимающего мир таким, какой он есть, осиротеют?
Он, пес, рожденный и выученный оберегать, не хотел бросить всех без себя, вот так просто сдавшись слепому, глупому произволу. Он знал, что в мир пришло ненастье и от общего горя люди стали шире и добрее и готовы были отдать от себя больше, чем раньше, только отдавать уже было нечего...
«Человеку хочется жить, пока он кому-то нужен», — вяло подумал Василий. Бражный дух наконец взял его, и мысли тяжело ворочались в разбухшей голове, постепенно затухая. Он отодвинул щеколду и, покачиваясь, ступил на дощатый пол клетки. Дворняга с кривыми ногами лениво подвинулась, словно освободила для него место, и снова съежилась для тепла. Василий запахнул шинель и присел рядом с собакой. Его обветренные губы чуть разошлись, будто в улыбке. Как тяжело быть человеком и самому решать свою заплутавшую судьбу. И как просто лечь здесь, превратиться в собаку и набраться сил подождать — всего лишь до завтра, когда тебя пустят в расход, в освобожденье, в небытие...
Он подогнул под себя ноги, опустил плечи, носом уткнулся в колени, прикрыл глаза и сжался в ожидании покоя.
Василий проснулся от холода перед рассветом. Черный пес все стоял, не приемля своей участи, бессильный перед ней. Так и стоял, подавшись вперед и как бы закаменев в этом устремлении. Облитый своей неподвижностью и безмолвием, он вглядывался в ночь, чутким носом он разделял ее на жизненные потоки, он словно кого-то искал, словно чего-то ждал, хотя ждать ему уже было нечего.
Дрожа от холода, Василий опустил щеколду и вернулся в жаркую времянку. На потрепанном шнуре висела убого горевшая лампочка. Собачник аккуратно уложил голову между двумя кружками и похрапывал. Василий наклонился к окну. Из стекла на него смотрело собственное бесплотное лицо — черные, пустые глаза-зрачки.
«Черное, черное, — вспомнил он. — Черное — это то, что не излучает света...» Отмахнулся от себя и улегся на лавку.
Но сон, словно запас его на эту ночь уже весь вышел, никак не собирался, не заваривался в морозно-ясной голове. Василий поглядел на остановившиеся бог весть когда ходики, и его вдруг устрашила трясинная сила времянки, которая пережила его каменный дом и застопорила ходики.
Василий поднялся, взгромоздился на шаткий крутящийся стульчик, подтянул вверх гирьки и вправил в гнездо засаленную, оступившуюся кукушку.
Когда он открыл глаза, было уже светло.
К утру, видимо, потеплело, окна отошли от изморози, а в облачном небе проглядывали синие островки. Собачника уже не было, только немой парень сопел на топчане. Василий открыл дверь и пошел по сникшему, волглому снегу к собачьим клеткам. Черный, недвижный силуэт пса, словно выхваченный, унесенный белым, наступившим днем из отошедшей ночи, ждал за прутьями.
Василий поднял щеколду. Пес подвинул к нему глаза и длинно, испытующе посмотрел.
— Выходи, — сказал Василий тихо. — Пошли.
Пес помедлил, потом, неторопливо, твердо ступая лапами, вынес себя из клетки и стал рядом с Василием.
— Пошли, — повторил Василий и направился к времянке. У двери он помешкал, обернулся на пса, уверился в чем-то, сказал коротко: — Подожди тут.
После улицы в комнате стоял сонный затхлый дух. Василий вынул вязаный кошелек, ощупал его пальцами и положил на грязный, облезлый стол.
— Штраф, — сказал он тихо. — За что только?
Парень на топчане вдруг завозился, заворочался, замычал горько и жалобно. Словно потерянный где-то внутри него голос метался, искал выход из несуразного, пришедшего в запустенье тела — и не находил; рвался — и разбивался о вечную тишину.
Василий пожалел его в сердце, но поторопился выйти и осторожно притворил за собой дверь. Пес стоял у крыльца и ждал. Василий чуть нагнулся и дотронулся до темного собачьего лба. Пес не посторонился и не приблизился.
Скрипнула дверь, и из комнаты возник взъерошенный парень. Он сумрачно оглядел Василия и овчарку. У Василия екнуло сердце. Из открытой двери донеслось какое-то шипенье, и стало слышно, как с лязгом сорвалась с насеста кукушка и хрипло, не освоившись еще с собою, громко, ошалело прокуковала. Парень вздрогнул, и тут Василию показалось, что мутная пелена его глаз прорвалась, исчезла, и в них высветилось удивление, вопрос... Надежда...
Василий махнул ему рукой и пошел к воротам. Пес неслышно ступал за ним след в след.
За воротами они пошли по дороге, пошли вровень, спокойно, не оглядываясь. Василий снова положил ладонь псу на лоб и сказал:
— Сначала — на вокзал. Там ведь нас мать ждет. Каждый день.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:







