ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Богуславская Зоя
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Джаганова Алтыншаш 1972
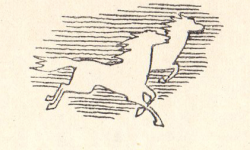
Старик неподвижно лежал на спине. Его козлиная бородка торчала кверху, открывая жилистую шею с запущенной редкой щетинкой. Ему было удобней лежать, опрокинувшись навзничь, — так, казалось, и душе просторней, и дышать легче.
Он долго лежал в полудреме и, хотя тело его оставалось недвижимым, метался, мучился между сном и явью. Одолевали мутные, бессвязные нелепые картины, чередовавшиеся с реальностью, с нынешней жизнью старика, ничем не отличавшейся от бесконечного однообразного сна, сна, по существу давно уже захлестнувшего, изничтожившего настоящую жизнь, настоящую реальность, какой представлялась старику прежняя его жизнь.
Стояли последние дни шильде. Скоро спадет жара и начнется коварный месяц, от которого можно ожидать всего — и дождей, и заморозков, и ревущих ветров, словом, месяц ненастья. Но пока крохотную, шириной в три шага, комнату старика заливало солнце, он чувствовал, как отогревает оно старческие кости, как млеет его ослабшее тело.
Старика разморила еще и сытная еда. Сегодня у невестки выходной день. Она с утра возилась на кухне со стряпней. А он не рассчитал своих возможностей: так долго разносился по дому запах копченого мяса, так тепло и уютно сделалось старику от этого даже в его дальней угловой комнате, что невозможно было удержать себя.
Старик никогда не жаловался на свой желудок, он вообще ни на что не жаловался. Частенько старик слышал, как ровесники его сына, наезжавшие гостить, жаловались на печень, на сердце, на желудок, на селезенку, жаловались они — о создатель! — даже на кровь свою. Старик не понимал, как можно жалобой осквернять кровь светлейших предков.
Иногда он думал: отчего так одолела его слабость, свинцовая слабость, предательски, почти внезапно, за три неполных года заполнившая его располневшее, рыхлое тело. Ведь три года не такой уж большой срок, если соизмерить с прожитыми годами.
Здоровым старика в доме никто не считал, ему не вызывали врачей, его не спрашивали, что и где у него болит, ему не давали лекарств, не делали компрессов, но были убеждены, что он болен.
Старик сам знал: от кого от кого, но от него разит мертвечиной. Лежит целыми днями на своей постели и ждет смерти, отживает свое. Он не обижался. Ведь в прежние времена говаривали старики: «Пусть смерть обойдет наш дом, а если и придет, то пусть уносит нас, стариков».
Он лежал, все еще запрокинув голову, отгоняя привычную, но сегодня неизъяснимо тяжелую дрему.
Загремела посуда на кухне — это его невестка моет и скоблит на целую неделю. Старик вздрогнул, очнулся. Он положил голову удобнее и потянулся. На кухне опять загремела посуда. Он угадал, что уронила невестка, — жестяную миску. Она звякнула и, видимо, завертелась... В доме две такие миски, одна для него, другая для внучки. Наверное, чтобы не разбили.
Он тут же вспомнил, как его потчевали в былые времена, какими блюдами, из какой посуды, но тогда он был молод и восхищал всех ловкостью, сноровкой, статью и лукавым зорким глазом еще перемигивался с самыми прихотливыми молодками.
Старик остановил себя... Сколько раз он уже перебирал свою жизнь, проверяя и испытывая память, сколько раз ворошил ее и копался в ней. Что толку теперь — будто ничего и не было: не было ни доброго его имени, ни дома собственного, ни почета аульчан, ни коня, ни дела, — всего этого как будто и не было.
И когда он вспоминал, — а вспоминал он все до мельчайших подробностей, насколько память сохранила, — его охватывала невыносимая тоска. Он сникал. Ему казалось, что от этих воспоминаний он старел еще больше.
Но старик любил говорить: «Слава богу!» Что означало: «Много сетуешь! Благодари создателя за добродетель его, за многое и малое, чем наделил он тебя. Сколько отпущено для тебя, столько записано на челе твоем при рождении. Столько суждено тебе и пережить. Слава аллаху, ведь бывает и хуже...»
Старик вспоминал всех несчастных, какие только встречались ему: калек, свихнувшихся бродяг — и радовался тому, что судьба была к нему в этом отношении милостива.
Старику не хотелось опять изводить себя прошлым. Он ловил себя на том, что только и занимается перелопачиванием былого, наглухо отгороженного от сегодняшнего дня воздвигнутой временем стеной.
Старик окончательно пришел в себя. Он привычным жестом протянул руку к стене — над кроватью висела его домбра. И то, что он никак не мог ее настроить, раздражало его. Он ругнул домбру за ее капризы. Домбра была старая, в общем-то уже никудышная, но старик не расставался с нею, потому что... Но это опять воспоминания.
Наконец домбра настроена. Старик тихо заиграл. Все эти копания в прошлом, думал старик, оттого, что делать ему нечего. Отлеживает бока, да только и знает судить-пересуживать.
Дни текут незаметно, один скучнее другого. «Скучнее, — старик усмехнулся, — не то слово. Что я, девка на выданье?» Просто все эти три года в городе — как один длинный нескончаемый день.
Вот уже несколько лет старик не видел: в его короткую, как заячий хвост, оставшуюся жизнь вошла глухая темнота. Она стала частью его, она заставляла старика подчиниться ее законам. И хотя мрак опередил его смерть, хотя тело его, утратив свою упругость, вконец одряхлело, хотя разум его почти помутился, не отличая сон от яви, старик считал, что это все же день, а не ночь. Не ночь, хотя мрак укрывал от старика весь его и без того крохотный мир.
Старик перебирал струны, расположив домбру на животе, и от ее звуков ему становилось покойно.
Старая домбра заменила ему аульных собеседников. Когда он играл на ней, ему становилось легче, как становится легче исповедовавшемуся человеку.
У старика в городе не было собеседников. Ведь он никуда не ходил: некому было его водить по скверам, где на скамеечках вечерами посиживают городские старики. Он даже не знал, нашел бы с ними общий язык или нет, ведь они совсем не похожи на его аульных земляков.
Взять хотя бы плешивого Касыма. Дурная попалась старику невестка — никакого ухода за ним. Через день приходил к нему, брил, а когда надо, и стриг, заодно всю душу свою выворачивал. Все вместе переживали. А как же иначе-то? Ведь вместе с детства росли, вместе еще босоногими на прутиках гонялись за девчонками.
А городские другие — степенные, важные. Им подавай своего, культурного. Старику они были чужды, может быть, оттого, что он ни одного из них не знал и знать не хотел.
Теперь у старика нет ни плешивого Касыма — мир праху достойного, похоронили в прошлую зиму, и эта весть дошла до старика только весной, — ни кого-нибудь другого, осталась лишь домбра, единственное, что сохранилось от времен давно забытых, затянутых паутиной времени. Она его усмиряла, смягчала холодный неподвижный взгляд.
Слава богу, размышлял старик, жизнь еще теплится в нем, и сердце потихоньку перегоняет по телу кровь. Старинный род его предков хоть и не разросся при нем, а все продолжает жить. Его сын — чем не достойный наследник? Ученый человек, ездит в блестящей красивой машине, даже обедать его привозят и увозят.
Телефон, как казалось старику, всегда начинал звонить неожиданно. Он стоял на низеньком столике в коридоре, и старик иногда, на ощупь добираясь до туалета, натыкался на него. Бывало, что и опрокидывал.
Днем, когда в доме никого, кроме старика, не оставалось, ему случалось поднимать трубку и отвечать, смешивая русские и казахские слова. Обычно в квартиру попадали по ошибке. Чаще всего один и тот же мужской голос спрашивал:
— Главоборудование?
А то и прямо приступал к делу:
— Послушайте, сколько можно, целый агрегат...
Старик научился отвечать. Он внимательно выслушивал все, что говорилось, а когда на другом конце вспенившийся человек наконец в изнеможении замолкал и требовал ответа, старик произносил хриплым голосом :
— Аляу, это патира, патира!
— Тьфу, черт подери. — Трубку на другом конце бросали. Вслед за этим раздавались злые частые гудки. Когда дома внучка, он избавлен от этого «черт подери». Она отвечала складно без спешки, а то еще и замечание сделает:
— Не ругайтесь, пожалуйста, лучше правильно наберите нужный вам номер.
Внучка вообще караулит звонки: как услышит, со всех ног бросается к телефону. Ей не раз попадало за это от матери.
Но и на этот раз она опередила всех:
— Алло! Да! Кого? Сейчас. Мама, тебя!
Вот раздаются дробные шаги невестки, торопливые, но четкие. Она ходит дома в разношенных старых туфлях. Эти туфли были предметом постоянной ругани с соседкой, что жила под ними.
— Да. Я слушаю. А-а, Пистимия Ксенофонтовна! Добрый день. Вы сегодня дежурите? Ну, как наша Липси себя чувствует? Беспокойна? Температура? Пульс? Что ж, надеюсь, у нее просто скверное настроение. Если что... вы мне позвоните. Договорились? Спокойного дежурства!
Старик от внучки немного знает о Липси. Это не то свинка, не то крыса. Его невестка делает на ней какие-то опыты. Сколько раз из-за Липси в семье переживали то траур, то ликование. Настроение невестки всегда было в прямой зависимости от настроения Липси.
— Мама, ну как там Липси?
— Пока все хорошо. Иди-ка лучше повтори историю, а я потом проверю. — Невестка опять застучала каблучками, остановилась, наверное, у зеркала, которое висит на стене между дверьми гостиной и кухни. Под зеркалом хрупкая полочка, на ней — расческа, баночки и еще всякие разности.
Старик точно рассчитал, сколько шагов от туалета до полочки — семь, а сначала, на пятом шагу, столик с телефоном. Но они, молодые, и не догадываются, что старику эти вещи мешают и даже внушают страх — не приведи аллах разбить что-нибудь!
— Папа! Где ты, наш папа ?
Старик морщился, ему было неловко и стыдно слышать притворное «Папа!», не нравилось, как невестка называла его сына.
— Спустись, пожалуйста, в магазин, купи чего-нибудь на ужин. Да, кстати, сегодня там работает та самая кокетка. Тебе, наверно, будет весьма приятно делать покупки.
— Что за глупости! Не будь такой язвительной, тебе не идет. Лучше улыбнись, ведь Липси чувствует себя превосходно. Я буду на нее молиться, если она будет всегда такой.
— Вечно ты меня ею упрекаешь!
— Ладно. Опять все сначала. Что купить?
— Можешь ничего не покупать. Ты просто изводишь меня своими упреками, замечаниями.
— Но ты должна отдать мне должное, я никогда тебя, как ты меня кассиршей, не упрекал твоим Федотычем.
— Ну, знаешь ли! Нужно быть последним человеком, чтобы... Да у него вся голова седая! Кроме того, он весь, весь ушел в науку и до мирских твоих пошленьких дел ему... Ты просто бездушный человек. Ты никогда к моим друзьям и коллегам не относился так, как они того заслуживают.
— Ну, хватит. Что купить?
— Для тебя главное — напакостить, а я молчи, да? Покупай что хочешь! — Хлопнула дверь, и воцарилась тишина.
Старику давно были знакомы подобные сцены, он к ним привык и только удивлялся, что молодым не надоедает говорить одно и то же. И еще он удивлялся, что молодые так быстро забывают о ссоре, как будто ничего и не было.
Старик давно перестал выполнять роль третейского судьи. Но он хорошо знал, что ему не нравилось в их разговорах. В сыне — постоянное подначивание, а в невестке — бабья вспыльчивость.
Невестка еще ни разу не упрекнула сына тем, что, мол, ей приходится ухаживать за немощным стариком. Другая, может, давно бы сказала: «За что такое наказание?» А она — нет. Старик уважал ее за это и боялся услышать что-нибудь на этот счет в очередной бурной сцене, боялся, что она однажды не выдержит...
Старик тихо перебирал струны домбры. Она плохо слушалась его: выскальзывала из рук, да и струны ослаблялись слишком часто. Но он не злился: какой с нее спрос — отслужила свое.
А что же сын, что сын ответит ей, если она нечто подобное все же скажет? Что?
Старик долго пытался придумать — что, но не мог. Все ответы получались слишком громкие, слишком категоричные, а сын его любил говорить, слегка подтрунивая, слегка отшучиваясь, слегка соглашаясь...
Старик часто думал о сыне. Он вспомнил, как по ночам, облокотившись на колыбель, сидя засыпала его жена. Он хорошо запомнил ее позу, сползший платок, выпростанную грудь. Старик вспомнил, как она, проснувшись, тут же торопливо прикрывала эту грудь занавеской и, раскачивая колыбель, тихо мурлыкала себе под нос одной ей понятную песню. И тогда жизнь наполнялась смыслом. Он, потянувшись в постели, засыпал глубоким приятным сном, сознавая свою, теперь, с появлением ребенка, особую роль в семье, роль покровителя этих двух любящих его существ.
Его жена была непоседливой и сварливой. Как тигрица, она оберегала его и сына, да вот не сберегла себя.
В первый же день своей болезни она сказала:
«Что, старый, будет с тобой без меня? Пусть простит мне аллах язык мой грешный — много наговорила лишнего. Не со зла все я, ты уж прости. Сына оставляю тебе. Ученье свое закончит, пусть сам выбирает, остаться в городе или в отчий дом воротиться, не перечь ему, нынче времена настали другие, у молодых дорога иная, не всем за скотом ходить. Не для того голову книжными мудростями забивает пятый год. Если умру, не повидав его, передай, что он сын почтенного рода и что ему беречь его честь. Не суждено, видно, мне на его невестушку поглядеть да на свадьбе его попотчевать гостей». Она повторила несколько раз слово «невестушка» и слабо улыбнулась при этом.
Как жила все в суете и спешке, так и умерла, провалявшись всего три дня в постели, поохала, постонала — и все. Ее болезни даже всерьез никто не успел принять. Сына известили уже после ее смерти. До последней минуты, уже лишившись языка, все смотрела на дверь — ждала его...
Помнит он, как клокотала по его рукам кровь единственной его кобылицы, которой он сам перерезал горло в день смерти жены. В тот день, когда замолк ее с хрипотцой голос и дом стал пуст и страшен без нее, хоть и голосили по ней аульные бабы.
Кровь клокотала, а буланая дергалась, откидывала из последних сил голову, дрыгала связанными ногами, когда он заносил над ней отточенный нож.
Буланая долго корчилась и хрипела в муках, никак не могла испустить дух. Да и как ей было испустить его, когда она была красива и молода, когда звенел голос недавно родившегося от нее жеребенка, привязанного в опустевшем стойле.
Помнит старик, как опустил он смирившуюся голову кобылицы, думая, что уже все, но вдруг голова с перерезанным горлом взметнулась вверх.
Потом он смотрел, не в силах оторваться, на ее неостриженную гриву и застекленевшие глаза. Огромная туша лежала, бесстыдно вытянувшись, а из сосков тоненькой белой струйкой текло молоко.
И старик опять заплакал, он вспомнил, как жена, грациозно, сама о том не зная, садилась на одно колено, доила эту кобылицу. Как по ночам бегала в стойло, когда подходило время жеребиться, как поила, ласкала и ругала ее. Он любил кобылицу, но покойная жена любила ее как-то по-особенному.
Женился он, уже лишившись и отца и матери, и она так вошла в его дом, что заменила родителей. По-матерински заботилась даже о старой гончей его отца.
Один из потомков этой породистой гончей все ночи напролет выл под окнами во время болезни жены. Старик разозлился и велел прогнать его и отодрать как следует. Жена остановила его тогда:
— Настал ее час поплакать, пусть скорбит по мне, умное отродье — не кличет смерть, а чувствует ее. Некому будет по мне и голосить-то, напрасно сына не женила, тогда бы все честь по чести.
Странная она была. Ведь никто и не подумал о ее смерти. Ему казалось, что смерть приходит не так, слишком несерьезным все это выглядело. Ну, с кем не бывает: схватит лихорадка дня на два, на три, а там, глядишь, человек уже здоров.
Старик тосковал по покойной жене и часто шептал: «Святая она, святая!»
Он всегда содрогался, вспоминая окровавленные свои руки, вымя буланой и звонкий голосок жеребенка в пустом сарае...
Все отзывалось болью. Он словно был наказан женой за затянувшееся свое долголетие. Ведь многие говорят, что люди, прожившие вместе долгое время, не выносят разлуки и отправляются вслед...
Спокойствие покинуло старика. Да и было ли оно вообще? Когда он думал об этом, ему казалось жестоким, что жизнь устроена на сплошной тоске по молодости, на неусыпном желании все перестраивать, переделывать, а сил для этого уже не было. «Почему человек, — думал он, — до самого своего последнего дня чего-то хочет, даже когда знает, очень хорошо знает, что не может?»
Старик перевернулся на бок. Сетка кровати скрипела при каждом его движении, подбрасывая его полегчавшее тело. Ничего не изменилось, даже, наоборот, стало совсем неудобно.
Невестка теперь жужжала стиральной машиной. Стало быть, не удержалась, женщина вес же. Редко какая женщина может сидеть в собственном доме сложа руки — не усидит. Такая у них порода.
Старик не спеша спустил ноги, нащупал прислоненную к стенке кровати палку, поставил ее между ногами и, опершись на нее обеими руками, поднялся. Закружилась голова, будто наливаясь свинцом, но он ухватился за спинку кровати, переждал и, осторожно водя палкой перед собой, двинулся.
Идя по коридору, он никак не мог вспомнить, сколько шагов из комнаты до полочки и телефона.
— Ата, на солнышке бы немного посидели, — услышал старик голос невестки, — жара уже спала. Помочь вам спуститься вниз?
— А если на балконе?..
— Сейчас стул поставлю туда, а я перетрясу тем временем вашу постель.
Старик чувствовал, что свинец, уже заполнивший голову, теперь заливал полую грудь. Он знал, что даже на балконе ему долго не усидеть, но уж так приятно журчал голос невестки, что трудно было возразить.
Он быстрее обычного выбрался из туалета, потому что его теснота сегодня особенно была ему неприятна. Подступающие со всех сторон стены, казалось, стискивают его негнущееся, распухшее тело.
И, добравшись до чистой воды в соседней ванной комнате, старик долго плескал водой, заставляя двигаться плечи, руки, ноги.
Когда он, волоча просторные галоши, вышел оттуда, его взяла под руку невестка, отвела на балкон и усадила на стул.
Стул был холодным и жестким. «Не догадалась подстелить чего-нибудь», — подумал старик. Потом он вспомнил, что забыл набросить на плечи легкий чапан. Наверное, неприличен и страшен он сейчас в белой рубашке, в белых просторных штанах.
— Принеси мне, айналайын, чапан, — сказал он в комнату. Но его никто не услышал. Он опять повторил, уже громче, но опять никто не отозвался.
Старик не стал больше повторять, но через некоторое время почувствовал, как невестка накрыла его плечи старым пальто сына. Оно было настолько тяжелое, будто два джигита сели ему на плечи, а полы не подобрать — узко.
Он слышал, как входила и выходила невестка: наверное, выносила его постель. Не вовремя взялась она за это. Ему бы сейчас в самый раз опять лечь в постель. Солнышко, хоть и грело, теперь совсем не радовало старика. Чем больше ходила невестка, тем больше ему хотелось лечь. Он хотел сказать об этом, но сдержался: для него же старается, не может же она угадать, когда ему вздумается лежать, когда сидеть.
Старик еще подумал, что сын и невестка всегда хотели делать так, чтобы ему было удобней, лучше, но всегда у них получалось наоборот. Он никогда не говорил об этом. Он стеснялся. Особенно невестки.
— Ата, подержи веревку за этот конец.
Внучка подала ему веревку, а он взял ее ручку и поцеловал.
Старику было приятно держать пухлую ее ручку.
— Подойди, дочка, ближе, дай-ка мне лобик.
Сердце старика сначала сжалось, а потом так забилось, что он почувствовал, как в висках пульсирует кровь. Кровь прилила к лицу. Старик подержал головку с шелковистыми волосами и, чмокнув в лоб, погладил волосы и плечи, потом, будто спохватился, опять схватил за руку и прижал внучку к себе.
«О создатель, не могу жаловаться, тысячу и один раз тебе благодаренье. Это существо возместило мое потухшее зрение!» Внучка у него умница. Сколько сказок ему перечитала, сколько песен спела своим тоненьким голоском, сколько рассказывала о своей старой учительнице из Ленинграда, про соседа по парте по прозвищу «Забияка».
— Ата, ну подержи за веревку, ата! — дергала девочка старика за руку. — Крепко держи, я буду крутить, а котенок будет прыгать. Пожалуйста, ата, держи крепче, котенок уже смотрит на свою скакалку. Вот увидишь, сейчас будет прыгать, я каждый день его дрессирую.
Старику хотелось поскорее добраться до своей постели, ему становилось хуже. Ныла поясница. Но ему не хотелось огорчать внучку, и он держал веревку. Веревка вдруг выскользнула из рук, старик застыдился своей немощности и поднялся.
— Куда ты, ата, ну подержи чуть-чуть.
Старик нащупал дверь в комнату, руки его дрожали, а пальто сползло с плеч и упало...
Таким долгим показался ему путь до комнаты. Все заняты, думал старик, грохнусь здесь у порога замертво, никто и не заметит. Ай, молодые, молодые еще, зеленые.
Невестка усадила старика опять на жесткий стул и убежала за его постелью.
Наконец старик лег, вытянул ноги и вздохнул. И разлилась по всему телу томительная истома, будто положили его в молочную ванну. Только в глазах его дико плясали искры. Они переливались всеми красками радуги, и прямо от затылка до самых век что-то натянулось, готовое вот-вот лопнуть. Эта дикая пляска утомила его, он не знал, куда от нее деваться, поднимал и опускал веки, но ничего не помогало.
Он знал, что ему нужно как-то справиться с этим, отвлечься и не замечать. Старик повел по щербатой стенке рукой и привычным жестом нащупал домбру. Он никогда не слыл домбристом, и вообще мало кто знал, что он умеет на ней играть. Играть он толком не умел, но руки его иногда просили струн.
Однажды он принес полено и поставил его за печку. Часто потом постукивал он по нему, проверяя, насколько ушла влага. Жена поругивала его, когда за печку ставила опару: полено ей мешало.
— Над могилой своей поставишь, что ли? И сдалось оно тебе! Только место занимает.
Старик отмалчивался. Наверное, год строгал он, разбрасывая по всему дому стружку. Строгал он время от времени, но если садился, то уж до глубокой ночи. Жена поругает-поругает, а потом и посмеется над его затеей.
— Ты бы лучше забор починил или хотя бы кол острогал, теленка ведь негде привязывать...
Старик и сам знал, давно бы нужно и крышу перекрыть, можно было бы и стенки поднять — совсем уж осели, да и веранду можно было бы пристроить, колодец во дворе почистить. Знал он, да все его в бок куда-то заносило. И зачем она, эта домбра, ему нужна? Взбрело в голову — и все тут.
А теперь эта домбра пережила его жену и его скоро переживет.
Когда внучка уходила в школу, а сын и невестка на работу, наступала такая тишина, что весь дом, казалось, звенел от нее. Тогда старик брал свою гундосую домбру, бренчал на ней, и ему становилось спокойнее.
Так и теперь ему хотелось хоть чем-либо отвлечь себя, остановить поднимавшуюся в нем бурю, которая не сулит ничего хорошего.
Старик осторожно взял ее со стены, может быть, с тем же чувством, когда он целовал свою внучку, погладил по ее неровным, но уже отшлифованным его же руками бокам.
Старик знал всего лишь один кюй. Может, оттого, что он умел играть только его, он считал его самым прекрасным из всего, что когда-нибудь слышал.
Плакал мудрец, плакал от бессилия, от бессилия языка человеческого. Плакал, что не может довести, растолковать все то, что он знает. Он видел, как переругиваются из-за пустяка два брата и обходят друг друга стороной, как старый хрыч заглядывается сальными глазами на юную красавицу, как сын перечит отцу, и повторял их ошибки. Мудрец знает цену каждому мгновению, мудрец постиг, что нет ничего желаннее жизни на земле, но он узнал это, когда одолела его бессонница, когда стали трястись руки. Он встречал рассвет, любовался природой и плакал, глядя на спящих людей...
И почти в самом конце есть момент, когда мудрец бьет, бьет струны, рвет их, заставляя домбру клокотать. Старик любил повторять это место.
Услышав звуки домбры, в комнату заглянул сын.
— Я вижу, ты сегодня в настроении. На воздухе побывал, вот теперь на домбре играешь. Отец, если хочешь, я могу тебе купить или даже специально заказать новую домбру, а то у этой прямо звуки будто скрип колес старой телеги.
— Для такой старой телеги, как я, пойдут и такие колеса.
— Пусть старая телега — зато крепкая, настоящие плотнички обтесывали. Вот будешь чаще на воздухе бывать, и настроение другое будет.
Старик хмыкнул. Сын не понял, как он отнесся к его словам, и, поглядев на его торчащую бородку, закинутую голову, подумал, что у старика вызревают новые причуды.
— Чай стынет, иди скорей, — услышал старик голос невестки.
Сын ушел, но старик не знал, ушел он или же стоит в комнате. Он продолжал лежать неподвижно.
Через некоторое время он услышал голос сына уже на кухне.
— Звони, звони, передай мой поклон прекрасной Липси.
— Алло. Пистимия Ксенофонтовна, что делает Липси? Да какой там покой. Все мои домочадцы о ней беспокоятся. Хорошо... Пока!
Старик после смерти жены жил один в большом глинобитном доме. Он любил вздыхать, жаловаться на одиночество. Но старик тогда еще не знал, какое оно на самом деле — одиночество.
Он тосковал по праздничному убранству в доме, по дастархану, который, помнится, почти не убирался со стола. Гостей всегда был полон дом. Теперь приходили к нему аульные старики да женщины-соседки, готовившие для него. Он был обидчив и не прощал тем, кто приходил, когда была жива еще его жена, и не стал приходить после смерти.
Теперь старик тосковал по тем временам. Соседки, бывало, подсылали ему своих детей, когда он оставался один, его зазывали в гости, а старики, старухи вообще ходили к нему часто. Они посылали молодух белить дом, замазывать щели в окнах. Ему тогда хотелось, чтобы было как у всех: скот во дворе, жена в доме, а собака в конуре. Этого не было, и он тосковал. Откуда ему было знать, что и эта жизнь потом покажется райской.
Сын в те годы жил в городе, уже работал. В один из его приездов старик сказал ему, что высмотрел он для него девушку. Сын отшучивался, но особенно возражать не стал.
Вскоре он привез девушку, только выбрал ее сам. Когда встречали их всем аулом, старик все еще никак не мог согласиться с тем, что не жена будет встречать пришедшую в дом невестку.
И свадьба, казалось, проходила не так, как могло быть, поэтому осталось от этой свадьбы тяжелое чувство бессилия и пустоты. Его радость оставалась неполной, и еще большее угнетение почувствовал он оттого, что молодые не надолго задерживались в его доме. Он понимал, что он слишком не подходит для их опьяненной молодостью жизни.
Тогда старик был еще хозяином дома и самого себя. Он наотрез отказался ехать с ними в город. Он хотел, чтобы его в последний путь вынесли из этого дома и похоронили рядом с женой, на одном кладбище с предками.
И все же судьба заставила его покинуть родные места. К тому времени старик был уже сед, как лунь, а зрачки его глаз едва различали человека, стоящего перед ним. И сын настоял на своем.
Что ж, решил старик, раз уже сын указ отцу, раз дорос сын до этого, а отец дожил, так только радоваться тому.
Уезжая, старик оставил соседям гончую, ту самую, которая выла под окном в день смерти жены. Сын рассказал, как бежала она за машиной, как отставала, высунув язык, и вновь догоняла, утопая в клубах пыли, потом, убедившись, что ее не возьмут, села, высунув язык.
В прошлом году приезжал из аула парень-заочник, и старик спросил, жива ли собака. Тот сказал, что собака побиралась у каждого двора, тащила все, что плохо лежит, жила в своем старом доме, сбежала от соседей. Однажды утащила мясо, развешенное для копчения. Хозяин разозлился и выстрелил в нее. Она два дня валялась в сарае опустевшего дома, отказываясь от пищи, а потом исчезла.
Опять вспомнил старик, как жена зимой кутала ее в старый ватник, подкладывала из чистого тряпья подстилку, утепляла конуру, а когда было особенно холодно, впускала в дом. И, бывало, старики, приходившие в гости, осторожно намекали, что осквернять дом псиной не подобает людям столь преклонного возраста.
Жена говорила, что и тварь создана аллахом и, коль она на службе у своих хозяев, спрос за нее будет и на том свете, что хорошая собака лучше, чем скверный человек.
Старик думал, как поступила бы она, если бы была жива. Она бы не оставила их старого дома, не пришлось бы жить на пятом этаже.
Старик виделся с сыном редко. Иногда тот заходил в его комнату, закуривал и говорил о пустяках. О том о сем, о погоде, о птицах. Старику казалось, что сын просто отбывает те несколько минут: так, мол, надо. Старик досадовал, что сыну не о чем с ним говорить.
А было время, когда старик сам затевал с ним разговоры, желая облегчить сыну эти минуты, но вскоре понял, что никакого интереса этим не возбуждает, а, наоборот, делается смешным и жалким. Сын бывал разговорчив только тогда, когда приходили к нему друзья.
Вот позавчера приходил один щелкопер. Иначе не назовешь. Вместо обыкновенного «ассалаумагалайкум» он сладеньким голосом произнес интеллигентное «саламатсыз ба». Правда, вначале старик не обратил на это особого внимания. Но когда в большой комнате все чаще стали звенеть рюмками, гость так и запел. Сначала долго пылил про какую-то выставку новых художников и все повторял «колоссально», «колоссально». И за этими словами старик явно чувствовал, что гость будто вот-вот выговорит: мол, посмотрите, какой я умный. Потом с такой же похвальбой стал разглагольствовать об экспедиции, шести разновидностях каких-то жуков.
Вроде ругать его не за что, понимает он, старик, что кто как может свой хлеб зарабатывает, да только жаль, что джигиты на коне еще толком сидеть не могут, а корчат из себя мужчин.
Ловить жуков — что за занятие? А сын расспрашивает про тех жуков, чему-то удивляется, будто с неба они свалились. Да спроси лучше у него, у старика, он всех жуков без глаз, на ощупь, определит и рассортирует, если уж это так нужно.
Интересные они, эти молодые ученые люди. Ходят — грудь колесом, непонятные слова говорят. О ком только не вспомнят: Чингисхан, Гитлер, Сталин, Мао, а спроси какую-нибудь пустяковину из жизни — рассуждают, трещат, любуются своей речью, но ведь ничегошеньки не понимают.
Старик любил сгущать краски, он знал, что не всегда прав, но все равно поругивал, распекал. Был сын моложе — больше тянулся к нему, был проще. Он рассказывал, чем занимается, какие люди к нему приходят, о чем они говорят. Больше всего вспоминали об ауле, вздыхали о матери, о развалившемся старом родовом доме.
Теперь не стало и этого. Не находят они теперь общего языка. С годами появилась между ними пропасть. Она казалась очень легко преодолимой, если произойдет откровенный разговор, но никто для сближения не делал первого шага.
Старик молча таил обиду, что сын относился к нему с холодным сердцем. Поучает его, на воздухе, говорит, больше бывай, а нужен совсем другой воздух.
Старик лежал себе и наигрывал, искры в глазах потухли, наступил привычный мрак. Это не был совершенный мрак, совершенная темнота, был едва уловимый просвет, который служил ему ровно настолько, чтобы различать день или ночь.
Старик почувствовал чье-то присутствие. Вот подставили стул.
— Ата, я вам чаю принесла.
Невестка позвала внучку, чтобы та налила старику чай, и вышла, забыв прикрыть за собой дверь.
— Ты что в одной рубашке расхаживаешь по дому? — услышал он голос сына.
И то, что он услышал, поразило старика: значит, она так и заходила к нему? Слепой ведь, слепой, никудышный, все равно ничего не вижу! А может, она уже много раз к нему нагишом заходила? Ну и что? Старый слепой хрыч, изводит, изводит всех в доме, и все терпят, давно терпят...
Вспомнил старик слова Ахана-Серы, много раз слышал он эти слова и теперь понимал, как мало значения придавал раньше этой бесхитростной фразе: «Цена мне нынче ниже, чем плешивой овце!» «Сколько правды!» — изумлялся старик, все больше и больше распаляя себя. Разве думал он о таком конце? Умереть пристойно — вот чего он хотел все эти годы.
Ему хотелось сейчас настоящего большого скандала. Его ненавидят, его не переносят, так зачем обманывать? Бога не боятся — в бога не верят, черта не боятся — тоже не верят. А старик? Что он? Он же для них все равно что покойник, которого просто забыли закопать!
Старик долго изводил себя этими рассуждениями. Он никак не мог усмирить, подавить нестерпимую боль, распирающую грудь, которая, внезапно нахлынув, овладела всем его существом. И он жалел себя. И как ни странно, а от этой жалости к самому себе ему становилось легче...
Зазвонил телефон, но старик ничего не слышал. Ему не было никакого дела до всех земных страстей.
— Да, я слушаю. Кто это? Что? Когда? И что же? Бедняжка Липси! Где же вы раньше были? Сейчас я еду, приготовьте к операции. Выезжаю, выезжаю. Да, Федотычу звонили? Я сама...
Невестка торопливо набирала номер:
— Алексей Фсдотыч, Липси умирает... Я готова, еду, еду.
— Мамочка, ну что же ты? Вот уже и слезы.
— Все, все теперь насмарку! Я так верила в Липси, по всем данным... Вызови мне машину.
— Я не советую тебе ехать. У тебя руки дрожат, ты нездорова.
— Как ты не поймешь, что я должна ехать! Немедленно, немедленно! Вызывай машину!
— Хорошо, только я сам тебя повезу!
Она, эта тварь Липси, нужнее им, чем он, старик, потому что от нее хоть какая-то польза, а он... Какая от него...
Когда-то он считал себя рожденным под счастливой звездой. И долго ему мерещилось, что он не такой, как все, что в нем есть какой-то особенный дар. Он проживет не простую жизнь, у него на роду написано — быть ему человеком большим.
Потом под тяжестью будничных забот он начисто забыл о своем высшем земном назначении. Старик стал больше жить делами сегодняшними и мало думал о завтрашнем. Таким уж он был человеком, за что покойная жена не раз поносила его. А когда обскакали даже те, с кем оскорбило бы раньше даже сравнение, он понял, что человек он самый заурядный.
Не был он ни изворотлив, ни пронырлив, просто жил себе, как придется. И смирился старик, что отведена ему на земле такая участь: все смертные по молодости думают, что родились для дел незаурядных. Но он, слава богу, прожил, никого не убив, никого не обокрав, никого не обманув, не услышав ничьих проклятий.
Так за что, за что теперь он наказан?
Усталость навалилась на него, будто он целый день косил или укрошал необузданного коня, но он все еще продолжал безмолвно печалиться и сокрушаться.
— Ата, пей свой чай, а то он совсем остыл, — услышал старик у самого уха голос внучки.
И этот голос, детский, еще не окрепший голос, показался ему очень знакомым. Почему он раньше не прислушивался к нему? Певучий, гортанный, это же его голос, его самого. Кажется, у отца его был такой же.
— Это ты, дочка? Подойди ко мне.
— Сейчас, ата, только кончу сперва вырезать.
Будто разверзлись стены этой маленькой, узкой комнаты, похожей на колодец. И опять бурлило, бурлило воображение старика, неудержимо унося его в степь, в глинобитный, покосившийся родовой дом...
Он прижал к себе внучку, доверчивую, хрупкую и беззащитную, плоть от его плоти, и зашептал, забыв обо всем:
— Слава богу, тысяча и одно тебе благодаренье...
— Ата, ну пусти, уколешься.
— А что ты ножницами делаешь, положи — уколешь и себя и меня.
— А у меня секрет, только ты никому-никому, ладно?
— Оллай-беллай, — поклялся старик с деланно серьезным видом.
— Я вырезаю узоры для маленького коврика, чтобы мама его на свой пуфик положила. Подарок: у нее же скоро день рождения.
— И как у тебя получается?
— Не знаю еще, плохо пока.
— А ты бабушкин тускииз видела?
— Так вот же он, на полу, я на нем сижу.
— Где? Здесь? На полу?
— Да. На него я и гляжу. Хочу вырезать так, как на нем. Не получается.
— Айналайн, айналайн. Помоги мне, я встану.
Девочка подала ему слабенькую ручку.
Старик сел на пол, как раньше сидел в ауле, и водил, и водил рукой по негладкому тускиизу, будто ласкал кого-то.
«Эта женщина родилась не под простой звездой. Ай да женщина! Всю жизнь прожили рядом, бок о бок, а ведь не так она прожила, не так, как я!»
Старик гладил тускииз и плакал, плакал горше, чем на ее похоронах. Только теперь он понял, сколько трудностей принесла ему ее смерть. С ней ему было как у Христа за пазухой, ни один мужчина не был ему такой опорой, как эта смуглая маленькая женщина. А ее никто не брал в счет, он считался хозяином дома, он был патриархом аула, и людям было невдомек, что на ней и дом и доброе имя его держалось.
Вот оставила для внучки. Что с того, что не видела ее, что не научила ее сама каким-то своим премудростям, оставила ведь с чего учиться! Вот живет он, а чему научил ?..
Старик все думал и думал, что не случайно, нет, не случайно внучка колдует над старым барахлом...
— Постели мне корпеше здесь и положи подушку.
— Ты плачешь, ата, или смеешься?
— Постели мне скорей. Мне будет лучше, и сама поваляйся на полу. Ты станешь великой мастерицей, как твоя бабушка. Знай, что твоя аже умная, сильная, красивая, что это для тебя она сшила и вышила тускииз.
— Для меня? Правда, ата? А она меня видела?
— Нет, но она знала, что у нее будет такая, как она, внучка.
— А какая она?
— Такая, как ты.
— А я какая?
— Ты лучше всех.
Старик вспомнил про свою домбру. Она, его старая, никудышная домбра, расскажет о многом внучке, о том, в чем он сам еще до конца не разобрался...
Он сидел весь белый, подогнув одну ногу, небритый и усталый.
Он играл и сам не знал, что именно, может, что-то, что было знакомо каждому, а может, импровизировал на ходу. Но он играл, и ему казалось, что это самое важное. Это то, что должна запомнить внучка.
1972
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:







