ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Богуславская Зоя
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сысоева Татьяна
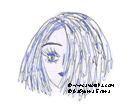


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Ерошок Зинаида 1987
Ранним летним утром идем по высохшим плавням к реке Кубани. Немой старик бережно переправляет нас на другой берег.
Что такое Переволока? Маленькая речка? Но почему она никуда не впадает, если речка? Озеро? Но почему оно течет, если озеро? Так ничего и не выяснив, тем не менее с упоением купаемся в мутном водоеме средь ила и камышей, ставим палатки под вербами, разжигаем костер и кричим во все голоса под гитару: «А на нейтральной полосе цветы необычайной кра-а-а-асоты».
Это было в походе, в детстве.
Там наша учительница Валентина Петровна Рагулина и рассказала про вербы.
Прошли годы. Теперешним летом я приехала на Переволоку.
У меня были пожелтевшие от времени вырезки из районной газеты «Таманец» с публикациями В. Таранухи «О чем шумят вербы» за 10 и 13 декабря 1968 года, маленькая, сильно отретушированная в типографии, фотография деда Кравчука да память о вербах из детства.
Во дворе Евгении Ивановны Капитоновой показываю фотографию.
— Нет, не знаю этого лица. А-а, слыхала, слыхала, як же. Люди казали, что хорошим дядькой був ций дед Кравчук. Но я туточки в войну не жила, а вин, кажуть, после войны в Темрюк перебрался, так что я его николи не бачила.
Расспрашиваю о тех, кто, судя по публикациям в «Таманце», близко знал деда Кравчука.
— Вахненко Феодора? Померла Феодора.
— Камышан Анатолий Пантелеевич? Нема вже в живых.
— Якименко Ульяна Ефимовна? Померла.
— Быхкало? Владимир? Це ж приемный сын деда Кравчука. Вон его дом стоит. Не-е, нема его дома. Помер Владимир недавно.
Я продолжаю называть имена и фамилии людей, встреча с которыми так сейчас важна для меня. Но никого из них уже не осталось в живых. Никого.
В поселке пустынно и тихо. И солнце жжет нещадно. Вот эта самая дорога, по которой немцы в сорок третьем гнали наших военнопленных. Дорога как дорога. Ровная, широкая, новая. Сорок три года назад была здесь, конечно, другая дорога, вся в противотанковых рвах, траншеях, в воронках от бомб и снарядов. Сегодня от них нет и следа.
Что же остается, когда от войны не остается и следа?..
В КЛУБЕ детям крутят кино про войну. Дверь в кинобудку выходит прямо на улицу, киномеханик курит на пороге, пока на экране стреляют. Киномеханик, видимо, скучает и потому останавливает меня как человека на дороге нового. И, расспросив обстоятельно, кто я и зачем здесь хожу, вдруг кричит: «Я знаю, знаю, кто вам нужен» — и бежит к соседнему дому.
Ларису Деамидовну Быхкало мы находим на огороде, нашему визиту она не удивляется, а, опершись на тяпку, рассказывает:
«Мама наша умерла рано, сделав нас, семь душ своих детей, сиротами. И разбрелись мы кто куда мог: кто в детдом, кто работать. Мне и шестнадцати не исполнилось, когда пошла в совхоз. А брата моего, Вовку, пожалел дед Кравчук, взял к себе жить, есты ему давал, одежонку справлял. А потом Вовка пастушонком сделался, а я замуж вышла, народила двух деточек, и вроде б уже налаживалась жизнь, как тут война...
Ушел мой муж на фронт. 15 ноября сорок первого года последнее письмо от него получила. Писал, что учится на младшего комсостава в Ростове. Так и не знаю, успел он выучиться на младшего комсостава или не успел. Но осталась я одна с двумя махонькими детьми, а кругом война, смерти, разрушения и голод. Бутылка масла подсолнечного 800 рублей стоила, буханка хлеба — 200. Така була жизнь. Я досе не пойму, чи була она, моя жизнь, чи ни була».
«А когда вот по этой дороге немцы гнали военнопленных, — продолжила Лариса Деамидовна,— то стреляли их в спины, забивали прикладами до смерти, давили танками или машинами, какого только зверства не было. Наши люди разве люди для фашистов были? Хотя а кто для фашистов люди были? Все как бы скоты. У моста горелого одна еврейка от колонны отделилась водички попить, так ей — бах, бах в голову — и убили. Старенькая женщина была, не дали своей смертью помереть. Похоронили мы ее там же, у горелого моста. А сколько их всех в эту землю позарывали. Молодых, крепких, больших таких мужчин. И незнамо, кто они булы, безо всяких, конечно, документов, а чьи-то ж любимые, кому-то край как нужные...
А дед Кравчук, помню, хоронит этих убиенных и ветку вербы втыкает каждому в изголовье и кажет, це буде, девчата, верба, и сильно разрастутся ее ветки, и повылазят наши браты из земли и сядут на те ветки отдыхать...»
В следующие дни мы стали ходить по дворам с совхозным комсоргом Еленой Журавской.
«Дед Кравчук был худенький, низенький, с черными усами и дюже, дюже добрый, — сказала нам Александра Алексеевна Волчанская. — Наловит рыбы, сварит и принесет нам в поле: нате, девчата, ешьте. Только, кажет, не хватайте кажна лишь себе, а поделяйтесь, поделяйтесь друг с другом. А сам он всегда поделялся с людьми, чем мог, картошкой ли, деньгами. Много денег (по тем временам, конечно, много) люди у него в долг позабирали, а те, что без совести, и не поотдавали. Был он человек одинокий, приехал к нам в тридцать пятом с Украины, а жена его померла. Може, вы подумаете, много ль надо одному старому человеку, так вы так не думайте, дед Кравчук поделялся с людьми не потому, что был одиноким, а потому, что дюже добрый.
А перед тем как немцам отступать, дед Кравчук казав нам: девчата, ховайте картошку, кукурузу, хоть у землю зарывайте, а ховайте, чтоб, коли наши придут, було им шо есты.
А про вербы так казав: «Помните. Я умру, а вы помните, тут — люди. Вот верба — это человек».
...А я, глупая, уже далеко после войны, ходила к тем вербам и ветки с них кролям ломала. А потом, как дошло до меня, шо ж я делаю, дедушка садил, помнить наказывал, а я... Хиба можно про то забывать? Чего ж теперачки удивляться, что молоды люди не могут войну представить?
От ведуть пленных по дороге, а Нинка Камышан вынесет огурцы хорошие или помидоры, картошку или еще что-то и вроде б как помои выбросит все это на дорогу, под ноги пленных, чтоб, значит, пленные схватили какой кусочек. Да, от себя, от детей своих оторвет Нинка продукты, и самы лучшие продукты. А немцы плетками, плетками Нинку за то, и стреляли в нее даже, а она все равно каждый день пленным еду совала. Така добра женщина, сил нету, яка добра. Мы с нее пример брали.
А еще вот что помню. Когда наши отступали, морячка одного нам оставили. Сильно пораненный он в ногу був, не мог ни идти, ни плыть. А дед Кравчук его вон в том рву сховав. Еду носив, травами лечив. А ров вербами, вербами поприкрывал. И уже это под носом у немцев було, а никто из них не пронюхав, никто из наших не выдал. Мама наша и Дуська Нижнегородчиха еще тому морячку еду носили. Ну, в общем, выходили моряка. Ушел он в плавни, а потом перебрался к нашим. И, когда наши вернулись, тот морячок тоже среди них був, уж как он нас обнимав, как целовав, а деду Кравчуку низко, низко кланявся».
«Зима сорок третьего очень холодной тут була, а плавни промерзли почти до самого дна. Немцы гнали людей по дороге и расстреливали, а трупы сбрасывали в камыши. А весна выдалась ранняя, и с первой оттепелью началось массовое разложение трупов в плавнях. По дороге стало ни пройти ни проехать, и немцы решили плавни поджечь. Пожар был огромадный. А когда он стих, в плавнях обнаружилось несколько сотен полуобгоревших трупов... так страшно они лежали, невозможно представить, не побачив...
Немцы приказали убрать их с глаз долой, а после стали предусмотрительны и распоряжались тут же, как убьют, «присыпать» человека. А мы старались как-то по-человечески... похоронить... хотя оно разве при фашистах получится по-человечески?.. Придешь и бачишь, убиенный-то живой, да, умирает человек, но еще не умер, дышит, за жизнь цепляется...
А ты сидишь и боишься шелохнуться... и надеешься на чудо, а чуда нет никакого... а кругом фашист... за спиной стоит али полицай, что еще хуже... И спасти человека никак не можно... и вот ты сидишь и ждешь, когда человек скончается... И то лучше самому умереть, чем так смотреть и не могти ничем помочь... Ой, як оно було, як було...»
...И ТУТ я увидела мертвую вербу. Она была со стволом, ветками, листьями, почти живая, почти настоящая, однако — мертвая. Нет ничего на свете непоправимей смерти, и, если даже смерть настигает не человека, а дерево, все равно это жуткое зрелище.
Мертвых верб тут одно время было несколько. Засохли они или еще какая беда с ними случилась, но, рассказывали люди, тянулись вербы по краям дороги, истощенные, обескровленные, и птицы остерегались на них садиться, и прохожие отводили глаза, и только тень вербы на землю еще бросали, будто живые.
А потом и теней не стало.
Пришли молодцы с топорами и вырубили вербы. Все вербы вырубили. И живые, и мертвые.
Дорогу там новую строили. Чудом уцелели три дерева.
Сколько их тут было раньше? Сотня? 300? Полтыщи?
Местные жители называют разные цифры.
Но вот Ирине Конограевой, первому секретарю райкома комсомола, сказали в Темрюкском краеведческом музее: легенда! Не было никогда ни тех верб, ни того деда Кравчука.
«Как же не было, как не было! — сокрушается Григорий Харитонович Сивак. — Все было. Все правда. Я, когда с войны пришел, в сорок шестом це було, ахнул, те вербы побачив. Мне люди сразу рассказали, что под вербами солдаты наши. К сорок шестому году те вербочки вже богато выросли. Я став казать: «Давайте перезахороним цих наших солдат». На каждом собрании про то казав и так, к начальству, ходив. Но никто на это не пошел.
Чего он особенного сделав, цей дед Кравчук, строго и недоверчиво спросят вас в музее али еще где? Втыкав ветки вербы у землю? Це разве подвиг? Не подвиг. Но я вам як фронтовик кажу: вин не воевал, дед Кравчук, но був на войне и був солдатом, долг свой перед жизнью исполнив по-солдатски просто, сурьезно и сурово. И нет в том никакого преувеличения».
В КРАСНОДАРСКОМ государственном архиве тихо и покойно, как в читальном зале. Передо мной на столе «Дело о работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний и учету ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками на территории Краснодарского края». Ищу все, что касается Темрюкского района.
Вот:
«...79 хозяйств Темрюкского района было разрушено...»
«...за период оккупации угнано в немецкое рабство 16.918 человек...»
«...В Темрюке было истреблено, расстреляно и замучено мирных граждан 525 человек...»
«...В Темрюкском районе было замучено военнопленных 1.481 человек...»
Сколько из этих 1.481 замученных военнопленных лежат под вербами деда Кравчука? Под вербами, которых нет?..
«...помните — тут люди...»
«...вот верба — это человек...»
«...под вербами — солдаты наши...»
«...наши браты...»
«Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...»
Не выходит из головы это стихотворение Твардовского. Но в том-то и дело, что и вина моя есть, и я о ней знаю.
Вернувшись из похода, тогда, в детстве, думала ведь о войне, о вербах, о далеком и неизвестном мне деде Кравчуке. Но вскоре учебники, друзья, велосипеды и улицы вытеснили все, в походы на Переволоку мы уже не ходили, все чаще ездили к морю.
А дед Кравчук, «далекий и неизвестный», жил в то время в моем родном городе Темрюке, всего в четырех кварталах от моего дома. И живы были многие люди, помнившие это, и вербы были живы.
...ЛЮДИ УМИРАЮТ. А мы как будто об этом не догадываемся. И спохватываемся, когда уже упираемся, как в стенку, в смерть. И стенку эту не обойти.
Дед Кравчук умер в 1967 году, судя по всему, в Темрюке. Родичей у него, как утверждают люди, не было. Говорят, в Темрюке он жил у маслобойни. Сейчас там живут другие. Они не знают ничего о деде Кравчуке. Могилу его на темрюкском кладбище найти не удалось. Имя-отчество деда Кравчука, кажется, было такое: Николай Федосеевич. Но точно это не установлено.
...Память, она живая, и так же, как вне жизни, не может быть вне нас самих, не существует сама по себе — память, не существует.
Но что мы без памяти? Что будет с нами, кем мы будем, если память о деде Кравчуке, например, так же усохнет, истощится, как его вербы? Впрочем, может ли это случиться помимо нашей воли? Ведь и вербы те не все усохли сами по себе, многие из них живьем были вырублены.
Какое резюме? Нет у меня никакого резюме.
Я просто знаю, что память требует усилий. Так же, как труд, как любовь, как жизнь.
И знаю, что в память о деде Кравчуке мы должны сделать что-то очень человечески простое.
Например, посадить на том самом месте, вдоль дороги, молодые деревца.
Конечно, это должны быть вербы.
Темрюкский район,
Краснодарский край.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:







