ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Богуславская Зоя
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сысоева Татьяна

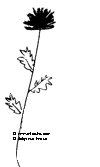

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Поликарпова Татьяна
Что
говорит сам Сережа
— Почему? Странный
вопрос! Назвали и назвали. Маме с папой
понравилось, вот и назвали. В родне у
нас, между прочим, никаких Сереж не было.
Ни знаменитых, ни просто так. Так что
это вы зря думаете, мол, в чью-то честь.
Понравилось имечко — Сережа, Сереженька,
Сергунок, знаете, разнежатся родители,
пока ты маленький, новорожденный, и нет
от тебя пока никаких вредностей, кроме,
может быть, писка и пеленок. Ну, и называют.
Кажется им, что Сереженька, имечко,
которое они над тобой приговаривают,
это ты и есть.
Они ведь что-то чувствуют
тоже, что-то думают, образ некий, греющий
их нежностью, добротой, честностью,
смелостью, великодушием, еще бог знает
какими добродетелями, витает над их
головами, когда они произносят твое,
ими самими придуманное имя. Тебя-то
самого они еще и не знают. А имя —
произносят, и вроде уже есть славный
человек.
— ...Говорят они, что имя мое
появилось на свет раньше меня самого.
Мол, договорились, если будет мальчик,
то Сережа... Мама как-то раз, смеясь,
сказала мне, что она нашла мое имя в
поезде.
Что могла бы рассказать, если
б захотела, его мама
Это был прекрасный
вагон. Жесткий, бесплацкартный, наискось
по короткой диагонали перехлестнутый
солнцем: светлыми, напряженными от массы
пляшущих пылинок полосами. Они упирались
в темно-коричневые блестящие полки, и
казалось, что полки дымятся, плавятся,
испаряются. Они, правда, испарялись,
наполняя вагон крепким запахом краски,
олифы и чуть-чуть — керосина. Наверное,
от этого запаха, свойственного пустым,
только что отремонтированным помещениям,
в Ольге возникло ощущение просторности
вагона. Да так и не пропало. Стоило ей
потом припомнить эту поездку, и он
появлялся: просторный, пустой, полный
солнца жесткий вагон. Хотя какой же
пустой, когда народище ломился в двери
с билетами и без билетов, лишь бы
пристроиться.
Только благодаря Витьке
— он как-то так рассчитал, что они в
числе первых вскочили в вагон,— Ольга
обнаружила целое незанятое боковое
купе. Ну, не купе, конечно, а боковые —
верхнее и нижнее место. Даже лучше, что
боковые: тут сидишь за столиком и никто
рядом не жмется.
Витька сразу же
взгромоздил ее рюкзак с яблоками на
спальную полку, а Ольге наказал:
— Ты
сиди внизу, а говори, что твоя — верхняя.
Спать — лучше там. А то будут по твоему
носу подолами мести... Шлёнды всякие...
Витька перевел дух, с удовлетворением
окинул взглядом «купе».
— Ну, я
спокоен,— сообщил он, подмигнув Жанке
и Катерине,— Ольге комфорт обеспечен!
Они все возвращались из турпохода, с
Кавказа, но девчата решили побыть в
Москве еще дня три, а Ольга спешила
домой. Девчатам что? Они сами казанские,
весь год дома живут. А Ольга жила в
районе, в деревне, в Казани только
училась. Она и вообще-то скучала по
родным, а тут еще месяц каникул провела
на юге. Ольга страшно завидовала девчатам:
все время дома! И зимой, как летом. Но, с
другой стороны — как замечательно
приезжать на каникулы, когда наскучаешься
в городе и надоест он до отвращения!
Тогда окунаешься в дорогу, словно в
чистые прохладные волны, смывающие
серость, пыль, пот ежедневной привычности,
и дома выплываешь из этих вод свежей и
чуткой ко всему в мире, с промытыми
глазами и мыслями.
Ольга шлепнулась
на скамейку, прямо на дымящееся пылью
солнечное пятно, и зажмурилась, привыкая
сидеть на раскаленной сковороде. Девчонки
и Витька радостно захохотали и сами
сели, приговаривая.
— Ну, не замерзнешь,
О-ля-ля! Не-ет! Ни за что не замерзнешь!
Ольга смотрела на их лица, блестящие
от пота, ровно смуглые от высокогорного
загара, и прислушивалась к себе с
радостью: «Нет, не жалко! Ни капли не
жалко и не страшно сейчас, через пять
минут, остаться одной». Правда, с
девчонками она встретится осенью, а с
Витькой, наверное, больше никогда. Они
даже адресами не обменялись. Товарищи
по походу — и все. Он москвич.
Получилось
как-то так, что в Москве казанские
студентки остановились не у девчат-москвичек,
их было немало в группе, а именно у
Витьки, хотя отношения с ним в походе
сводились к одним поддразниваниям и
спору — для чего учиться. Витька считал,
что учиться стоит только ради хорошего
заработка, а раз он — два года тому назад
ремесленник — сейчас выколачивает по
2000 рэ — зачем ему учиться? Инженеры у
них на заводе больше тысячи двухсот не
имеют.
Да чем на лекциях голову дурить,
он, Витька, лучше хоккей посмотрит, в
кино смотается, в бассейн сходит!
—
Время молодое — дорогое! — приговаривал
Витек самодовольно.
Он очень был горд
собой и своими самостоятельными
взглядами.
О казанских студентках
думал в глубине души с жалостью: ну, чего
кипятятся? Ничем они его не могут убедить.
Главное для человека — жить так, как
хочется. И ни от кого не зависеть. А
девчонки суетятся оттого, что больше
делать им ничего не остается. Экое дело
— знания! Да он, Витька, знает о жизни
побольше, чем все они, вместе взятые!
Девчата порой смотрели на него с
жалостью: не виноват же человек в своем
убожестве. «Может и правда не виноват,—
думала Ольга, глядя на детские припухлые
Витькины щеки и губы, но не могла заглушить
неприязнь: две тысячи в месяц достаточно
человеку, чтоб он смотрел на все и всех
сверху вниз... Деятель...»
Одно нравилось
в Витьке: его независимость. Плевать
ему, что про него думают. Живет так, как
хочет. Другое дело, как он хочет... В этом
месте размышлений о Витьке снова едким
парком всходило в душе презрение: две
тысячи... Господи!
Там, в походе,
отношение к Витьке было вполне
определенным. Москва как-то вдруг стерла
четкие грани.
Радушная, мягкая, ласковая
Витькина мама («Настоящая старинная
москвичка!» — решили девчонки) кормила
их сочными ватрушками и свежими щами,
сдобренными всякой душистой зеленью.
После походных каш и макарон эта еда
обволакивала домашней надежностью и
уютом, спокойным постоянством жизни.
От доброты и милостей Витькиной мамы,
от ее еды Ольге еще сильней захотелось
домой. Она сказала, что завтра же уезжает.
Витька сам вызвался съездить на вокзал,
закомпостировать билет — в Москве он
вдруг посерьезнел, будто почувствовал
ответственность за трех студенток
Казанского университета. Куда и делся
его нахально-вызывающий тон —
предупредителен, заботлив... Чудеса! На
прощание Ольга расцеловалась с Витькиной
мамой, чуть не плача, так было жалко, что
нельзя жить где-то рядом и ходить к ней
в гости.
Сейчас в вагоне, зная, что и
Витьку видит наверняка в последний раз,
и прислушиваясь к себе, Ольга радовалась,
что хоть теперь спокойна и почти
равнодушна. Даже весело ей стало.
Она
почувствовала себя независимой, отдельной
от всех. Значит, это правда — то, что
произошло с ней тогда на перевале над
долиной реки Алазань. Значит, осталась
в ней, действует, живет — жива та новая
сила, которую вдохнули горы в ее
человеческую, ранимую, суетную, зависимую
от каждого преходящего момента душу.
Раньше в такой вот вагонной ситуации
ей было бы жаль Витьку. Жаль, что он так
и пропадет в гуще людей, и она не узнает,
что с ним будет дальше. Сердце бы щемило
от бесполезной мысли: почему и кому
нужно, чтобы люди узнавали друг друга,
входили бы в жизнь друг друга добром,
пусть коротким, а потом навсегда
расставались? Она бы мучилась зависимостью
от Витьки, оттого что у него спокойные
глаза и ему все равно. Не потому, что он
как-то ее задел, нет: если б на его месте
сейчас была любая девчонка из их отряда,
с которой тоже, пожалуй, никогда больше
не встретишься, Ольга чувствовала бы
то же самое. Но так было бы раньше! По ту
сторону перевала.
Наверное, оттого,
что подъем на перевал, особенно последние
часы, был трудным; оттого что поднялись
на седловину уже в полной тьме, и так, в
темноте, только при свете костра (топливо
несли с собой) разбили палатки, а какой
он, окружающий мир, было просто не видно,
наверное, потому казалось, что из
последних сил они вознеслись в самую
поднебесную высоту.
Когда кончилась
недолгая в этот раз суматоха ужина, и
многие сразу же разбрелись по палаткам
и затихли, Ольга с Софкой отошли от
костра и сразу остались одни. Глубокая,
но в то же время как бы прозрачная тьма
растворила контуры палаток. Высокая
твердь неба была намечена резкими
колючими звездами. Казалось, девчата
на каком-то медленно поворачивающемся
под звездами острове и ничем не связаны
с остальной землей.
Лишь когда они
подошли к началу крутого склона, заметного
только потому, что их остров все же был
из более плотной тьмы, чем небо, они
увидели землю. И оказалось, что она еще
дальше от них, чем небо, и чернее его, и
тоже помечена скупо раабросанными и
более тусклыми, чем звезды, огнями. А
далеко-далеко, у бесконечно удаленного
горизонта, изгибались огненные змеи:
одни пропадали, возникали другие; они
разбегались в стороны, перемещались и
все равно как бы оставались на одном
месте.
— Траву жгут. Палы,— сказал
кто-то сзади них.
Ольга оглянулась:
оказывается, они не одни. Ребята — кто
сидел, кто стоял у самого склона —
смотрели туда, в долину.
— Отсюда,
наверное, километров за сто видно — с
такой высоты.
— Даже, может, больше.
— Только Алазань светится...
Она в
самом деле чуть светилась. Тонкая, слабая
ниточка реки отражала свет звезд. Одна,
заметная на глубокой черноте земли, она
как ватерпас обозначала ровную плоскость
долины и ее протяженность и еще раз
давала ощутить, сколь высоко вознесен
их лагерь.
Ребята переговаривались
тихо, и голоса, и слова не имели силы
спугнуть странное, никогда ранее не
испытываемое Ольгой ощущение. Наверное,
труд сегодняшнего подъема, когда ноги
подламывались, а сердце стучало в самом
горле и только воля заставляла совершать
каждый следующий шаг,— подготовил ее
к теперешнему состоянию. Сердце билось
медленно и сильно, дыхание было таким
глубоким, таким полным, что сама себе
она казалась одновременно и легкой и
крепкой. Она и вовсе бы не чувствовала
своего тела, если бы не свежесть этого
темного, чистого воздуха поднебесья:
он омывал ее, протекал сквозь нее,
оставляя в самой середине груди, наверное
там, где живет душа, холодок, замирание
— как перед последним толчком, срывающим
лыжника с кручи.
И не осталось больше
границ между нею и прильнувшим к ней
пространством.
Ольге казалось, что
она — вот только что! — нашла себя. Что
до сих пор она и не знала себя, не жила
вся целиком, а только как бы половиной
своей души. И вот здесь, сейчас, ей вернули
вторую половину, и душа стала цельной,
круглой, как весь этот мир вокруг нее,
душа стала сама собой.
Она вдруг
подумала, как мелко и незначительно
все, что осталось там, внизу, на земле.
Все, что томило, тяготило ее сердце,
посягало на ее волю и внимание. Эти
тысячи и миллионы желаний: кому-то
нравиться или не нравиться, что-то
успеть, доказать или кого-то разубедить,
проявить или скрыть, но дать заметить...
Тысячи условностей — можно или нельзя
— тщеславных до детскости забот связывали
ее жизнь.
«Какое все это имеет — имело
— значение?!» — с замиранием сердца
думала Ольга. Думала, стыдясь за себя
прежнюю, вспоминая угрюмоватый исподлобья
взгляд Кости, враждебно и ревниво
следящего за каждым ее шагом, за каждой
улыбкой, обращенной к другим; вспоминая
свою робость при случайных встречах с
Андреем. Она мучительно краснела при
этом. А почему? Только потому, что он был
красив, и однажды на лекции она загляделась
на него, а он перехватил ее взгляд. Ольга
вспыхнула тогда: о чем может теперь
подумать он. Ах, ах, как сложно!
Господи!
Вот лилипутство, вот рабство! Это все
равно ничего не значит! Если ты свободный
человек!
Она не смогла одна пережить
свое открытие.
— Соф,— позвала
тихонько,— как мы жили! Как постыдно! И
о чем заботились: что про тебя подумают!
Нравишься ты кому или не нравишься!
Ф-фц! Ну, какое это имеет значение!
—
Никакого! — сразу, страстно, без секунды
раздумья отозвалась Софка.
Недаром
они так быстро подружились — всего две
недели похода вместе, а Софке ничего не
нужно объяснять.
Ольга поняла по
одному ее слову, что Софка переживает
то же самое, что ей тоже теперь удивительно,
какие лилипутские чувства держат ее на
земле, ее, свободную, прекрасную и гордую
Софку.
Удивительно! Ты — человек, ты
добр и велик. Ты протягиваешь руку и
даришь всех кругом своей Улыбкой, своим
Расположением, и какое тебе дело до
того, что кто-то примет твое Расположение
и Доброту за желание нравиться; твою
Веселость назовет заигрыванием; а твое
Спокойствие и Задумчивость — равнодушием!
Друзья, такие, как они с Софкой, поймут
все, как надо, а те, что не понимают —
пусть радуются, злорадствуют или
огорчаются. Нам-то что? Сдерживать себя
— лишь бы они не поняли тебя превратно?
Ведь так недолго сделаться и другим
человеком! Желая постоянно в глазах
других быть самой собой — потерять
себя!
Просто быть! Не оглядываясь, кто
что подумает,— быть. Чувствовать себя
всегда вот такой, как сейчас,— независимой.
И когда придет настоящая любовь, ты
поймешь ее, узнаешь сразу, как сегодняшнюю
ночь, а не придет — не надо!
Потом,
осенью, вернувшись в университет, Ольга
выслушивала комплименты, втайне про
себя улыбаясь: «Как тебе идет загар! Ты
просто стала другой! И глаза изменились!»
Она-то знала, что это новая ее душа
отражается в ее глазах, руководит
движениями, походкой. Пусть думают, что
загар...
...Ольга спокойно и щедро
улыбалась Витьке и девчатам: уже
прогромыхало над составом — гнусаво и
железно: «Провожающим выйти из вагонов!»
Они пошли по тесному проходу, оглядываясь
на Ольгу, посторонились, давая пройти
двум парням в форме студентов-геологов.
Парни несли чемодан и рюкзак. Витька
ревниво-враждебно бросил им вслед: «Там
только одно место свободно!»
— А мы
не жадные! — добродушно отозвался один,
скинув с плеча рюкзак на скамью, где
только что сидели девчата. Чемодан,
очевидно, пустой,— он зашвырнул на
багажник и стал, опершись лбом и локтями
о край второй полки, нависая над Ольгой
вопросительным знаком. Посмотрел на
нее внимательно:
— Ну вот, нам больше
и не надо! Разрешите?
Ольга пожала
плечами. Дескать, чего спрашивать, когда
все равно больше мест нет.
— Я сейчас!
— доверительно бросил ей парень, и они
с товарищем убежали.
Он вернулся,
когда поезд уже миновал Москву, и Ольга
соображала, что делать с его багажом.
— Понимаете, в последний вагон вскочил,
заболтались с другом,— сообщил парень.
У него было приятное — чистое,
темнобровое и темноглазое — лицо,
спокойный внимательный взгляд без тени
той тщеславной уверенности в собственной
неотразимости, которая обычно свойственна
более или менее привлекательным ребятам.
И она порадовалась, что с ним можно будет
поговорить про геологию, не опасаясь
какого-нибудь дурацкого заигрывания.
Ольга когда-то в школе пережила
увлечение геологией, но хоть и пережила,
интереса не потеряла. Потому и в горы
пошла. Кроме того, у одного человека из
их группы (у того самого Кости, при
воспоминании о котором Ольгу особенно
радовала приобретенная в горах
независимость) был друг-геолог, очень
красивый парень, Ольга видела его на
фотографиях (учился он в другом городе)
и втайне думала, что могла бы в него
влюбиться. Одним словом, немало нашлось
чего, что заранее расположило Ольгу к
попутчику. Тем более что сердце ее,
надежно защищенное случившимся на
перевале, было, по ее мнению, в безопасности.
Скоро они знали, кто что, куда и откуда.
Ольга спросила, приступая к своему
плану — поговорить о геологии:
— Ну,
а что было у вас на практике?
Он махнул
рукой.
— Да, обычно: холодно, грязно...
— Делали-то что?
— Эксплуатация
нефтяных скважин...
И снова продолжения
не последовало...
«Что же он, разговаривать
не хочет? Думает, я из вежливости его
расспрашиваю? Ну, что ж... Спросим о
другом, житейском»,— ехидно подумала
Ольга.
— Это правда, что вы, геологи,
все свободное время пьете?
— Откуда
ты взяла?
— Видела любительские фото
у одного парня. Там его друг — геолог —
с товарищами только за бутылкой. Иных
вариантов нет.
Геолог чуть нахмурился,
наклонил голову и крыло темных волос
скользнуло на лоб. Он молчал.
— Ну, и
вообще... говорят,— добавила Ольга
безжалостно.
Он глянул на нее — и в
глазах было любопытство: мол, что, будешь
мораль читать? Колючая насмешка:
«говорят»! Кто бы говорил! — но встретил
взгляд прозрачный и спокойный; светлые
зеленоватые глаза на смугло-розовом
лице доверчиво и доброжелательно ждали,
что он ответит.
И она увидела, как его
глаза разоружились: насмешка осталась,
но стала ласковой.
— Правильно
говорят,— кивнул он ей миролюбиво.— А
как ты хочешь, чтоб было? — И, не дожидаясь
ответа, продолжал: — Знаешь, как бывает
на буровой? Качаем в скважину глинистый
раствор — тундра, мерзлота. Температура
где-то минус семь. Это в июне! И вдруг —
на! Рвет скважину! С ног до головы в
жидкой глине. А нужно ж доделать,
законтурить...
Ольга кивала: да, да,
она слышала — законтурное обводнение,
чтоб давило на нефтяную копилку и нефть
бы поднималась.
— Ну, и после всего
этого не то что вымыться — обогреться
негде! Зуб на зуб не попадает. Одно спа
сенье — выпить. Так всю практику.
Ольга
жадно припрятала его рассказ, весь до
малейшего оттенка в интонациях, чтоб
потом, когда-нибудь, выпустить его и
пережить заново самой: и липкий холод
глины, и тяжесть низкого северного неба,
и заскорузлость окоченевших пальцев,
орудующих железом. Но это потом, это
успеется, это уже ее!
— Ну, ладно...—
Ольга глубоко вздохнула, будто перевела
дух, и вдруг упрямо тряхнула головой.—
Ладно! А в общежитии? Там чего?
— Ну,
в общежитии... Там — кто как... Привычка
уже.
— А ты? Ты как?
— А что я — лучше
всех? — Парень недовольно нахмурился.
Мол, чего привязалась?
«Просто не
хочет хвалиться»,— подумала Ольга.—
Если б пил, не такое у него было б лицо:
ясное, с румянцем на высоких скулах, с
таким открытым взглядом. Неожиданно
для самой себя она заявила:
— Я не
верю, что ты пьешь! — Получилось это у
нее так торжественно, будто она клятву
давала. Ей стало смешно. И они одновременно
расхохотались.
— И на том спасибо,—
еле выговорил парень.
Ольга почувствовала
облегчение: что неприятная тема — сама
ж ее вызвала! — нашла выход в этом смехе.
Напряжение отпустило их, и они хохотали
долго, то успокаиваясь, то снова
принимаясь.
— Наградила ты меня...
орденом трезвости... Ну и ну...— приговаривал
геолог.
Они смеялись, привыкая друг
к другу, словно осваиваясь в незнакомом
помещении, куда неожиданно попали
вместе. Вдруг Ольга спохватилась:
—
Ой, а как же тебя зовут? — и укоризненно
покачала головой.— Дескать, как же это?
До сих пор не знаю.
— А меня, Оля, друзья
зовут Серегой,— сказал он, нажимая на
«Олю».
— Се-ре-гой...— протянула она,
вслушиваясь.— Нет! Мне не нравится.
Вовсе ты не Серега. Ты Сережа.
— Да по
мне, как хочешь. Валяй, как нравится.
—
Да вот, так и нравится. А что меня Ольгой
зовут — ты от моих слышал. Подумаешь —
удивил. Шерлок Холмс.
Они вышли в
тамбур, там было опущено окно, и встали
рядом, одинаково скользя взглядом за
тем, что плавно выносила им навстречу
дорога.
Пространство земли гигантским
диском поворачивалось за окном. И если
наиболее удаленный, у самого горизонта
край этого диска, притормаживаемый
расстоянием, двигался медленно и вместе
с поездом, в одном с ним направлении, то
где-то там, где голова поезда, начиналось
встречное движение, и оно убыстрялось
по мере приближения к их вагону, как
будто это вагон своими колесами и
раскручивал, приводил в движение всю
землю от поезда до горизонта. Центробежная
сила рвала ближайшие к полотну дороги
предметы, отшвыривая их назад, назад!
Они исчезали, грубо обрывая взгляд,
невольно цепляющийся за них. И сама
земля неслась, мчалась, не давая
рассмотреть подробности: траву, цветы,
камешки на насыпи. Яркими пятнами
струилась, темными пятнами убегала,
возникая и уходя, возникая и уходя...
Колеса отбивали ритм этого движения,
постукивая на стыках рельсов... Шел
поезд...
Ольга, свободная и независимая,
чувствуя себя особенно легкой, подобранной
от ощущения скорости, смотрела на землю,
несущую ей навстречу то рыжего теленка
на меже, то деревню с приметной силосной
башней у околицы, то машину, поднявшую
нетающий столб пыли, совсем белой на
фоне темного леса, мимо которого шла.
Во всем узнавала она радостно приметы
близкого дома.
Куда бы ни переезжали
отец и мать, в каком бы ни жили районе,
дом был один, и приметы его не менялись.
Ей хотелось рассказать Сергею, что вот
это и есть ее дом: все, что они сейчас
видят. Может, даже и не ему, а самой себе.
Это кроткое от мягких облаков небо,
словно чуть смежившее веки — чтобы не
раздражать чересчур ярким светом; запах
полыни, перебиваемый то медовым духом
золотой сурепки с парующего поля, то
свежескошенной, наверное, уж не первый
раз за лето, травы на низком лугу. Эти
плавные линии холмов, да и холмами-то
их не назовешь, просто чуть вздымающиеся,
переходящие одна в другую возвышенности,
где-то укутанные кудрявым орешником,
где-то отмеченные грустным силуэтом
сохранившейся чудом церкви... Эта
мягко-плавная по горизонту, тихая,
некончающаяся линия... Сердце наполнялось
сладкой, томящей болью от узнавания, от
совпадения всего, что она видит, с тем,
что вечно, всегда, еще и до ее рождения,
знало и любило ее сердце... И будет любить.
Пока жива...
Ольга не задумывалась,
отчего так остро переживает сейчас
свидание с домом: оттого ли, что Кавказ
заслонил своей надменной красотой эту
тишину, и теперь она чувствует вину
перед родиной; или оттого, что сейчас
на уровне ее глаз темнеет чье-то плечо,
покачиваясь в одном ритме с нею, с
поездом... Она не думала об этом, но ей
хотелось связать то, что видят они
вместе, с тем, что знала она одна.
—
Во-он, вон, видишь: ложок весь в орешнике,
вон! Очень похожее место! Там, где мы
раньше жили, был такой же. Орехов родилось
— тьма!
— Знаешь ли, нет ничего лучше,
когда орехи всю зиму лежат на русской
печке! Делаются звонкими, а вкус — я
таких больше в жизни не ела.
Мимо
проплыло черно-пестрое стадо с пастухом
и приземистым коротконогим быком.
—
Самый удивительный бык,— сказала Ольга,
проводив стадо глазами,— был в нашем
совхозе. Белый был. Ванькой звали.
Свирепый, как людоед. За людьми гонялся.
Его куда-то увезли. Наверное, в зоопарк.
Или в Испанию продали. Для корриды.
Представляешь? Белоснежный зверь,
красная мулета, черный, как пиявка,
тореадор...— Ольга подняла глаза на
Сергея и увидела, что он смотрит на нее.
Так взрослые смотрят на разыгравшегося
ребенка: «Мол, интересно, что он еще
выкинет?»
Раньше бы Ольга смутилась
и обиделась. Теперь же она сама улыбнулась:
— Что, воображаешь себя Базаровым?
Наблюдаешь, как у Фенички во время чтения
шевелится кончик носа? Тебе кажется, я
болтаю чепуху?
— «Белый был... Ванькой
звали»,— повторил ее слова Сергей.—
Чудно, как ты говоришь... То-то, наверное,
тебя ждут...— он сделал паузу,— дома...
— Да уж ждут... А тебя?
— И меня...
Мама ждет...
Они взглянули друг на
друга и рассмеялись понимающе.
—
То-то — мама!
— Я приеду часа в три
ночи. Она спит еще. И я знаешь, что сделаю?
Залезу в окно и тихонько лягу спать.
—
А она утром проснется,— подхватила
Ольга,— а ее сынулечка посапывает в
кулачок! Сядет мама возле такого чуда
и залюбуется младенчиком в две версты!
— Подожди, еще и к тебе в окно залезу!
Ты готовься, пеки пироги каждый день...
— Пироги-то, Сереженька, пекут для
тех, кто в двери ходит! — дразнилась
Ольга.— А тем, кто в окна,— тем тумаки!
Поезд подходил к большой станции. Они
побежали на перрон. Сумерки уже начинались.
Безлюдно было. Не то, что на юге, где к
поезду сбегался народ, приносили столько
всего съедобного, вкусного: и вареных
кур, и вареники, и разварную картошку,
не говоря уж о ведрах с яблоками, сливами,
абрикосами. Здесь только госторговля
раскинула свои сети: коробок с черствыми
пирожками. Конечно, и это можно бы купить,
будь деньги у Ольги. Есть-то хотелось...
Но последние рубли были отданы за
яблоки — южный гостинец. Яблоками был
набит рюкзак.
Сергей, видимо, тоже
ехал к маме налегке. Поэтому они дружно
даже не глянули на пирожки, а просто
вприпрыжку и взявшись за руки пробежались
вдоль состава. «Для разминки»,— сказал
Сережа. И было прекрасно и легко, наверное,
немного и от голода.
Все испортил
конечно же сам Сергей.
Когда поезд
тронулся, и на ходу они вскочили в тамбур,
Сережка стал в дверях, ведущих в вагон.
Проводница грязно-желтой палочкой
свернутого флажка отсалютовала станции
и пошла к себе. Она миновала вежливо
посторонившегося Сергея, а когда вслед
за ней двинулась Ольга, он, глупо как-то
улыбаясь, сделал шаг, загораживая ей
дорогу: так, что если б Ольга не шарахнулась
назад, он бы прижал ее своим телом к
косяку.
Ольга отшатнулась инстинктивно,
еще не поняв, что произошло. Но в следующее
же мгновенье она вспыхнула:
— А ну,
посторонись, ге-олог! — протянула,
вкладывая в это слово все свое презрение,
связывая его со всем тем, что говорила
раньше о пьянстве, отталкивая, как
чуждое, враждебное себе, несовместимое
с доверием, которое испытывала к нему.
Но она могла бы и ничего не говорить.
Один ее взгляд отшвырнул бедного парня
в сторону. Она прошла к своему купе и
забралась на полку, привалившись головой
к жестко круглящемуся яблоками рюкзаку.
Яблоки пахли томительно нежно, вкрадчиво,
дурманяще. Их аромат не перебивали
другие — жесткие, грубые запахи вагона:
краски, пыли, железа. Он существовал сам
по себе, не сливаясь с ними и ничего не
теряя от их соседства. Хотелось постоянно
удерживать один глубокий вдох, чтоб не
терять этот аромат ни на мгновение. Но
приходилось делать и выдох — пауза без
яблок, и снова вдыхаешь, вдыхаешь,
вдыхаешь яблоки...
...Ольга лежала
зажмурившись и прикусив губу, не чувствуя
каменной жесткости полки.
«Что же?
Что же? Что же?» — однообразно выскакивали
вопросы под стук колес. А что — «что
же»? Что случилось? Обычный парень. Все,
как всегда. Если ты с ним смеялась,
дружески шутила, да еще за руку с ним
пробежались, значит, «заигрываешь»,
«намекаешь» — так у них называется. Он
соответственно и действует. Вот и все
твое — «что же». Ты была над долиной
реки Алазань, а он откуда-то из-под
Воркуты едет. Дистанция огромного
размера. Что он знает обо мне? Что я о
нем? Доверилась серьезному взгляду? Так
что же теперь? Опять все, как было? До
Алазани? Ходить как аршин проглотила?
Не разговаривать, не шутить — как бы не
подумали, что она «заигрывает» ? Так что
же, значит, она опять испугалась: что
подумают? Испугалась, что ошиблась в
человеке? Ольга почувствовала, как кровь
прилила к щекам. Эх, ты, независимая,—
обругала она себя,— вот тебе случай
самый что ни на есть обычный, всегдашний,
и ты сразу в амбицию! Не так, видите ли,
ее поняли! А ты растолкуй! И тут же снова
заныла досада: вот дурак! Недотепа! Как
бы сейчас весело болтали, ели яблоки! А
теперь угости, так подумает, что
подлизываюсь... Ах, опять — «что подумает»?!
Опять за старое!
Она развязала рюкзак,
нащупала два яблока покрупнее. Свесила
голову вниз. Интересно: там внизу пахнет
яблоками или нет? Если пахнет, Сергею,
наверное, не сладко. У нее самой от
желания впиться в гладкий яблочный бок
отчаянно ломило под языком.
Сергей
смотрел в окно. Морда у него была самая
унылая.
— Эй. Серега! На вот, подкрепись.
А то, смотрю, тебе жевать нечего.
Он
взял яблоки, улыбнулся виновато.
—
Спасибо! А я сижу, и, знаешь, у меня желудок
сводит: так пахнет яблоками.
— Я
думала, там внизу не пахнет.
— Ого!
Еще как! Вот спустись-ка...
— Теперь
уж что! Теперь я сама жую, теперь везде
одинаково будет,— как-то невпопад
сказала Ольга.
Но он понял.
— Значит,
не слезешь больше?
— Когда захочу,
тогда и слезу! — опять рассердилась
она.
И отвернулась к окну. Там уже
стемнело. Вагон монотонно раскачивало.
На ней было одно тоненькое платье с
узкими оборочками по плечам вместо
рукавов. Ольга не зябла, просто ей было
немного неуютно, оттого что не решалась
поджать ноги, как любила: платье было
только чуть ниже колен, и она лежала
вытянувшись на боку,— стойкий оловянный
солдатик. Все свои теплые вещи она еще
из Тбилиси выслала посылкой, чтобы
освободить рюкзак под дешевые на Украине
яблоки. Так сделали все девчонки.
Она
думала теперь не о себе, а о Сереже.
Почему Сережа, вроде совсем свой, оказался
такой, как все? Конечно, ничего плохого
он о ней не думал, это ясно, и чувствует
себя виноватым, это тоже ясно, но как
мог он ее не понять? Знал бы, что она так,
не стал бы лезть; но вот сам по себе —
все же не тот, каким она его вообразила.
И его нужно усмирять. И воспитывать. А
времени нет. Через несколько часов он
уйдет из вагона. И хорошо, что она теперь
другая. Просто жалко, что человек не
такой, как тебе хотелось. А уже было
показалось: брат, не брат... Братец...
Ничего себе братец, славный. Вставало
перед глазами его лицо. Вполоборота,
так, как видела его, стоя рядом у окна.
Высокая скула, крыло темных волос,
короткие густые ресницы над карим
глазом. Чистая линия щеки, улыбчивая
ямочка в углу губ. Видела его руку на
опущенной раме окна: широкое сильное
запястье, лучи пястья, резко обозначенные
под тонкой кожей. Вдруг ощутила, что она
лежит неестественно напряженно, что
руки до самых плеч обнажены, что платье
в самом деле такое тонкое, а на ней нет
даже сорочки, расцарапанные ноги в
стоптанных старых спортивных тапках;
и оттого, что лежит она на боку на ровной
жесткой поверхности, фигура ее надломлена
в талии, а бедро резко выдается.
И эта
ее неудобная поза, напряженность во
всем теле, неловкость, жесткость полки,
оголенность рук и ног каким-то странным
образом связывают ее с Сергеем,— хотя,
сидя внизу, он никак не мог даже видеть
ее,— делают ее беззащитной, зависимой
от него. Наверное, потому, что жестко и
стало прохладно. Надо бы слезть. Но
почему-то показалось совершенно
невозможным сейчас слезть вниз и просто
сесть за столик против Сергея. Она не
понимала, что это просто сон уже овладевал
ею, лишая воли. «Надо хоть повернуться
на другой бок»,— подумала она. Повернулась.
Натянула подол на колени. Ох, как
неловко... Но сон одолевал.
В полусне
почувствовала: что-то мягкое, теплое
коснулось ног, легло на плечо. Открыла
испуганно глаза,— на уровне ее лица
глаза Сережи,— он успокоительно моргает,
кивает: «Мол, ничего, все в порядке! Спи!»
Чем укрыл он ее? Прихватила рукой —
шершавое сукно. Покосилась на плечо —
желтое шитье геологического погона.
Улыбнулась Сереже уже с закрытыми
глазами. Тут же подобрала под куртку
ноги. Сразу стала засыпать. Брат. Братец.
Ах ты, мой хороший. Так с улыбкой и спала,
наверное. Крепко спала, спокойно. Не
слышала, как уходил Сережа, как осторожно
взял свою куртку, как посмотрел на нее,
запоминая, вспоминая ее голос: «Белый
был. Ванькой звали».
Не знала, как шел
он под светлеющим небом, вдыхая все тот
же запах полыни, что несся к ним в открытое
окно вагона, а иногда приподнимал плечо
и старался уловить тонкий, чуть заметный
аромат яблок от своей куртки. Он не
смешивался с запахом табачного дыма,
прочно въевшегося в сукно, он существовал
сам по себе.
Сергей вскидывал голову,
широко улыбался, отгоняя грусть. Ах, как
хорошо! Он и сам не знал, что — хорошо?
То ли, что куртка все еще пахнет яблоками?
То ли благодарная Ольгина улыбка с
закрытыми глазами? То ли ее расцарапанные,
блестящие от загара ноги, вернее то, как
она их сразу подобрала под его курткой,
мгновенно сжавшись в комочек? А может,
сегодняшнее тихое утро и мама, которая
не знает, что он уже приехал? А скорее
всего — все вместе... И то, и это...
Замерзнет, наверное, скоро со своими
голыми ногами,— подумал про Ольгу.—
Проснется где-то там на дороге.
Он
проследил глазами рельсовый путь,
сильным поворотом уходивший в сторону
от его тропы,— там давно уже скрылся их
поезд. И быстро зашагал к дому. Ни у него,
ни у Ольги, когда она и в самом деле
проснулась, не было чувства утраты,
потери, расставания навсегда. Потому
что это было в самой ранней юности.
Они
больше ни разу не встретились.
Послесловие
Сережи
Значит, вот так... Конечно, я
ничего этого не знал. Ни про геолога, ни
про Алазань. Вот так и живешь, зовешься,
как назвали, и не знаешь, что уже есть у
тебя история. То есть у имени твоего...
Нет, именно у тебя! Лежишь несмышленышем
в колыбели, а вместе с именем твоим —
бессмысленным пока что звуком: Сережа,
Сереженька, Сергунок,— реет-витает,
высокий слог употребляя, высота
поднебесная, чей-то перевал... Чьи-то
звезды... Чье-то беспощадное — или-или...
Это мамино: или все, или ничего...
Вот
и попробуйте, докажите теперь мне, что
ваше имя не влияет на вашу судьбу. Недаром
до сих пор (а мне сейчас столько, сколько
маме было тогда) я не могу — не хочу! —
пойти с девушкой — и прехорошенькой! —
даже в кино, если я не люблю ее.
А пока
еще никого... Не любил...
1973 г.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:







