ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
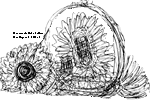


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Захарова Вера
ГЛАВА 16
Белкина собирает соцобязательства.
— Светлана Ивановна, опять вы какую-то туфту написали,— недовольно говорит она Светке.
Белкина почти всегда недовольна, она слишком серьезно относится к этому миру, который, по ее мнению, устроен как попало, тяп-ляп. Будь ее воля, она бы его переделала, передвинула в нужную сторону, как передвинула газовую плиту у себя на кухне — полгода она воевала с ЖЭКом и сантехниками и даже писала в редакцию городской газеты. Плита теперь стоит на месте, и в мире, видимо, что-то изменилось к лучшему. Быть может, поэтому с ней не хотят жить обе невестки: боятся, что и их передвинут куда-нибудь, как плиту. Невестки и безвольные их мужья маются по квартирам, страдают с ними и внуки Белкиной, а она пестует свои обиды на тридцати квадратных метрах одна. Она бы согласна разменяться — они не хотят. Зловредные попались невестки.
Светлану Ивановну Белкина тоже осуждает: мужа бросила, даже ребенка не родила, эгоистка, только и знает кремами мазаться.
Светлана Ивановна остро чувствует нелюбовь к себе, к тому же оскорблена за «туфту», поэтому и спрашивает невинно:
— Галина Степановна, как там Костя ваш? Помирились?
— Буду я еще с ним мириться,— ворчит Галина Степановна,— им теперь матери нужны, как... Внуков только жалко, а так бы живи вы как хотите.
— Ну, Костя ваш еще ничего,— добродушно вмешивается Зина Приходченко,— а вот мой — это действительно подарок.
Но Белкину и тут не обманешь, нет. Истина дороже сочувствия.
— Сама виновата,— строго говорит она Зине,— жена всегда виновата, если мужик пьет. Мой вот не пил.
— Он у вас от чего умер?— невинно спрашивает Светка.— От инфаркта?
(Подтекст таков: свела в могилу, ведьма старая, да еще гордишься.)
— Да мы-то со своим прожили не хуже людей,— готовно обижается Белкина,— я по любовникам не тоскалась, не искала, как некоторые,— режет она правду-матку Светлане Ивановне, ненавидя всяческие подтексты.
Светка вскидывает подбородок, поднимает руки к своей прическе и как бы безразлично и задумчиво начинает петь: «Чао, бамбино...» — глаза ее холодны и печальны и ничего давно не боятся — привыкли они ко всему, эти глаза.
Зина Приходченко огорчена, ей хочется как-то замять, развеять.
— Мы сейчас на кулинарных курсах кондитерские колбаски проходим,— говорит она,— а вы в прошлом году проходили?
— Нет, мы только ореховое суфле, — печально говорит Светлана Ивановна,— у меня конспекты остались.
— А я два занятия пропустила. Опять мой паразит пьет.— Зина тихо вздыхает.— А главное, квартиру дали, обидно... Я вот думаю, подниму ребятишек и уеду к маме в Краснодар — да запейся ты, сволочь, залейся.
— Это точно,— оживляется и укрепляется в себе Светка,— чем с таким барахлом жить. За штаны держаться — последнее дело.
— Ребятишки маленькие,— виновато говорит Зина,— а так бы что. А может, еще человеком будет, он так-то спокойный, когда не пьет. Я вот на кулинарные курсы записалась, думаю, пусть он с детишками сидит, пить, может, меньше будет. А он пьет.
— Сами мужиков распустили,— ворчит недовольная Белкина,— а не живется, так расходитесь, нечего людей смешить.
Нет, были же хорошие дни. У Глеба была командировка, Нина Сергеевна с Мариной приехали к нему в Слюдянку, в гостиницу. Глеб, молодой, незнакомый, суетился в этом непривычном, холостяцком жилище, хлопотал насчет чайника у вахтерши, и пили чай с брусникой. Вечером пошли на Байкал, был ветер. Взяли лодку. Качало как в море, и Нина Сергеевна панически, животным каким-то страхом боялась: вот перевернутся и как же спасать Марину в таких волнах. Глеб храбрился, но тоже побаивался. А Марина — та ничего не боялась! Раскачивала лодку, визжала, и, боже мой, какой восторг, какое счастье в глазах! Когда высадились на берег, Нина Сергеевна принялась отчитывать мужа, но Глеб только посмеивался. А Марина вдруг обиделась на мать, взяла отца за руку и прижалась, прильнула к нему. И весь этот вечер был посвящен Марине. Глеб по природе своей не столько отец, сколько сам ребенок: если он воодушевляется, то играет уже всерьез, и взаправду жестоко обижается, если товарищ его по игре (в данном случае Марина) нарушает правила. Тогда он не только надуется, но и нагрубит, наорет, сам обидит и всерьез перестанет разговаривать, забывая, что с ним все-таки ребенок, а не взрослый. К тому же он редко бывал дома — то командировки, то какие-то друзья, дела. Но в тот вечер между отцом и дочерью была идеальная синхронность, счастливое и редкое понимание. Глеб визжал и бегал с нею по берегу Байкала, как ее ровесник. И, глядя на них в тот вечерний час, Нина Сергеевна, кажется, понимала, что такое счастье.
Но
это — как искорка в их мертвой, мучительной,
серой жизни. В основном же они «смешили
людей», не думая и не помня о детях. До
Марины ли было в те самозабвенные,
неистовые, надрывные дни, когда они с
Глебом выясняли отношения?
Они жили с Глебом полмесяца после развода и особенно были нежны и внимательны друг к другу. О Валерке Глеб ничего не расспрашивал, и она ему была благодарна за это. Однажды вечером она возилась на кухне, кто-то позвонил. «Открой!» — крикнула она. Глеб открыл и вернулся странно серьезный. «Это к тебе»,— сказал он. Она вытерла руки о фартук и пошла в прихожую. На лестничной площадке стоял Валерка. Она просто не поверила глазам: что взбрело ему тащиться сюда, когда и в прежние времена она ему этого не позволяла? Чего он добивается от нее теперь, когда они помирились с мужем? Неужели все время он будет ее преследовать? Последний телефонный разговор был груб и отвратителен. Она вздохнула свободно, что наконец-то избавилась от Валерки. И вот он стоял у дверей ее квартиры, Глеб его видел, и, наверно, он сказал Глебу, что хочет видеть ее. Но с какой же стати? Это был урок на всю жизнь: за полтора года Валерка довел ее до того, что даже его голос по телефону вызывал спазму ненависти и тошноты, а его страсть устраивать сцены была смешна. По какому-то праву он возомнил, что волен распоряжаться ее душой и телом как ему вздумается, а он был ей противен, чем дальше, тем невыносимей. Она не понимала, почему так: когда она его любила, почему он не мог ее любить точно так же, а не выдумывать своих глупых капризов, не оставлять за собой право в любую минуту расстаться? Тогда до нее и дошло впервые, что любое чувство не столько претендует на взаимность, сколько стремится выразить себя, существует лишь внутри себя, и субъективное ощущение влюбленности, ревности и даже ненависти всегда приятнее. Но мы непременно ввязываем другого, делаем его виновником или соучастником наших собственных чувств.
В тот первый год, когда Глеб еще и не думал жениться, летом они поселились на чужой даче шумной компанией, вместе со Светкой Каурцевой и сыном хозяйки этой дачи, приятелем Глеба. Хозяева, как ни странно, разрешили, а дома Нина и Светка налгали матерям, что едут всей группой на Байкал. Да и было почти невинно: они со Светкой ночевали в доме, Глеб забронировал сеновал, а хозяин спал в деревянном сарае на раскладушке. Днем все четверо играли в товарищеские отношения, Глеб подтрунивал над Светкой, а Нина кокетничала с хозяином, но вечерами, когда в полях не продохнуть было от кузнечиков и в радиусе двух километров стояли только заколоченные непроданные дома бывшей деревни, когда одуряюще пахла полынь и крапива, задушившая пустые дворы, они с Глебом «случайно» встречались на задворках или в саду.
Лето ни принесло ничего нового. Она все больше попадала под власть Глеба и играла по правилам навязанной кошмарной игры, где ей ничего не обещали и она ничего не обещала, где свобода была унизительна тем, что сама она лично свободна уже не была. Но вместо того чтобы уехать или решиться поговорить начистоту, она мертвела от страха быть смешной и продолжала свое безумие: днем делать вид, что Глеб ей безразличен. На это уходили все силы, к вечеру она выдыхалась, разваливалась. То, что происходило по ночам,— это была не любовь, не радость, не мучение даже — а порок и беззволие. Они почти не разговаривали, а днем говорили не о том.
Как-то утром она проснулась и поняла, что так больше продолжаться не может. Тихо спала в своем углу Светка, в комнате было темно от ставен, но чувствовалось, что уже утро — проснулись птицы. Ласточки под застрехой сарая слепили свои гнезда, Глеб вчера показывал ей с крыши: в глиняных чашечках копошились голые головки и клювы, наползая друг на дружку, ласточки-родители отчаянно пикировали у самых лиц, задевая крыльями, пронзительно верещали, было солнце и горячая крыша в лишайниках, а Глеб держал за платье, чтоб она не свалилась. Стараясь не разбудить Светку, она нашарила тапочки и вышла на крыльцо. В огороде и на реке стоял туман, и едва разгоралось высокое бесплотное небо, едва розовел его сгустившийся краешек над туманом на другом берегу, над обрезанными верхушками леса. Но и здесь, на взгорке, туман достигал до окон, затопляя лопухи и пыреи у завалинки, и поднимался все выше. Со сна она мгновенно продрогла и отрезвела: ночной кошмар и вялое пробуждение вытеснил настоящий огромный день. Возвращаться в дом не хотелось, и она пошла в огород, промочив ноги о траву, с удивительным ощущением физического счастья и душевной муки, что так нельзя больше жить, как она живет, что это предательство не только по отношению к себе, но и к чудесному дню, к живому миру, растворенному вокруг нее, с которым она не может соединиться и не чувствует, пока втянута в их нелепые с Глебом отношения. Эта странная двойственность: светлая радость утра, живое телесное ликование и необходимость помнить о Глебе, необходимость мучиться весь день от уродливой игры, когда, помимо своих страданий, она мучительно будет ощущать этот день, счастье и радость, отдельные от нее. И когда она натолкнулась в тумане на Глеба, который шел досыпать на свой сеновал, она так не готова была его видеть, что не вооружилась маской независимости и безразличия, что оказалась беспомощна. Глеб тоже не ожидал с ней столкнуться и немножко опоздал принять свой ласковый, снисходительно-насмешливый вид. Впрочем, он потряс головою — обычный его, милый и мучительный жест,— поморгав своими бесстыже-невинными глазами и спросил, вполне овладев положением и собою, насмешливо ее смущая:
— Куда
это ты отправилась, малыш?
Но она уже
уловила переход и вдруг легко и нелепо
рассмеялась:
— Нет, к тебе!
Он как-то медленно взглянул, потупляясь,— не поверил. И тут же прищурился, как всегда:
— Ну — тогда пойдем,— бессовестно намекая на то, чего она вовсе не имела в мыслях.
Зачем он навязывал ей эту игру? Она съежилась, что повторится всегдашнее, увяла от необходимости себя защищать: говорить в этом же насмешливом тоне, щеголять и бравировать двусмысленной свободой, в которую он все равно не поверит. Зачем ему нужно это ничтожное над ней торжество? Но она-то — что доказывала она? Игра бы стоила свеч, если бы она по непреодолимой потребности обнималась с Глебом и унижением расплачивалась за счастье. Но ведь не было! Ей было только восемнадцать лет, и не преодолеть в себе этой детскости, стыда, неловкости, когда она растаптывает свою душу ради сомнительного равноправия. А чтобы сбросить наваждение, чтобы попросту, по-людски: ну объясни, зачем я не коврик, чтобы вытирать об меня ноги, если не любишь, то зачем, корысть какая. Я не христианка и не могу бессловесно и безответно, я не могу, когда мне больно, а тебе — разве нет? Будь она проклята, эта современная любовь! Но стоило увидеть его насмешливое выражение глаз, эту самоувереннось — и переворачивалось, отрывалось. И словно бес под ребра толкал выводить Глеба из себя и доказывать...
В тумане они добрались до сеновала, до лестницы, ее беззвучно лихорадило, а Глеб молчал, наивно потупляя веки. В этой утренней свежести, в пронзительном физическом ощущении мира, при гомоне птиц было кощунственно сводить свои счеты. Туман кончался на последней перекладине лестницы. И неодолимо смутились, когда Глеб втянул ее за руку, и больше не глядели в глаза. Они устроилась на его подстилке, подтянув колени к лицу, слепо глядя на молоко тумана внизу, на надвигающийся алый восток, охватывающий небо, словно они плыли куда-то на своем сеновале. Глеб развалился рядом, на всякий случай обнял ее — не Глебовы деревянные руки, но она не отняла, покорно ничего не чувствуя, кроме холода, и слыша реку и птиц. То постыдное, что у них происходило, было просто невозможно сейчас. Поэтому они молчали, а потом молча курили, и Глеб, кажется, был доволен, потому что вот так легко молчать можно было лишь в самом начале. Но тогда было другое: душа еще спала, слепа и безгласна, то, что стало потом унижением, было еще надеждой, и она не понимала, для чего все случилось, в наказание за какие грехи. Лучше бы Глеб и оставался тем чужим человеком...
— Ты сегодня не такая, как всегда,— неожиданно миролюбиво сказал Глеб,— сегодня ты мне нравишься.
— А так — нет?— не думая, спросила она.
— Нет, и ты знаешь почему,— он говорил на удивление серьезно, она даже начала его слушать,— ты отвратительная, когда выкаблучиваешься, ты жалкая — с души воротит,— говоря, он не глядел на нее, словно боялся спугнуть, сбиться,— хотя, конечно, и я не подарок. Но я тебя постарше, и поверь, с такими все пропадает, не говорю уж — любить.
Он говорил, и его простота постепенно возрастала до менторства — опять он ее учил, поучал.
— Ужасно!— сказала она насмешливо.— Ты меня совратил, и я пойду и утоплюсь — так, что ли? Или уйду плакать на твой сеновал, пока вы резвитесь со Светкой. Я к тебе не привязана, ты чересчур себя ценишь!
— Ты меня что, к Светке ревнуешь?
— Вот уж нет! Иди к кому хочешь, мне-то что. Ты мне никто, чтобы я ревновала.
Он вдруг засмеялся, прямо развеселился от души, так и залился.
— Светка!— он смеялся как шут.— А я женюсь на Светке, назло тебе. А ты на свадьбу придешь. Придешь? — он лежал и смеялся.— Ох, с тобой не соскучишься!— он иссяк.
Обессиленно лежал за ее спиной, она не оборачивалась, но знала, видела, как он лежит: устало откинув голову, белокурый, ненавистный, мучительный.
— Светке это нравится,— сказал он тихо,— а тебе-то зачем? Почему ты не можешь просто?
— А ты?— удивилась она.
— Я — другое дело,— вяло говорил он,— во-первых, я не выкаблучиваюсь, как ты, а во-вторых, я мужчина, а ты девушка.
Она удивленно оглянулась — что он имел в виду? Некстати вспомнила про свой математический ум, склад ума и надумала оскорбиться. Мужчина, видите ли! А она, значит, пешка! Да если он хочет знать... Она опять оглянулась, чтобы поссориться с ним, но он лежал с закрытыми глазами, неподвижно.
— Нинка, скажи мне одну вещь. Скажи, только честно, ладно? Ты меня любишь?
В голосе было то, к чему она не привыкла, ее застали врасплох, и упало сердце. Сейчас все и кончится.
— А ты не знаешь?
— Не-ет!— он внезапно и резко сел, внезапно стал рядом, вот и плечо его касалось...
Внизу был туман, туман. Она закрыла глаза. Потом открыла, и тоже был туман, и алых полнеба. И птицы щебетали невидимые.
— Наверно, люблю,— подумала она вслух с огромным облегчением. Подумала и удивилась: — Люблю...
Она покосилась на него — он молчал. И уже все грозило разрушиться: она испугалась, что его каменное молчание никогда не прервется, сейчас он встанет и шагнет в туман, пойдет как по водам в гордом молчании и она останется одна, оглушенная своей назащищенностью, серьезностью, правдой. Ладони взяли ее лицо, он смотрел.
— Ах,
какая же ты,— то ли шепот, то ли не
шепот.
При свете дня его мучительно
серьезные глаза и губы, от которых
мутился рассудок, не приближаясь. Потом
приближаясь, его широко раскрытые
глаза, приближаясь и не разрушая, ничего
не разбивая в ней, но мучительно принимая
призрак его губ на своих. И застилали
слезы. Они не душили, не были тяжелы,
просто спокойно и беззвучно текли,
затекали, щекоча шею, и лицо его было
как за окном в дожде. А его душила и
захлестывала, может, и не любовь, но
удивленная благодарность, что он любим,—
любим! — и, наверно, это было счастьем.
Глеба как подменили, она заново узнавала его и удивлялась, что это совсем другой человек. Она ожила, задышала, воскресла, совершенно не думая, смешна она или унижена в своей любви. Началось с того, что Светка проснулась и, не обнаружив ее, пошла искать и нашла на сеновале, где они с Глебом хохотали как помешанные — над Светкой. Должно быть, самое бессовестное счастье озаряло их, если и Светка, посмеявшись, вдруг смутилась, что им мешает. Но им уже никто не мог помешать. Внешне ничего не изменилось, Глеб по-прежнему подтрунивал над Светкой, учил ее плавать и спорил на «американку» — и все-таки изменилось все. Глеб стал на удивление милым, жизнерадостным человеком и заражал своей щедрой непринужденностью всех четверых, все вдруг словно проснулись и ожили, открываясь по-новому друг для друга, и были совершенно и полно счастливы. То ли купались, то ли ходили в лес, то ли пели по вечерам, она и Светка на два голоса, а парни удачно им подтягивали, и так хорошо получалось. У них вдруг стала такая веселая компания, свет их любви так переливался через Глеба на всех, что и у тех двоих, у Светки и Глебова приятеля, что-то вроде любви началось. Во всяком случае, они уединялись и шептались и проливали друг на друга взгляды, как они с Глебом.
Но в конце концов даже в этот счастливый месяц их идеальные отношения пришли в тупик. Глеб был счастлив с ней, лишь когда она окончательно отдавалась его настроению. Но они были слишком разные, чтобы она могла вторить всегда. Эти внезапные угрюмые срывы, когда она, прекрасно понимая, не могла себя все же заставить, Глеб называл «выкаблучиванием», начинал ее ненавидеть и злился. Но — во-первых, она была не так уж простодушна, как ему мнилось, во-вторых, покорность, которой от нее требовали, очень часто была ей тяжела. Она себя насиловала, притворялась, что сопереживает, а Глеб тем упорней казался врагом, чем трезвей она понимала, что его желание естественно, что он ее любит и нет никаких причин отказать и запретить ему радоваться вместе с ней. Она уставала от Глеба. Но его постоянная жизнерадостность, не знающий предела восторг разделять с ней любую глупость, наивное насилие даже в ничтожных мелочах: «Ешь сметану, разве не любишь сметану?» Его безоговорочное: «ты в этом не смыслишь», «как я сказал, так и будет», «я хочу», «я решил». У нее все чаще против воли поднималось раздражение, и хотелось перечить. Нет, он был не эгоист, не подлец, не притворщик — он любил ее. Насколько был способен к любви, хотя и преувеличивал свое чувство. Даже при всей своей неопытности она чувствовала, до чего они разные, ведь то, что для нее было трудно и сложно, для другой, пожалуй, было бы просто и легко. Глебу с его характером нужна была другая женщина, не она. Но (может быть, в этом и была самая большая нелепость и правда), может быть, именно поэтому он и любил. Глеб нравился женщинам, он мог быть с ними счастлив, но он уперся как бык на той, что, любя его, никогда не могла его повторить: он мучил, он истязал своей любовью и сам мучился. Иногда ей просто хотелось побыть одной, без людей и без Глеба. Такое безобидное желание у него называлось: «Опять ты принялась за старое и выкаблучиваешься».— «Но разве я тебе не мешаю иногда?» — удивлялась она. «Вот видишь, ты опять выкаблучиваешься!» — торжествующе уличал он. Она стеснялась себя, понимала, что у нее тяжелый характер. Ведь та же Светка Каурцева сочла бы ее сумасшедшей: бросить Глеба, всех и необъяснимо глупо прятаться от них в чужом заброшенном доме. Как было объяснить это самой? Они ее искали, звали, кричали, а она с мучительно бьющимся сердцем молчала в двух шагах от них, ужасаясь, что сейчас заглянут в окно. Они уходили, и в ней тупо все разжималось. Тогда она садилась прямо на пол среди травы, проросшей сквозь щели, и, уронив подбородок в колени, могла бесцельно смотреть, как ветер задувает деревья за выбитым окном и в гнилом сумраке особенно резко солнце, отпечатанное на полу квадратом. Но за минутное расслабление она платилась потом стыдом: как она им скажет, почему пряталась и молчала? Ни Глеб, ни Светка ее бы не поняли, потому что не могли без общества и подыхали одни. Если Глеб и уходил, то совсем не для того, чтобы быть одному, он мог жить только среди людей, и особенно среди тех, которым он нравился. Такими же, как он, были обе их дочери, Марина и Лялька. Собственно, и в ее любви Глеб хотел видеть самого себя, заполнить ее собою, отражаться в ней, как в живом зеркале. А для нее это была непосильная задача. Господи, что он такого сделал? Что она сделала ему? За что они обречены были мучаться и не понимать друг друга? Эта тоска, пожалуй, самое безысходное, что испытала она тогда в реальной жизни. Она была очень близка по силе тоске желания, возможно, это и было желание, но неосуществимость его перерождалось в нечто надматериальное: в тоску по другому человеку, в безнадежность в него проникнуть, в беспомощность с ним разделить даже самое малое и примитивное. В невозможность жить, когда он рядом, потому что рядом он был еще дальше, чем когда уходил. Лучше бы он бросил ее совсем! Когда его не было, еще можно было жить: трещина засыпалась песком и зарастала травою, помнилось только хорошее, а желание и тоска обретали хоть какой-то конкретный смысл. А когда он был рядом — они были отрезаны друг от друга, откромсаны, отделены, она все время лежала с ним на краю пропасти, в которую вот-вот свалится, и могла только лгать, что не боится. И могла только закрывать ему глаза, заслонять, загораживать собою, понимая, что рано или поздно он сам туда заглянет, резко отшатнется и вместе с камнями из-под ног она не удержится, покатится, расшибется насмерть.
Неизвестно, чем бы все это кончилось, возможно, и тем, что, рано или поздно отомстив Глебу, но нарвавшись не на Валерку, а на другого, она бы и в самом деле начала спать с кем попало, не видя в том ни радости, ни стыда, поскольку Глеб ей внушал, что стыд — это ханжество.
ГЛАВА 17
Воробьев, проволынив полдня (только и сделал, что помог Коле-слесарю в его подвале), решил «поразмяться»: любезничает со Светланой Ивановной:
— В прошлом году, когда я был в Чехословакии (он действительно ездил по туристической путевке)... какие там бары, рестораны, какой сервис... в магазинах дубленки совершенно свободно... техника у них, автоматика — куда нашим... женское белье, растворимый кофе свободно.
Светлана Ивановна слушает благосклонно, приняв некое простодушное выражение серьезной школьницы. Улыбается иногда лукаво, с более взрослым оттенком.
— Виталий, ты обещал мне швейную машинку посмотреть,— наивно говорит вдруг она, отвлекаясь несколько от Чехословакии.
Воробьев еще более расцветает.
— Как-нибудь на днях,— смущенно ухмыляется он. В смущении — гордость, небольшой страх и мужские надежды.— А что мне причитается за работу? — шутит, совсем расхрабрившись.
В глазах Каурцевой вспыхивают насмешливые искры, но тут же гаснут — опять наивная школьница, проста, как мадам Реналь из телевизионного фильма.
— Чаем напою,— лукаво смеется она,— а можно и покрепче. Ты как относишься к рижскому бальзаму?
— Положительно,— краснеет довольный Воробьев,— если с чаем, то положительно.
Лерочка смотрит на их игру насмешливо и понимающе: с таким кадром, как Воробьев, даже Каурцевой играть зазорно. Но Лерочке не нужно чинить швейную машинку, у нее есть муж.
Справедливая Белкина вообще не выносит ленивого Воробьева, но вкупе с Каурцевой этот лодырь вызывает в ней бурное омерзение.
— Совсем распустились,— ворчит себе под нос Белкина,— нашли развлечение в рабочее время. А еще самостоятельная женщина, инженер.
Светкино лучезарное личико вдруг пустеет, распадается на тысячи мелких и острых осколков — под ними слепая маска злобы, удушливой ненависти. Нет, эта баба Каурцеву доведет! Светка встает как тигрица.
— Вам какое дело?!— цинично вопрошает она.— Что, одной спать скучно? Так я найду, познакомлю.
Белкина
белеет как стенка. А затем начинается
крик, базарный крик! Господи, что только
женщины могут говорить друг другу в
минуты ярости. Причем цепная реакция:
орут уже все, одна спокойная Лерочка в
стороне, насмешливо наблюдает. Причем
поди разберись, кто из них виноват —
не Белкина, не Каурцева, не Лера (если
бы палас не достался Белкиной). Но все
равно, если бы не достался: Белкина не
терпит никого, ей пора на пенсию, но
пока не выгонишь: Каурцева не терпит
временами — взрывчатый темперамент;
Лера терпит всех, но подначивает как
змея. Но ведь и Зина и Светка подначивают,
а Белкина шипит постоянно. И каждая не
из скверности своей (все они терпимы в
отдельности), а потому что такой это
клубок характеров — женский коллектив.
Нет, кого-то надо убирать, скорее всего,
Каурцеву (Белкину — ту никуда не
сплавишь).
Да, все это началось в восьмом классе. Прибежали из школы Марина и мерзкая Клюева, сплетница, с которой Марина стала дружить. Выражение азарта у них на лицах. Заперлись в маленькой комнате и зашептались. Нина Сергеевна заглянула к ним: самозабвенное змеиное шипение и что-то сомнамбулическое в выражении, в чертах — себя не помнят. Умолкли. Марина уставилась на мать жестокими чужими глазами.
— Мама, уйди, ты нам мешаешь,— сказала с досадой, с раздражением.
Минут через десять засобирались куда-то.
— Куда?
— Надо.
Нина Сергеевна возмутилась:
— Никуда ты не пойдешь.
Вступилась Клюева, засеменила хитренько, гаденько:
— Нам очень нужно, Нина Сергеевна. С Ольгой нужно поговорить.
Оказывается, Оля сказала про Марину какую-то сплетню. Нина Сергеевна возмутилась сильнее:
— Никуда ты не пойдешь, Марина!
Марина не глядя одевалась.
— Ты меня слышишь?
Марина оделась, хлопнула дверью, ушла. Вечером Нина Сергеевна пошла к Оле. Она была одна, мать работала во вторую смену.
— Что у вас произошло, Оля?
— Да ничего не произошло. Просто с Мариной я дружить не буду,— и тоже — замкнутость в лице, ожесточение.
— Оля,
милая, я очень тебя прошу... Что
случилось?
Оля подняла несмелые,
безнадежные какие-то глаза:
— Просто я осталась теперь одна в классе. Из-за Марины. А Клюева поливает меня грязью.— И с ненавистью, с отвращением:— Это она поссорила нас! А потом и Марину поссорит, вот увидите.
— Из-за
чего у вас все началось? Из-за
Андрея?
Оля устало вздохнула, сжала
пальцами виски:
— Не
знаю. Может быть...— Головой покачала
печально.— Но Андрею никто не нужен,
ни я, ни Марина. Он смеялся над нами,—
призналась она вдруг с какой-то недетской
болезненной проницательностью,— это
такой мальчик, что он никогда никого
не полюбит. Марина не
понимает, она
хочет ему доказать. Не знаю, может быть,
докажет, Марина — она ведь красивая.
Да,
наверно, с этого и началось. И Нина
Сергеевна ничем бы не смогла помочь
своей дочери. Она словно бы понимала
Марину и на ее месте тоже бы, наверно,
доказывала. Как «доказывала» в свое
время Глебу. И ведь — «доказала», и даже
счастлива была, доказав! Не с Валеркой,
так с кем-то другим, все равно.
Но с Валеркой все получилось внезапно, она, в сущности, даже не решалась на это, не успев зарядиться уже обычным для нее страхом. Наоборот, была уверена, что ничего такого именно сегодня не произойдет. Они потерялись на улице, а когда нашлись (Валерка вдруг ее окликнул), это показалось такой счастливой случайностью, что сразу же расстаться ей не хотелось, и она согласилась зайти к нему погреться. Отметив про себя, что он с умыслом зовет и конечно же ничего она ему не позволит — не в первую же встречу! Да и не верила она всерьез, что решится когда-нибудь с Валеркой или с кем другим. А еще втайне удовлетворяло, что, повстречай их вместе Глеб, он позеленел бы от злобы, и поэтому тем более она к Валерке зайдет и погреется, и даже выпьет вина, и даже пусть к ней Валерка полезет — она вряд ли решится, но пусть к ней полезет хотя бы кто-то другой, кроме мужа, и именно как к «другой» женщине. Но Валерка в своей комнате вдруг ужасно смутился, стал засовывать ботинки под диван и убирать бумаги со стола. Потом, несколько вздохнув, ушел заваривать чай. Вина у Валерки не оказалось, о чем он сожалел и все время извинялся перед нею, словно она такая тонкая ценительница и он упал в ее глазах. После чая они тоже вели какие-то разговоры, оба были смущены, она, готовая к Валеркиному натиску и собственному отпору, напряженно пересаживалась с места на место, подальше от Валерки, но все-таки и не так далеко, трогала его вещи и книги. Постепенно она начала нервничать, что Валерка все еще не пристает и такой нерешительный, когда ей уже пора домой. И видимо, ничего сегодня не будет. Перетрогав все его книги, она стояла лицом к окну, глядела на раскачивающийся фонарь и мокрый апрельский снег с ветром, то иссякающий, то с новой внезапной силой брошенный в свет фонаря, косые его точки и тире, мчащиеся по направлению ветра, словно кто-то выстукивал азбуку Морзе, отдыхал в паузе и снова выстукивал. Валерка что-то говорил, она не слушала, думая, что вот стемнело и пора домой. И не слышала, как он замолчал. И почувствовала его руки на плечах — достаточно несмелые, чтобы не усмехнуться про себя и не растрогаться его робостью. По заранее избранному сюжету она сняла эти руки и повернулась к нему. Он смотрел вопросительно и как-то снизу вверх, хотя она ему доставала только до ключицы. Она смотрела, грустно жалея, что по сюжету ей не дано его пожелать. Он снова обнял теми же неловкими руками, и она не могла не заметить, что ему приходится сутулиться, обнимая,— она была слишком маленькой для него. Тогда, на улице, она успела только удивиться и не различала оттенков. Но он вдруг — то ли от ее мягкости — вдруг осмелел, и сопротивление могло уже быть настоящим, в этом было что-то детское, как в забытые годы, когда она была еще девочкой и, не решаясь и желая, отталкивала Глеба. Впрочем, о Глебе она не помнила, словно его никогда и не существовало. Она еще думала, что сопротивляется всерьез, но это была игра, все больше ее захватывающая, и вдруг она вспомнила все с такой силой, что ни Глеб, ни «другие» женщины, ни сам Валерка уже не могли иметь никакого значения. Она забыла обо всех, и о Валерке тоже, вспомнив и переживая за себя. Только потом она с удивлением обнаружила, что Валерка все еще рядом и был как-то причастен к этому. Словно она улетела далеко-далеко, а когда вернулась на землю — все уже другое, и другой человек рядом, незнакомый, но любимый. Им предстояло знакомиться, а Валерка лепетал какую-то радостную муть, которая с трудом до нее доходила — в смысле, что она не уйдет от него, что если еще когда-нибудь придет, словно не надеялся, что придет, и боялся, что уже не придет. Она вспомнила, что и правда пора домой, уже поздно, и как бы на автобус не опоздать. Про дом она еще вспомнила, а вот про Глеба нет.
Да, она была счастлива, впитывая и забирая все, что недодали ей в прошлом. Теперь она чувствовала свою женскую силу и свою женскую власть и удивлялась, что не знала этого раньше. Валерка охотно подчинялся ее настроениям и капризам, даже сам старался предупредить их, словно признавал за ней неотъемлемое право на капризы и слабости. Да и вообще это был другой характер и совершенно другой человек. Первый их вечер он воспринял как нечто неожиданно счастливое, благодарный за все именно ей. Вообще, он был как-то душевно хрупок, мнителен и неуверен в себе — может быть, это ей в нем и нравилось вначале. То, что его можно обидеть так мгновенно и полно, трогало ее гораздо больше, чем если бы он постоянно приставал к ней с неистовой страстью. И уж Валерке была совершенно не свойственна дурацкая гордость Глеба, которую тот бывал счастлив подчеркнуть. В Глебовой неутомимости ей мерещилось что-то механическое, ненастоящее, идущее от глупого мужского представления, что именно от этого партнерша будет счастлива, и ей казалось, в такие минуты Глеб гораздо больше думает о себе...
Свою новую власть над Глебом она поняла сразу, буквально с первого вечера, когда он не спросил о Валерке, хотя думал об этом, она чувствовала. Да и получилось так смешно: она мыла пол, Марина играла на улице, и вдруг раздался звонок. Это был Глеб с Мариной на руках, с какой-то пижонской бородой, только что из экспедиции. Марина его немножко побаивалась и не узнавала, и на другой день Глеб бороду сбрил. А тогда Нина Сергеевна просто задохнулась, увидев Глеба, тем более что с Валеркой было уже все кончено. Оказалось, что Глеб только забежал на минутку, соскучился по дочери. Нет, он вчера приехал, еще не знает, где устроится, остановился пока у матери. Как мать?— спросила она. Да хорошо, пусть Маришка приходит в гости, дед с бабкой скучают. С разводом они все потом обговорят, с его стороны никаких препятствий, с ее тоже, галантно говорила она, хотя ей было больно, что они начнут расходиться теперь, когда ей нисколько этого не хочется. Ты сбрей эту бороду, тебя Марина боится. Он остался попить чаю, потом оказалось, у него есть бутылка вина, пошел вот к приятелю, понимаешь... Они ее распили, как старые знакомые, которых ничто больше не связывает, и они, такие галантные, современные, бывшие муж и жена, а Маришку ты приводи иногда, и я буду заходить, можно? Ну конечно, она не собирается восстанавливать дочь против него. Марина давно уже спала, Глеб поглядел на часы и сказал: «Ну, я пошел». И остался почему-то сидеть. Они еще немножко поговорили, как старые знакомые. Но говорить было не о чем; Глеб, устав помешивать чай ложечкой, вздохнул: «Ну, я пошел, уже поздно...» — и опять не пошел. Потом наконец поднялся, чересчур долго копаясь в прихожей, все не мог завязать шнурки на ботинках, она стояла, собираясь за ним закрыть дверь и страстно этого не желая. Он разогнулся, и повторив: «Ну, я пошел», вдруг обнял ее.
Утром он сбрил бороду и никуда не ушел. О разводе они больше не говорили.
Валеркина наглость сюда явиться испугала ее ужасно: ей казалось, Глеб теперь немедленно ее бросит, раз любовники являются прямо на дом. И потом, с ее точки зрения Валерка не мог уязвить Глеба: ей самой Валерка был слишком противен, кроме того, он был смешон, она стыдилась и каялась в своем прошлом. Но Глеб-то этого ничего не знал. Он видел лишь, что рослый молодой человек, любовник его жены, явился к ним на квартиру и спрашивает ее. И Глеб не знал, кому из них она больше рада. Валеркин рост и молодость произвели на него впечатление. Он думал, что это не Валерка смешон и не жена потерялась от позора, а сам он, Глеб, смешон при подобных обстоятельствах. И ему казалось, что он любит жену, которая, не дай бог, снова потребует развода. Если бы Нина Сергеевна все это понимала тогда и могла прочесть мысли Глеба, она бы ни за что не смотрела на Валерку с таким ужасом, а пожалуй, и в квартиру бы пригласила, и чаем напоила, глядя, как муж и любовник мучаются из-за нее. Возможно, этот драматизм несостоявшегося чаепития довел бы их даже до дуэли, ну, а она вдвойне была бы польщена и, наверно, досталась бы победителю: при новых обстоятельствах оба уравнялись бы в ее глазах, и только дуэль могла бы разрешить ее собственный выбор. Но она этого не подозревала, и Валерка на лестничной площадке казался ей исчадием, несмываемым ее позором. Она смотрела на него и не в силах была вымолвить ни слова. Валерка тоже смотрел и молчал. Потом развернулся и стал спускаться по лестнице, так и не разлепив рта.
ГЛАВА 18
— ...Помнишь, он говорил: «Мы с тобой, Федя, еще поцарствуем»,— громко возмущается кем-то Белкина,— точно, поцарствовали: и дубленки из завкома, и шубы, а сколько машин перепродали?
— Ой, Галя, ну что ты?— верная себе, наивно удивляется Лерочка.— Юдин тут ни при чем, просто они не поладили с директором.
— А директор что — лучше? Жена у него сроду не работала, а тоже числилась инженером. Приехал ревизор, так срочно задним числом уволили, а через месяц опять восстановили. Да что, домработница ихняя, и то числилась во вредном цехе, в сорок пять лет на пенсию пошла.
Нина Сергеевна усмехнулась: жизнь действительно продолжается, по крайней мере в лаборатории, и женщины в ней по-своему активны. Конечно, можно обвинять их в том, что у них — пустые головы. Но будь то конвейер швейной фабрики или свекольное поле — женщины всегда будут говорить в рабочее время не только о нитках или о свекле.
— Девочки, а правда,— делает большие глаза Зина Приходченко,— я слышала, сам директор двести тысяч куда-то размотал, говорят, картины покупал у художников. Как это называется, когда миллионер покупает? Не коллекционер, а этот.
— Мецена-а-ат...— насмешливо тянет Светлана Ивановна.
— Вот-вот, ему фонды на реконструкцию были отпущены, на новое оборудование, а он — картины... Его жена все ценительницу из себя строила... Вроде Аверьев потом расхлёбывался, замдиректора.
— Ой, да все они одной веревочкой повязаны. Думаете, Аверьев не знал? Видели вы его моську из планового отдела, в каких она шубах ходит?
Нина Сергеевна подбивала техническую документацию и вообще все бумажные дела и с тревогой косилась на телефон, который теперь был страшен тем, что мог в любую минуту зазвонить (связь после обеда исправили). В общем-то они не так уж бездельничали сегодня: документы почти все готовы, а если не позвонят из управления, то, может быть, она и успеет. И телефон, конечно, зазвонил:
— Нина Сергеевна? День добрый,— это был тот самый Аверьев, счастливый обладатель моськи-любовницы,— почему вы не приехали в управление?
Аверьев имел степень доктора технических наук, единственный доктор на комбинате. Поэтому и замещал директора по научной части. Сотрудницы Нины Сергеевны как-то высчитали, сколько денег получает Аверьев, и сбивались со счета: выходило — чуть ли не больше самого директора. Звонок ничего хорошего не предвещал: Аверьев самое высокое начальство над ними, кроме, конечно, директора. Вся их «творческая» братия: ЦЛК, они, креотовцы, Вычислительный центр, отдел усовершенствования автоматики, патентный отдел, а также управленческая мелочь вроде проектировщиков и БРИЗов подчинялись Аверьеву. С ее стороны было бы дьявольским высокомерием считать, что Аверьев вообще о ней что-то думает... Аверьев всего лишь спрашивал: «Вы не забыли, что завтра планерка?» Нет, она не забыла. Он был занят чем-то своим и, может быть, тоже развивал видимость, обзванивая их самолично. «Соцобязательства»,— напомнил он.
После звонка отлегло, до конца рабочего дня оставалось не так уж и много. Поэтому, когда снова затрещал телефон, Нина Сергеевна уставилась на него с большим неудовольствием: неужели из планового звонят, черт бы побрал этих деятелей? После разговора с Аверьевым звонок из планового был совсем уж нелеп, непонятное рвение и желание выслужиться. К чему затевать эту волынку в конце рабочего дня? Она нехотя сняла трубку:
— Да, лаборатория слушает.
— Как официально,— неожиданно рассмеялись в трубке,— привет, Ниночка, это Яна.
Это было так неожиданно, что и Нина Сергеевна рассмеялась. Рохлякова, оказывается, звонит им полдня, что там у них стряслось?
— Да авария на связи. Откуда ты звонишь?
— С работы, откуда же,— Яна вздохнула и скорбным участливым голосом спросила: —Ну как с Маринкой, выяснилось что-нибудь?
Всю радость как рукой сняло. Нина Сергеевна помрачнела и прикрыла ладонью трубку: бодрый голос приятельницы вызывал в ней почти физическую боль. Жизнерадостная Яна недослышала ее на своем конце провода, и в помещении, даже сквозь прикрытую ладонь, гулко раздавались слова: «угрозыск», «следствие», «прокурор», «опознание трупа», «убийство». Сотрудницы деликатно делали вид, что это их не касается — Лерочка увела своих красавиц в закуток за стеллажами и преувеличенно-громко что-то им рассказывала.
— Ужасная слышимость!— кричала Яна.— Вечером поговорим, хорошо? Что? Совершенно тебя не слышу!
— Вечером меня не будет!— в отчаянии закричала Нина Сергеевна.— Вечером я буду... мне надо...— она не могла придумать, где ей надо «быть», чтобы избежать Яны,— в общем, не будет меня! — заключила она туманно. Передохнула. Стала слушать, что Яна ей говорит.
Яна милая женщина, но о дочери спросила зря, хотя от чистого сердца. И опять вспоминались обывательские разговоры, сочувствие кумушек: вытаял лед на речке, обнаружили чей-то труп. Некто из прокуратуры, кто сказал Глебу неофициально, в дружеской беседе: самый легкий способ преступления — убить в чужом городе. Если и обнаружат труп, то никто не хватится, будет лежать в морге, не опознают. Особенно если изуродован и документов нет. Марину легко было обмануть, она доверчива. Документы все остались дома, паспорт на месте лежит. На что она надеялась, если уезжала по доброй воле? Да и лгать она умела только родителям — сама могла поверить чему угодно...
И почему именно в этот период так неестественна, так невозможна откровенность между матерью и дочерью? Нина Сергеевна в восемнадцать лет и сама была скрытной, мать о многом не догадывалась. Мать не догадывалась, даже когда дочь была на четвертом месяце беременности, правда, Нина Сергеевна с матерью не жила.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





