ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
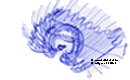
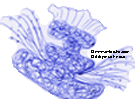

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Захарова Вера
ГЛАВА 18
— ...Помнишь, он говорил: «Мы с тобой, Федя, еще поцарствуем»,— громко возмущается кем-то Белкина,— точно, поцарствовали: и дубленки из завкома, и шубы, а сколько машин перепродали?
— Ой, Галя, ну что ты?— верная себе, наивно удивляется Лерочка.— Юдин тут ни при чем, просто они не поладили с директором.
— А директор что — лучше? Жена у него сроду не работала, а тоже числилась инженером. Приехал ревизор, так срочно задним числом уволили, а через месяц опять восстановили. Да что, домработница ихняя, и то числилась во вредном цехе, в сорок пять лет на пенсию пошла.
Нина Сергеевна усмехнулась: жизнь действительно продолжается, по крайней мере в лаборатории, и женщины в ней по-своему активны. Конечно, можно обвинять их в том, что у них — пустые головы. Но будь то конвейер швейной фабрики или свекольное поле — женщины всегда будут говорить в рабочее время не только о нитках или о свекле.
— Девочки, а правда,— делает большие глаза Зина Приходченко,— я слышала, сам директор двести тысяч куда-то размотал, говорят, картины покупал у художников. Как это называется, когда миллионер покупает? Не коллекционер, а этот.
— Мецена-а-ат...— насмешливо тянет Светлана Ивановна.
— Вот-вот, ему фонды на реконструкцию были отпущены, на новое оборудование, а он — картины... Его жена все ценительницу из себя строила... Вроде Аверьев потом расхлёбывался, замдиректора.
— Ой, да все они одной веревочкой повязаны. Думаете, Аверьев не знал? Видели вы его моську из планового отдела, в каких она шубах ходит?
Нина Сергеевна подбивала техническую документацию и вообще все бумажные дела и с тревогой косилась на телефон, который теперь был страшен тем, что мог в любую минуту зазвонить (связь после обеда исправили). В общем-то они не так уж бездельничали сегодня: документы почти все готовы, а если не позвонят из управления, то, может быть, она и успеет. И телефон, конечно, зазвонил:
— Нина Сергеевна? День добрый,— это был тот самый Аверьев, счастливый обладатель моськи-любовницы,— почему вы не приехали в управление?
Аверьев имел степень доктора технических наук, единственный доктор на комбинате. Поэтому и замещал директора по научной части. Сотрудницы Нины Сергеевны как-то высчитали, сколько денег получает Аверьев, и сбивались со счета: выходило — чуть ли не больше самого директора. Звонок ничего хорошего не предвещал: Аверьев самое высокое начальство над ними, кроме, конечно, директора. Вся их «творческая» братия: ЦЛК, они, креотовцы, Вычислительный центр, отдел усовершенствования автоматики, патентный отдел, а также управленческая мелочь вроде проектировщиков и БРИЗов подчинялись Аверьеву. С ее стороны было бы дьявольским высокомерием считать, что Аверьев вообще о ней что-то думает... Аверьев всего лишь спрашивал: «Вы не забыли, что завтра планерка?» Нет, она не забыла. Он был занят чем-то своим и, может быть, тоже развивал видимость, обзванивая их самолично. «Соцобязательства»,— напомнил он.
После звонка отлегло, до конца рабочего дня оставалось не так уж и много. Поэтому, когда снова затрещал телефон, Нина Сергеевна уставилась на него с большим неудовольствием: неужели из планового звонят, черт бы побрал этих деятелей? После разговора с Аверьевым звонок из планового был совсем уж нелеп, непонятное рвение и желание выслужиться. К чему затевать эту волынку в конце рабочего дня? Она нехотя сняла трубку:
— Да, лаборатория слушает.
— Как официально,— неожиданно рассмеялись в трубке,— привет, Ниночка, это Яна.
Это было так неожиданно, что и Нина Сергеевна рассмеялась. Рохлякова, оказывается, звонит им полдня, что там у них стряслось?
— Да авария на связи. Откуда ты звонишь?
— С работы, откуда же,— Яна вздохнула и скорбным участливым голосом спросила: —Ну как с Маринкой, выяснилось что-нибудь?
Всю радость как рукой сняло. Нина Сергеевна помрачнела и прикрыла ладонью трубку: бодрый голос приятельницы вызывал в ней почти физическую боль. Жизнерадостная Яна недослышала ее на своем конце провода, и в помещении, даже сквозь прикрытую ладонь, гулко раздавались слова: «угрозыск», «следствие», «прокурор», «опознание трупа», «убийство». Сотрудницы деликатно делали вид, что это их не касается — Лерочка увела своих красавиц в закуток за стеллажами и преувеличенно-громко что-то им рассказывала.
— Ужасная слышимость!— кричала Яна.— Вечером поговорим, хорошо? Что? Совершенно тебя не слышу!
— Вечером меня не будет!— в отчаянии закричала Нина Сергеевна.— Вечером я буду... мне надо...— она не могла придумать, где ей надо «быть», чтобы избежать Яны,— в общем, не будет меня! — заключила она туманно. Передохнула. Стала слушать, что Яна ей говорит.
Яна милая женщина, но о дочери спросила зря, хотя от чистого сердца. И опять вспоминались обывательские разговоры, сочувствие кумушек: вытаял лед на речке, обнаружили чей-то труп. Некто из прокуратуры, кто сказал Глебу неофициально, в дружеской беседе: самый легкий способ преступления — убить в чужом городе. Если и обнаружат труп, то никто не хватится, будет лежать в морге, не опознают. Особенно если изуродован и документов нет. Марину легко было обмануть, она доверчива. Документы все остались дома, паспорт на месте лежит. На что она надеялась, если уезжала по доброй воле? Да и лгать она умела только родителям — сама могла поверить чему угодно...
И почему именно в этот период так неестественна, так невозможна откровенность между матерью и дочерью? Нина Сергеевна в восемнадцать лет и сама была скрытной, мать о многом не догадывалась. Мать не догадывалась, даже когда дочь была на четвертом месяце беременности, правда, Нина Сергеевна с матерью не жила.
ГЛАВА 19
Догадывалась ли Нина Сергеевна? Невинное личико дочери, невинные глаза. Правда, что-то женское проступало в ухватках, в уловках — чуть вульгарное, что ли? Но вела себя как ребенок, таскала конфеты из сахарницы без спросу, забывала мыть руки, ела сухой немытый компот. Но стала следить за собой: тщательней красилась и завивалась, гладила платье. Но себе чулок не выстирает, бретельку к бюстгалтеру не пришьет. Так что хоть и появились новые замашки и походка какой-то женской стала, а матери и в ум не шло. Как она все-таки догадалась? Какие-то слова, обмолвки дочери, желание выведать, не выдавая себя, и некая тайна, покрытая мраком,— личная жизнь дочери. Перепады в настроении: то — нежная, тихая, отрешенная: то — как в воду опущенная: то — раздражительность, хамство какое-то невероятное. Глаза сомнамбулы, отворенные широко и невидяще, и целый день так ходит и спит с широко раскрытыми глазами. Точит ногти пилочкой и поворачивает руку к свету: жест как у взрослой женщины и женское, цепкое во взгляде (для кого она их точит, коготки свои?)... Но для матери все это скользило, как рябь по поверхности тихого озера. Стала поздно приходить домой и много причин выдумывать, но и выдумывала как будто через силу. Да и при Марининой небрежности нетрудно было догадаться, это только дочь считала, что никто ничего не видит, а себе лгала, что все еще обойдется, как-нибудь да обойдется. Какая женщина этого не знает! Однако Нина Сергеевна не верила еще, хотела бы не поверить: ведь ребенок, твое собственное дитя, которому и восемнадцати нет. Неужели есть подлецы на свете, что могли бы этим воспользоваться? А с другой стороны, пыталась вооружиться свободомыслием: мол, что тут такого особенного, если дочь влюблена и даже беременна? Жизнь есть жизнь, рано или поздно, а ведь Марина такая хорошенькая... Сама же, в шутку, и заговорила. А дочь возьми и признайся. Тут бы ей зарыдать, заплакать, задушить негодяя собственными руками: да кто это посмел над твоим ребенком, совести-то у кого хватило?! И трезво, четко вдруг поняла: надо все это пресечь, в корне. Никакой «любви» чтобы! Обида вдруг взяла: что же это, Марине ее судьбу повторять? Марине учиться надо, в институт поступать, у нее жизнь впереди. Это как нарыв наболевший прорвался, вспомнились матери собственные счеты с жизнью: господи, как она первый раз обожглась, все было бы по-другому, могла бы в аспирантуру, говорили же, что у нее способности. И Глеб, конечно, не одобрит, нет. И на нее вдруг снизошло шутовство и легкость, сумела дочь не испугать, внушить, сумела даже быть откровенной. А дочь, от страха, доверилась ей, да и к кому пойдешь? Для Нины Сергеевны был кошмар, нереальность, но, как всегда в таких случаях, именно от ощущения, что творится какая-то чушь и разум словно цепенел,— она всегда развивала бурную и несвойственную ей в другие моменты деятельность, такая энергичная и решительная женщина вдруг в ней просыпалась, что этой бы энергии да на всю жизнь. Эта решительность и вывозила ее, когда не надо, и, может быть, позволяла все остальное время обходиться без всякой решительности. Но ей не верилось, что это с ее дочерью, хотя деятельно договаривалась с врачами — пошла к чужим врачам и на унижение плюнула. Какой бледненькой Марина выписалась из больницы! Впервые была похожа на женщину, а не на ребенка, и не то что серьезность в ней появилась, а какой-то «опыт» — сомнительное негативное знание и сознание собственной искушенности. Ну, конечно, хвастовство всех женщин, пережила свой первый женский подвиг: только и разговоров было, как она все это пережила, благо, мать слушала.
— Ну, это что,— осторожно говорила мать,— мы-то обходились без всякого наркоза.
— Зато потом больно,— горделиво и выстраданно заявляла дочь.
Однако Марина кинулась так предаваться радостям жизни, наверстывая эти два месяца, что Нина Сергеевна прокляла и наркоз, который гуманно применили к Марине: нет, надо уж было заплатить сполна за все, без наркоза, а то дочь и не поняла, что к чему и чего в последующем надо бояться. Первый аборт — не страшно, но ведь дальнейшее. Женщина иногда за это платит слишком жестоко, вот та же Каурцева заплатила. Но Марина, пожалуй, не только не поняла, что заплатила, но и не поняла — за что заплатила. Совершенно не поняла: что ее использовали и бросили, вот и все.
Во всей этой трагедии Нина Сергеевна ничего толком не знала, кроме того, что виновником был некто Влад, намного старше Марины, не то художник, не то просто тунеядец, и, по Марининым словам, он любил ее, а она его нет. В детской этой чуши было много, конечно, фрондерства и запальчивости, когда юная, к тому же миленькая девочка, не столько рвущаяся любить, сколько быть любимой, то есть узнать, чего же она стоит, вдруг сразу же потерпела поражение. Из таинственных и наивных намеков Нина Сергеевна только и поняла, что дочь обвели вокруг пальца самым глупейшим образом, как это делают пошляки: слова о любви и женитьбе, хотя выяснилось, что Влад женат, у него есть ребенок. Он не любит жену, потому что она некрасивая, но продолжает жить с нею. Марина преподносила весь этот лепет, заслоняя, как щитом, свое израненное женское самолюбие. Как-то все невнятно было в Марининых словах: и умолял, и чурался, и некрасивую жену жалел, и ее любил как безумец, и хотел в петлю лезть, и ушел к некрасивой жене, бросив красивую Марину. Может, и правда существовал такой где-то Влад и туда и сюда его мотало, и в итоге никуда? Такой честный человек Влад, с честным выражением лица страдал, плакал и каялся, попавшись в сети жены и семнадцатилетней Марины.
— Он ее не любит,— самолюбиво роняла дочь,— он любит меня, он умолял меня, но я сама, мама...
Бедная девочка изо всех сил старалась остаться гордой, хотя, конечно, счастье, что Влад не собирался жениться, веселая была бы у дочери жизнь. Но удар был так велик, что даже Маринина скрытность и ложь не выдержали и хрупнули, как улиточная раковина, а дочь жалко корчилась среди этих обломков, пытаясь выведать у матери, как ей поступить:
— Он так мучается, может, я не права, мама? Он бы ушел от нее, но я...
— Ах, боже мой, Марина!— с досады не выдержала она.— Какая там любовь? Не знаю, что он тебе наплел, но если мужчина живет с женой — значит, он к ней привык. Иначе сто лет бы как разошлись, и не из-за тебя вовсе.
Дочь моргала, самолюбиво усмехалась, не верила. Да и не следовало ей этого говорить. Как всякая женщина, она прекрасно чувствовала и сама, и никакие любовные слова и обманы...— только себя и могла она обмануть. Опыт Нины Сергеевны был беспомощен дочери помочь, а все разумные слова пусты и лживы. Маринино недоуменное отчаяние могла исцелить только любовь, которой не было, а девочка была уже отравлена, надломлена, пуская самолюбивые пузыри, что, мол, это она, она его не любит!
Жутко было видеть, как дочь изображает страстную особу, эти повадки, уловки, извращенная эмансипированность, подкладкой которой было лишь стеснение, растерянность, неуверенность в себе. Все это было жалко, ущемлено, ненормально, как внезапная вдруг манера вызывающе одеваться, как испуганный, ищущий мужского одобрения взгляд. И это ее девочка, такая нормальная, легкомысленная, кокетливая прежде! И вдруг получилось, что после Влада были другие, а Марина по-прежнему была растеряна, испугана, подавлена. Так ничего и не поняв, позволяя себя использовать в надежде что-то поправить, чуть ли не сознательно выбирая добычу полегче и ее жертвой становясь. К сожалению, женскую несостоятельность мужчины тоже чувствуют сразу и не дают себя провести, как надеялась на это Марина. Как удержать было ребенка на этом скользком пути? Она говорила бессмысленные слова о женской гордости, о чувстве собственного достоинства, а дочь отмахивалась, презирала, не слушала, желая узнать про себя правду сейчас же и немедленно. А Нина Сергеевна не понимала дочь, потому что у нее самой было не так, потому что то же самое она называла тогда другими словами, по-другому относясь, по-другому обезумев в своем отчаянии. Лишь на неделю Нина Сергеевна уезжала с Лялькой на Байкал, бездумно оставив Марину, надеясь, что дочь одна лучше отойдет от боли, чем на материнских глазах. Но дома Глеб случайно застал Марину. Он раньше вернулся из командировки, приехал ночью, а в квартире притон, пустые бутылки, и три парочки под одной крышей, причем Марина со своим героем лежала на родительском ложе. Друг Марины был немытый, нечесаный юнец, и удалился он из квартиры под вопли Глеба с бессовестной ухмылкой, сказав нечто оскорбительное по поводу их дочери. Марина сказала отцу, что ничего не было и утром повторила: не было. И Глеб, несмотря на свою проницательность, которой он кичился, ей поверил. «Понимаешь, насколько я знаю баб,— ошарашенно говорил он жене,— по ней не видно. Иногда мне кажется, что она еще... Если бы не больница, я бы не поверил. Ну пусть тот был мужик, а этот пацан, щенок, не могла же она так просто... Ты все-таки поговори с ней...»
Легко сказать: «Поговори». Но как? Зная Маринино упрямство, зная, что она может лгать в глаза не краснея, защищая от родительских прав то, что считает нужным скрывать, не так просто было задать дочери этот вопрос. Да и следовало ли? Достаточно Нина Сергеевна обжигалась, нарываясь на те или иные открытия о дочери, Марине восемнадцать лет, она уже пережила и первую близость, и унижение в больнице, и если у нее было с этим мальчишкой и две парочки ее не смутили, то, значит, дочь вправе была решать. Один мужчина или десять — этот ли вопрос должен занимать мать в отношении дочери? За свои поступки и жизнь дочь заплатит сама, мать заслонить ее собой все равно не сможет. Но сколько Нина Сергеевна ни уверяла себя, что не суть важно — было или не было в присутствии парочек в этой же квартире — как раз мучило и сводило с ума: было ли? Она не понимала дочь, вообще не понимала. Для нее это было дико, она не представляла, как те две парочки могли улечься в одной комнате...— и так, и этак получался какой-то разврат. Но как решилась на это дочь, почему? Что за отношения у нее с этими сопливыми «прожигателями жизни» — новая «любовь», что ли? Но какой женщине, счастливой в любви, взбредет демонстрировать отсутствие стыда и условностей?
Марина была, казалось, беспечна и весела, и нельзя в ней было увидеть угрызений или душевной потрясенности. Не ходила она как в воду опущенная, как это было с Владом, и не искала повод что-то выведать у матери применительно к себе. Даже не заговаривала о том, кто ее любит или кого она ненавидит. Если бы было то, что мерещилось Нине Сергеевне, то неужели в поведении дочери не изменилось бы ничего? И тогда она вспоминала себя: а по ней? Так ли она катастрофически изменилась после того, что произошло в Глебовой комнате? Мать, во всяком случае, когда она приезжала к ней, ничего не замечала. Да и девчонки... Или ей казалось, что не замечают, а на самом деле замечали? Разве не поражало ее, что после того что с нею стряслось, все вокруг осталось то же самое: и преподаватели в институте, и подруги, и отношения? Небо не обрушилось, гром не грянул, на деревьях не почернели листья, а на нее никто пальцем не показывал. Стало быть, и ее дочь с Владом... Ну естественно, как же иначе! Марина живая девушка, не весталка и не собиралась ей быть. Но как объяснить, что после Влада появились другие, как объяснить, что и Влад...
Особенно она корила себя за этот вопрос о любви. Чего она ожидала? Что дочь ей бухнется в ноги, каясь и размазывая слезы по лицу? Что скажет с небесным огнем в лице: «Люблю!..» Если б и любила, не сказала бы. Разве что — если бы убеждена была, что любима. Но не любят, не любят, уже точно.
Это было ранним вечером, Лялька бегала где-то с подругами, а Глеб не пришел с работы. Марина и она сидели на кухне и пили чай. Марина впервые была так легко жизнерадостна, потому что получила пятерку на подготовительных курсах, а на работе ее похвалили — за стенгазету вроде бы. Все это по-ученически снимало с сердца тяжесть, и ей казалось, что сегодня она вправе быть в своей семье, смотреть матери в глаза и дружески болтать за чаем. Нина Сергеевна добродушно поддакивала, уж очень надеясь на решающий разговор.
— Представляешь,— по-детски разыгрывая усталость, болтала Марина,— он говорит: берите пример с Мартыновой, а то всем на общественные нагрузки плевать. В общем, Мартынова у него — примерный человек.
— Еще бы,— добродушно улыбнулась Нина Сергеевна, прикидывая, как бы тактичнее задать дочери этот вопрос,— знал бы кто, как «примерный человек» тут у нас отличился. Отец просто чуть с ума не сошел, когда приехал. Что у вас все-таки произошло?
— Да уж дала я жизни,— тихо сказала Марина, опуская глаза в стакан и заливаясь румянцем.
Но повинная головушка, кудряшки, свисающие в чай, были как бы простительной этакой шалостью, детской виной, вроде двойки в дневнике, в которой — «вот видишь же!»— она признается, чтоб уж подчистую быть прощенной и мать не косилась бы на нее, что шесть человек, а может, больше, распивали в квартире водку, а потом ложились в постель, и...
Не знала она, как начать этот разговор, и все-таки начала: «Ну все я, Марина, понимаю, в конце концов, не так уж сложно понять...» (Хотя тогда-то как раз ничего не понимала, вполовину даже, и то, что казалось ей чудовищным грехом, было в действительности детской шалостью по сравнению с остальными.) Но говорила: понимаю, не так уж сложно понять. Что дочь осталась одна, и школярское представление о свободе, когда «предков нету». Та же школярская радость ее знакомых: есть свободный дом, где можно «побыть», и знакомства растут как снежный ком, потому что «побыть» хочется всем, а условий для безнадзорности нету. Ну, а пить мартини при свечах — еще бы! Главное, без предков. Что за подбор знакомств, эти ужасные — полукретины? полуидиоты? полупроститутки и полушпана, у которых за душой ничего, кроме этих бренди и тряпок и музыкальной стружки,— что можно, наконец, понять, что твой ребенок не застрахован и от подобных знакомств, что...
Она много говорила, красиво и вдохновенно. Нужно ли было говорить? Может — ремень в руки и отходить по этой невинной заднице? Дочь слушала, недоумевая, но с явным облегчением. Будто ей грехи отпускались в исповедальне и священник оказался так точен и прозорлив, поняв мотивировки. Главное, кажется, она усекла, что «ничего страшного» — из всей проповеди. И мать это пугало. Уж как-то слишком беспечно стряхивала дочь грехи, словно пес после дождя. «Но одного я не понимаю, Марина,— продолжала, все более хмурясь, мать,— вот этой вашей ночевки. Неужели все так просто: все вместе, чуть ли не в одну постель? Объясни, пожалуйста».
Дочь тяжко вздохнула:
— Ну... места не было. Не выгонять же их.
— Но почему вы, в конце концов, не могли лечь с Миленой? Ведь это же глупость, то, что ты мне говоришь. Ведь так?
Дочь пожала плечами и молчала, Нина Сергеевна понимала, что она и не ответит, потому что никто не смог бы ответить вразумительно на этот вопрос. Нет уж, невинностью помыслов она дочь не оправдывала. Уж нет, не невинная овца ее дочь, ложилась в постель, когда рядом, в этой же комнате... И никогда она не узнает правду об этом, никогда.
Дочь скорбно хмыкнула и криво усмехнулась.
— Ничего ведь и не было,— хрипло сказала она.
— Может... Ты его любишь?— с надеждой и замешательством спросила мать.
— Я? Его?— Марина усмехнулась еще кривее.— Какие глупости у тебя в голове.
— Но...— Нина Сергеевна совсем потерялась,— тогда я не понимаю.
— И не поймешь,— сухо сказала дочь,— оставим этот разговор.
Итак, она осталась ни с чем, виня себя за неумную задушевность. Как будто она надеялась, что дочь признается ей в том, в чем сама себя не вполне понимала. Ну и стыд, его ведь не скинешь со счетов. Может, правда они Изольда и Тристан. Может, пьяна была, напоили. Все-таки видно это по девицам, по той же Милене, природу не обойдешь. Может, все было куда невинней и глупей, чем она думает. Но ужасные парни эти. Эта прожженная шлюшка Милена.
И вот ее дочь... «Боже мой, да очнись же ты! — хотелось ей крикнуть дочери.— Взгляни на себя! Посмотри в зеркало — ведь ты красавица! Да из-за тебя умирать должны, в ногах валяться, на дуэлях стреляться. Что ты делаешь-то с собой?» Но что она могла сказать Марине? Она говорила пустые слова о чести, о женской гордости. Слова, которым не верила сама. Потому что если по правде, из собственного опыта, то надо было сказать: не торопись быть любимой. Ты будешь любимой, обязательно будешь, но пойми, что от нас это не зависит. Перестань хотеть, чтобы тебя любили,— и тебя полюбят. Перестань думать, что ты красавица, но любят некрасивых жен, а не тебя. Перестань думать, что ты молода, а жизнь проходит, просто живи, и все. Имей силы забыть, что тебя оскорбили,— не простить, не с той спесью женского эгоизма, когда мы играем в прощение,— а просто забудь. Живи, и все. Жизнь не на Владе сошлась, не на твоем нерожденном ребенке и не на тех щенках, что лезут к тебе в постель,— имей силы быть нелюбимой. Ты думаешь, твой отец любил меня всегда? Да куда больше он не любил, чем любил, ведь сколько раз я мучилась точно так же, как ты, сколько раз было — хоть в петлю! Думаешь, его не любили другие женщины? И ты думаешь, я умела его удержать? Знала такое средство, заговор? Но я не знала. Я была так же беспомощна, как ты, когда твой отец меня бросал. Я могла бы ползти за ним на брюхе, я могла бы в отместку переспать с кем угодно (и сколько раз было в мыслях!), я могла бы отравиться, убить себя, запить горькую — и ничего бы мне не помогло, поверь. Потому что его любовь не зависела от моих желаний.
Да, поменялись роли. Вот она, оказывается, та главная соперница, которой Нина Сергеевна боялась всю жизнь, соблазнительница чужих мужей, бесстыжая тварь Светка Каурцева — ее собственная дочь. Влад, который вернулся к жене, Глеб, который возвращался от Светки. Не будь это ее дочь, Марина, Нина Сергеевна куда больше сочувствовала бы жене. И вот, вот он, оказывается, этот взгляд дочери, вот он откуда, тот давний, завистливый, ненавистный, тот, встречаясь с которым она все же торжествовала, ненавидя: взгляд Светки Каурцевой! Та на нее глядела жарким внезапным взглядом, а Нина Сергеевна отвечала, взглядом же: меня он любит, не тебя! Он мой муж, а ты ему никто — шлюха. А черт его знает, кого он больше любил. Теперь этого уже не вычислишь. И пусть для жены он Светку не любил, презирал, усмехался, но ведь в какие-то другие часы, о которых Нина Сергеевна никогда не узнает, именно Светку он и любил, одну ее, единственную на земле женщину. Именно ее: лукавую, легкомысленную, скаредную и щедрую, властную и безвольную, лживую, обманутую им, Глебом. И наверно, легко им было вместе, как никогда ему не бывало с женой. Теперь Нина Сергеевна могла его представить: веселого, вероломного, заразительного Глеба, который дурачится со Светкой, отдыхая от жены, и как они друг друга чувствуют — с полуслова, с намека, сразу. Значит, выходит, и любил... Может, на даче у них уже было что-то?
И на свадьбе именно этот взгляд Светкин, недоумевающий, завистливый: «Как это ты его подловила?» А она дохаживала шестой месяц, Глеб же боялся загса так сильно, что и Нина думала: вот женится и уйдет, развяжется с ней. И никаких способов по «залавливанию» Глеба она не знала, беременность усугубляла только страх его потерять: до этого он был очень милым человеком, а тут как сдурел, стал невыносим и оскорблял, словно это она ему назло забеременела, специально, чтобы в загс его на цепи привести. Да ведь она боялась. С той самой осени, когда Глеб намекнул как-то: а вдруг будет ребенок у них?! И оскорбил, убил, уничтожил, ненавистен стал тем, что намекнул. Только все чаще это: «Вдруг будет?» В тот самый первый раз, когда она потрясена была, изумлена, до слез, до счастья, до умереть, до благодарной жалости к Глебу, тоже: «А вдруг?» И даже «а вдруг» эту жалость тогда еще не остудило, какой же он дурачок, думала она, и думала: «Пусть будет, пусть... есть за что, за это только так и расплачиваются...» Но даже вслух не решалась подумать, он в ней это отсек, отрубил своим «а вдруг», и в ответ она могла что-нибудь только сказать вроде: «Не твое дело, тебя это не касается», или: «Заткнись, надоело», или: «Ничего не будет, заткнись». Глеб испытывал облегчение от ее слов и готов был любить, оставаясь честным человеком. А она костенела от страха, что это «вдруг» случится, ведь она понятия не имела, от чего случается или не случается это «вдруг» и что надо делать, чтобы оно не случилось. О, тогда было не так просто сделать аборт, как сейчас, ее просто-напросто выгнали из больницы: первая беременность, рожайте. Жаловаться было некому: не матери же этот подарок преподнести, не Глебу же, который про «вдруг» ее упредил заранее. Не девчонок же было посвящать. Какие-то уколы, таблетки, отвар из лукового пера, густой сахар с водкой, горчичные ванны, в которых останавливалось сердце. Они жили на частной квартире с Глебом. Он, не подозревая про «вдруг», очень привязался тогда к ней, что даже на квартиру ушли — так любили друг друга. На этой квартире у него и открылись глаза — должен был съездить к матери, но раздумал, вернулся не вовремя. И застал свою девочку в стельку пьяную от сахара с водкой, облепленную горчицей, помирающую в горячей ванне медленной смертью. И оказывается, с его девочкой это самое «вдруг» и случилось. Боже мой, любил ведь, как не любил! Испугался тогда страшно, она, правда, могла в этой ванне помереть, хотя ей-то, пьяной, море было по колено. Ничего не помнит: темно в глазах, кровь везде тукает, в комнате тукает, и хочется пропасть, вырвать, сердце вот-вот... Нес ее на руках из ванной, отпаивал валерьянкой, руки гладил, плакал, на коленях стоял. И ведь стоял когда-то — в первый и последний раз стоял, у изголовья хозяйкиной кровати, на которой она, его любовь, помирала. Помереть бы тогда, чтобы не было остальной жизни, не было сегодняшнего дня, не рождалась бы Марина, чтобы связаться с хулиганами, чтобы угрозыск ее искал. Помереть, пока он, еще любимый, еще любил и стоял перед ней на коленях — простить и умереть совсем.
Однако невероятно другое: неужели это все же они так нелепо, так дико живут вот уже восемнадцать лет? Неужели это их жизнь?
ГЛАВА 20
Впрочем, живет ли она теперь? Не обнаружит ли она себя завтра в той странной книжке, что подсунула ей однажды Яна: герой все ходит по бесконечным коридорам бесконечного учреждения, и кажется, это угрозыск или суд, и героя обвиняют в чем-то, а он пытается доказать, что он невиновен. Очень похоже... И совершенно жуткий конец, когда героя убивают двое мясников на пустыре — это решение суда, приговор.
После того разговора с Фоминым, не очень-то доверяя усталому, затурканному делами капитану, Нина Сергеевна сама попыталась разыскать Наталью Чижову, бывшую проводницу. Оказывается, Наталья живет в новых домах на Синюшиной горе. Она встретила ее на удивление радушно, хотя и несколько испуганно, и даже пригласила Нину Сергеевну в квартиру. Нина Сергеевна нанесла свой визит не вовремя — у Натальи затевалась вечеринка: лохматая юная девица и двое рыжих грузин из командированных жарили мясо на кухне, а стол был уставлен винами. Впрочем, обстановка в квартирке была убогая, и пыли по углам тоже хватало. Наталья присела на краешек стула, скромно сложив руки на коленях.
— Наташа, вы давно знакомы с Мариной?
— Нет. Я ее видела один раз у Симулянта, они заходили с Игорем. Мне показалось, она неплохая девчонка, даже удивилась, что она с ними дружит.
— А что этот... Игорь — он что, нехороший парень?
— Дышло-то? Ну-у! Какой он хороший — балдежник, и больше ничего. Нет, вашей Марине он совсем не пара, если она действительно с ним уехала.
— А от кого вы слышали, что она уехала? От Симулянта?
— Ну да, от него — у него обычно вся их хипня и собирается. Выпивают, ну, колеса катают, пластинки крутят. Они нехорошие ребята, фарцовщики. Они и меня хотели втянуть, разные тряпки там доставали, но я с ними завязала. Вы знаете, если вы хотите, я вам дам адрес Симулянта — может, он что-то скажет? Он лучше знал Игоря.
— Так Симулянт же, говорят, уехал?— удивилась лохматая девочка, внося в комнату сковородку с мясом.— Жора!— крикнула она на кухню.— Ты не забыл посолить?
Возник рыжий, неумеренно волосатый Жора в распахнутой льняной рубашке.
— Да,— неожиданно вспыхнула и смутилась Наталья,— познакомьтесь, пожалуйста: это мой жених, Жора.
Жора поклонился галантно.
— Ну, извините, Наташа, я пойду,— поднялась Нина Сергеевна,— извините, что я не вовремя.
Нет, все это было впустую, Натальи Чижовы, Симулянты, Красины... Все они ничего толкового не могли сказать о Марине. Да, видели один или два раза, симпатичная девочка, кажется, дружила с Игорем, приходила один раз к Симулянту. Симулянт же уверял, что Игорь был сам незнаком с Мариной, а ее приводила какая-то чужая девочка, кажется, подружка. Но какое Нине Сергеевне дело до них до всех? Тем более что Фомин всех их уже допросил неделю назад и забыл за ненадобностью: эта «хипня» варилась в своем котле и к исчезновению Марины, видимо, не имела отношения. Тот же замкнутый круг. Но чем же, чем жила ее дочь в последнее время? С кем она дружила в Иркутске? Нине Сергеевне казалось, что она должна что-то вспомнить, что-то очень простое — но что именно?
Цеплялась память за нечто ничтожное: за прошлогодний приезд отца, за ссору на другой день, вечером, когда отец уже уехал. Стоило ли такое значение придавать забытому дню, ничем, в общем, не замечательному? Да и ссора была не замечательна ничем — мало ли они воевали с дочерью по более серьезным поводам? Какие-то нелепости сошлись, и зацепились друг за дружку локотками какие-то мелочи, глупости, раздражение, накопленное за день,— вроде и раздражаться было не из-за чего, просто одна ничтожность добавлялась к другой.
Надо было вспомнить весь день. Ведь проснулась-то она с легким сердцем, как не просыпалась давно.
Вставать было еще рано, и она прислонилась к Глебову боку, пытаясь досмотреть сон, который ей снился. Что-то хорошее снилось. Она закрыла глаза, безотчетно напрягаясь: что же это такое снилось, раз она помнит? Спали с открытой форточкой, темный заоконный мир слабо колебал шторку ветром, и внутреннее чувство было где-то здесь, рядом... «Да ведь зима!— вдруг отворилось в ней радостно.— Это ведь снегом пахнет!..» Она лежала еще минут пять — десять — лежать смысла не имело, но и не хотелось будить своих. Потом, не зажигая света, шлепанцы в руке, кралась на кухню, в темноте включила газ. Слабый сиреневый цветок горелки повисал за окном. Там было еще черно, и лишь за домами, на востоке трепетало бледное зарево: факелы над комбинатом. Собственно говоря, уже светало, и, привыкнув, глаза видели прежде всего снег. Нина Сергеевна воткнула штепсель в розетку, сообщали утреннюю сводку погоды: на севере и на юге области снежные заносы, на дорогах — снежные накаты. И несколько раз настойчивый, то мужской, то женский голос: «Водители, будьте внимательны, гололед!» Деревья обломало еще больше: копны мокрого снега смерзлись, потянули ветви к земле, все это прихватило, сцементировало, припаяло к земле. Было красиво и жалко: искалеченные деревья, снег, красный панельный дом напротив. На одном из балконов мерзнут простыни и японское махровое полотенце в малиновых пионах. Такие вещи Нина Сергеевна стала замечать совсем с недавних пор. Странная острота зрения: все вдруг оказывалось неожиданно и до боли прекрасным, и, не умея видеть практическим зрением художника, но и не в силах обойти эту красоту, Нина Сергеевна сравнивала с фильмами, с репродукциями в журналах,— ну вот так и писать красками: панельный дом на снегу, белые простыни на балконе, малиновые пионы на полотенце и буро-красный цвет стены. Куда они смотрят, когда можно писать так выразительно и просто? И она примеряла этот вид на цветную вкладку в журнале, не думая, что, пожалуй, похожее она видела, но не замечала и что на глянцевой вкладке потерял бы что-то этот дом и снег, именно: трогательную серьезность и взаправдашность.
Без десяти минут семь она подняла Марину, а там уже надо будить Ляльку в школу. Встали и Глеб с отцом. Спросонья оба помятые и настолько разительно разные, что оба оказались не просто людьми, а какими-то типами из водевилей. Роли свои оба знали назубок и так безупречно разыгрывали, что и Нина Сергеевна при них вживалась в шкуру зрителя.
Отец первым делом, не умывшись, закурил возле форточки, босой, в брюках и в тесной грязноватой майке. К своим шестидесяти он не заплыл жиром, но и не усох, и, когда, поеживаясь со сна, поводил лопатками, выпуклость плеч и мощное плетение спины особенно в нем проступали. И тогда во взгляде Глеба сквозила какая-то неопределенная застенчивость. Глеб между тем суетился, начиная свой утренний распорядок. Тоже в майке и в трико, этак бедным родственником взглядывая на отца, он махал в темпе руками, бодро наклонялся и приседал, вытаскивал из-под тахты гантели. При гантелях на фоне отца он выглядел жалковато. Отец ронял искоса взгляд и молча курил: тощенький Глеб с гантелями ему явно не нравился, и он не понимал дочь, которая вышла за этого комика. Глеб все это прекрасно чувствовал и сразу внутренне уничтожался и поскорей запирался в ванной.
За столом отец молча жевал, задумчивый и поглощенный. Ел он умеренно. Не крошил хлеб и не ронял крошек, тарелки после отца приятно было мыть. За всем этим была, должно быть, истовость крестьянина, где из поколения в поколение семья в десяток человек садилась за стол, где каждый кусок на учете. Нине Сергеевне полувспоминались какие-то рассказы о том, что мать отца, ее бабка, была скора на руку, и, бывало, отцу перепадало ложкой по лбу за неэтичное поведение за столом. Ел отец молча. Глеб, напротив, ел, как будто не ведая, что в тарелке. Стол был отчасти его трибуной, так что в это время волей-неволей приходилось его слушать. Он часто вскакивал размахивать руками или принести из комнаты книгу для уточнения какой-нибудь цитаты и забывал кусок хлеба в книжном шкафу.
Они с Глебом уходили на работу, и отец оставался на собственном попечении.
— Ну как ты, не будешь скучать?— машинально спросила Нина Сергеевна. Собственно говоря, ей было совершенно безразлично, будет или не будет скучать отец, но долг гостеприимства обязывал.
— Да ну еще,— своим неподражаемым тоном ответил отец. Он терпеть не мог усложнять само собой разумеющиеся вещи. — Улица Мира — это где? Мне одного мужика надо разыскать, Гошку Шабурова, может, помнишь?
Она объяснила, как проехать на улицу Мира. Никакого Гошку Шабурова она, конечно, не знала.
— Так мы, наверно, не увидимся,— так же невозмутимо сказал отец,— с шестичасовым я хочу уехать.
— Как — уехать?— даже растерялась она.
Разве он не останется на выходные? Все-таки нелепость отпускать отца вот так, вчера вечером приехал, не поговорили толком. Что-то с Санькой у него... И сегодня будет один, и уедет без них, они на работе. Отца стало жалко, будто он и впрямь родной человек, родными заброшенный. Впрочем, жалко было как раз как чужого, про которого мы почему-то думаем, что наша холодность ему нестерпима — с родными мы церемонимся куда меньше. Она принялась уговаривать отца остаться: они так соскучились, не виделись, и когда теперь увидятся, и несчастье с Санькой, угнавшим соседский мотоцикл. Будто, прогостив у них еще день, отец придумает что-либо остроумное, как спасти своего Саньку от следствия и возмездия.
— Жена будет ругаться,— по-мужицки просто объяснил отец.— Да и с парнем надо что-то решать.
Мужицкая прямолинейность отца в ситуациях такого рода всегда ее пугала и восхищала — чего-чего, а светскости в нем не было, зато был здравый смысл. Тем более что это умение не увильнуть не выглядело у него хамством. Отца можно было обвинить в чем угодно: мужицкого гонору и вахлачества, туповатого самодовольства, этой сермяжной хитрости, а также крепости задним умом — всего в нем хватало. Но при все том не могла она не позавидовать его крестьянской грации, с которой он умел не усложнять, оставаясь естественным.
Но до чего все было неудачно! Знала бы — с работы отпросилась, нельзя так отца отпускать, не проводив. И ужином никто не накормит.
— Где ключ-то оставить?— деловито спросил отец.— Может, в почтовый ящик брошу?
— Сергея Харитоновича может Марина проводить,— скромно высказался Глеб. Тестя он недолюбливал, и это выражалось в такой нейтральной скромности: когда в отношения отца и дочери он не вмешивался.
За эту не очень умную демонстрацию Нина Сергеевна недолюбливала мужа, а заодно и отца, который то же самое демонстрировал по отношению к Глебу — с мужицкой своей сдержанностью, за которой крылась мужицкая спесь. Муж с отцом могли сколько им влезет друг друга недолюбливать, но не вмешивать в это дело ее. Но они вмешивали, даже втягивали, и очень упорно, каждый якобы жертвовал собой ради нее, ради ее любви и счастья: отец «жертвовал», потому что это был муж родной его дочери, а муж «жертвовал», потому что это родной отец его жены. Отец Глеба не любил, потому что он, по его представлениям, был «не мужик». Не любил Глебову вежливость, его тонкие пальцы, его тщедушность. (Хотя Глеб вовсе не такой уж дохлятина — обыкновенный городской человек.) Не любил Глебову манеру зажигаться, когда тот начинал с женой о высоких материях говорить, но еще хуже ненавидел Глебово ироническое молчание, когда в эти материи вступал он сам с самодовольством слепого. И разубедить отца ни в какой мере было нельзя, так он был убежден, что из своей деревни все ему видно, что только и бывает это видно такому вот простому здравомыслящему мужику, как он. «У народа они не спрашивают»,— было его любимое изречение.
Такие «народные» отцовские наивности Глеб, конечно, не мог слушать спокойно, и его растерянность выливалась либо в длинное молчание, либо в вялое поддакивание. Но отец при всем своем животном эгоизме с животной чуткостью Глебову неискренность рассекал и начинал его ненавидеть за высокомерие и за то, что Глеб «не мужик» и «не народ». И тогда он по-своему сажал Глеба в лужу: с высоких материй он слезал и широкими саженками плыл в родную стихию того, что ему знакомо, мило и любимо — выплывал на берега своих охотничьих угодий и на плесы своих счастливых рыбалок, брал ягоды в тайге и шишковал, ловил соболей в капканы и стрелял медведя в упор. Глеб все это слушал и уничтожался. Потому что при всем безмерном отцовском хвастовстве были тут жизненные детали, некая правда и достоверность этой мужицкой удали и животного счастья убивать, загребать и насиловать — Глеб же этого был лишен, он был «не мужик». Отец победоносно и сдержанно курил, распрямив свои богатырские плечи. И Глеб, столь охотный в геологических своих байках того же характера, среди друзей, в своей собственной среде, начинал вдруг чувствовать себя мальчишкой, сморчком.
Но Глебово скромное «Сергея Харитоновича может Марина проводить» Нину Сергеевну вдруг очень ободрило.
Отцу было безразлично, проводят его или нет, но что накормят ужином — утешило.
— Не забудь позвонить Марине,— напомнил скромный и гостеприимный Глеб. Именно нелюбовь к тестю толкала его на эту нежную заботливость, и, кстати, тут он был искренен как любой, более или менее непрямолинейный человек: нелюбимых людей он немножко стыдился за то, что их не любят.
— Да ничего мне не надо,— промямлил отец, которого бурная и неискренняя заботливость дочериной семьи немножко тяготила.
На работе Нина Сергеевна только и делала, что постоянно звонила дочери. Звонила из управления, куда ее вызвал новый начальник ОТЗ, чтобы обрадовать,— обещал дать нового инженера, но когда — бог весть. Услышав эту радость, в которую она не очень-то верила, Нина Сергеевна и позвонила из кабинета Марине — но ответили, что Марины нет. Новый начальник ОТЗ покосился на ее нервозность, разжалобился и пообещал что-то туманное насчет премии, нет, не квартальной, а именно что для них, для лаборатории. Из фонда поощрений. Она еще раз рассыпалась в благодарностях, но все же спешила, на автобус боялась опоздать. Автобус курсировал из управления через каждые пятьдесят минут, а чтобы не опоздать, оставалось три минуты. Однако начальник ОТЗ что-то передумал и задумался. «А так ли вам нужен инженер?— немного риторически и бюрократически сказал он.— Обходились же раньше?..» Пока Нина Сергеевна немного раздражаясь, но смиренно объяснила, как они «обходились», а начальник немного скучая, но вежливо ее слушал, автобус ушел. «Снимите хронометраж»,— запальчиво сказала Нина Сергеевна, еще надеясь побежать вслед за автобусом и повиснуть хотя бы на колбасе. «Ну, зачем же так,— добродушно рокотал новый начальник,— нужен так нужен, я не спорю. Будет вам инженер, в этом году непременно будет, но поймите, что и мы не боги...» Она-то понимала, да вот он кое-чего не понимал. Например, что собственной машины у нее нет и теперь придется ловить попутку или околачиваться целый час в управленском фойе. Ведь, в самом деле, не баклуши же она бьет, чтобы прохлаждаться в фойе, разглядывая себя в зеркале! «При такой системе не одну — десять штатных единиц нужно,— запальчиво думала она,— и тех не хватит. Он, видите ли, занят, а я — нет!..» И, кормя свое раздражение, добавляла к нему еще и злополучную Марину, которой почему-то нет на работе, и злополучного отца, которого надо провожать. «И у всех своя блажь,— думала она, переключаясь на отца,— почему бы, например, ему не уехать с двенадцатичасовым? Я вполне бы его проводила. Да-а, но где же этот свинтус-то околачивается, если не на работе, выпороть ремнем, совсем обнаглела, свинья...» Позвонила на всякий случай из БРИЗа — Марины на рабочем месте не было до сих пор, телефонный голос был злой,— видно, кого-то раздражало, что Марина шляется в рабочее время.
Надо было искать машину. На площади, перед вахтой и перед управлением, стоял целый парк машин: легковых, и грузовых, и полугрузовых. И ни одна из них в сторону города ехать не собиралась. Нина Сергеевна пошла на остановку, надеясь остановить какой-нибудь автобус или машину газоспасателей с дальних объектов. Здесь, в лесу, вчерашним обильным снегопадом тоже были обломаны деревья, но меньше,— видимо, их спасло, что лес, массив. Или деревья были больше.
В лаборатории она опять звонила Марине. Но в институте было то занято, то вообще не снимали трубку. Наконец ей раздраженно ответили, что нет, куда-то вышла. Но это было уже слишком! В девять часов — нет, в десять — тоже нет. Когда же она работает? Эта Маринина безответственность не просто бесила — пугала Нину Сергеевну. Месяца не прошло, а дочь усложняет отношения, а это тем более неприятно, что устраивали ее по знакомству. Конечно, Рохляковы милые люди, но... Вот это и значило поступить против совести; уже тогда воздавалось, начинался рецидив, а мать мучило сознание двойной вины: дочь ставит людей в неловкое положение, которым неловко и так, ведь взяли на свою ответственность, на птичьих правах. Марина же не просто бездельничает — она свинячит людям.
Она набрала номер Марининого института. «Это вы, Нина Сергеевна?— любезно узнал ее Сизых.— Сейчас позову вашу дочку...» Трубку положили. Нина Сергеевна слышала голоса, шаги, то одни, то другие. Искали Марину. И опять чувство неловкости и вины, что Сизых, знающий себе цену, бегает. Наконец заспешили шаги.
— Ну что?— капризно спросила дочь.
— Где ты была?— раздраженно накинулась Нина Сергеевна.— Это что — так полагается в течение рабочего дня? Я тебе с девяти часов звоню, где ты была все это время?
— У девчонок наверху...— безмятежно ответила Марина.— А что?
— Да работай ты у меня, я бы тебя в два счета уволила по собственному желанию, милая моя.
— Слава богу, что не можешь!— засмеялась дочь.— А зачем звонишь-то? Случилось что-нибудь?
— Ну, я с тобой еще поговорю,— пообещала Нина Сергеевна. Дочь неопределенно хмыкнула в трубку, но отнюдь не огрызаясь и не испуганно.— А теперь вот что, после работы немедленно домой и проводишь деда. Да не забудь его покормить, котлеты в холодильнике. Если лень жарить, то хотя бы бульон разогрей. Ты меня слышишь? Что ты молчишь? Он с шестичасовым уезжает. И на вокзал проводишь, поняла меня?
— Да ну-у...— капризно протянула дочь.
— Что именно «да ну»?
— Что он, сам не уедет?
— Ну, ты совсем обнаглела,— опешила Нина Сергеевна,— ты хоть понимаешь, что говоришь?
Марина, думая, подышала в трубку.
— Ну, провожу,— сказала она другим тоном.
Нет, все-таки непонятно, откуда что в дочери берется. Чьи это гены, чье хамство? Воспитание, увы, формирует далеко не все. Не они же с Глебом учили вот так хамить, не понимать, не задумываться? Откуда эта черствость, эта глухота душевная у дочери? И вроде бы все Марина понимает, но едва доходит до узкого «себе», она становится упряма, как ослица, глупа и даже жестока.
— Боже мой, Марина, ну я не понимаю,— начала Нина Сергеевна, и собственная интонация показалась ей жалобной, жалкой, фальшивой,— ведь ты почти взрослый человек, семнадцать лет. И потом, твое это с некоторых пор отношение...
— Начинается!—
фыркнула Марина и бросила трубку.
И
она, конечно, вскипела, взбесилась,
набрала номер и орала при посторонних.
Какие-то нотации, сентенции, сама себе
казалась занудой и все же удержаться
не могла, пилила и пилила: о чувстве
долга, о том, что «мы в твои годы»...
Марина слушала. Нина Сергеевна
спохватывалась, что говорила не то:
долг долгом, у Марины в одно ухо влетит,
а в другое вылетит, и позабудет, что
деда надо проводить, что об этом речь.
Опять звонила.
После обеда позвонил Глеб, решив узнать, говорила ли она с Мариной? Да, говорила. Нина Сергеевна была раздражена. Что ты звонишь по пустякам? Если Сергея Харитоновича никто не проводит, то получится неудобно, проповедовал человеколюбивый Глеб. Нина Сергеевна вскипала: ты-то что печешься? По-моему, ты терпеть его не можешь, так к чему этот театр? Глеб обижался. Заводил новую проповедь: ты Марину распустила, ты сама хороша, тогда заяви своему отцу, чтоб совсем не приезжал, чем всем нервы из-за него портить, ты совершенно не понимаешь... Мне не восемнадцать лет, мой дорогой, оставь свой менторский тон. И потом, мне некогда, у меня работа, я не сувенирчики делаю, как некоторые. (Глеб в своем проектном институте действительно иногда занимался и «сувенирчиками» — институт-то горный, камней до черта.) Он вскипал.
Домой Нина Сергеевна приехала только в восьмом часу, но никого не было. «Должно быть, на вокзале,— догадалась она.— А как же Лялька? Увязалась за ними, что ли?» В девять часов Ляльке нужно было спать по режиму. Но пока умывалась в ванной, сообразила: в прихожей под вешалкой вроде валялись Лялькины сапожки, это наверняка Лялька в них бы поехала на вокзал, ни за что в старых... Заглянула: точно, сапожки на месте — значит, Лялька в старых бегает по двору. В кухне чайник пустой, даже грязной посуды нет. Значит, не ужинали. Заглянула в хлебницу — хлеба нет. «Да что они, спятили, что ли?» Она ничего не могла понять. Отца-то хоть ужином накормили? Как он уехал? Пошла во двор искать Ляльку. Было уже совсем темно, среди белого снега блестели асфальтовые дорожки. Лялька за соседним домом играла в «хали-хало».
— Почему хлеба не лупили?
— Ой, ма-а-мочка...— Лялька схватилась за карман,— я же в магазин пошла да забыла. Я сбегаю?
— Вспомнила! Хлебный же до восьми.
— Ой, ма-а-мочка,— виновато потупилась Лялька.
— Деда проводили?— спросила Нина Сергеевна.— Марина на вокзал уехала?
Лялька радостно встрепенулась, готовая ябедничать. Видно, ее забывчивость с хлебом ни в какое сравнение не шла с Мариниными подвигами:
— Ну да! Марина поссорилась с дедом. Он просил в магазин сходить, а она ответила: «Вот еще, мне некогда...» А я вот сходила деду за папиросами,— выделила она как бы между прочим.
— Так она его не проводила?— перебила Нина Сергеевна.
— Не-а. Она сразу в город уехала, ей Танька польские тени обещала. Марина только деньги взяла и уехала.
— Ничего себе!— только и ахнула Нина Сергеевна.— Ну-ну, рассказывай.
— А что рассказывать? Я купила деду папирос... Между прочим, мне продали, хоть и до шестнадцати... Он спросил, на каком автобусе, и уехал.
— Как — уехал! Он и не ужинал?
— Нет, сказал, что не хочет.
— А вы с Мариной?
— Я же говорю, Марина в город уехала. А я доела бульон и булку...
С Мариной все было ясно. И ведь она наказывала, три раза звонила: проводи! Но трудно было проводить, тени для век дороже! И почему нужно хамить вдобавок?.. Ведь и деда она, в общем-то, любит: когда он привозит ей подарки, она рада и даже приласкаться может. Становится ласковей Ляльки, такая подлиза, и причем это не через силу, не фальшиво — искренне. Любит она тряпки, это так. И не понять, откуда идет. Читаешь социологические очерки, исследования, и вроде все понятно: семья, мол, такая, накопители, мещане, кулаки. Но у них-то откуда? За всю жизнь ни на дачу, ни на машину не скопили, полированных шкафов и ковров у них нет! И на Марину не слишком тянулись, что есть — то есть, достаточно. Конечно, подруги... Но, во-первых, Марина в том возрасте, когда подруг выбирает сама, во-вторых, она не хуже их одета, дочь — модница.
В половине девятого пришел Глеб. «Ну что, проводила Марина Сергея Харитоновича?» Нина Сергеевна пересказала Лялькины рассказы. Так он и знал, сказал Глеб, и он ведь тоже звонил ей на работу.
— Какие-то тени,— растерянно объяснила Нина Сергеевна,— ничего не понимаю, а ты?
— Как же, не понимаешь,— фыркнул Глеб.— Поменьше бы с ней сюсюкала, сама виновата.
— Да я-то чем?— смущенно защищалась Нина Сергеевна. Может, и правда виновата, она не спорила. Кто же виноват, кроме матери, если дочь свинья?
— Вот что,— сказал Глеб,— я с Мариной сам поговорю, а ты не вмешивайся.
Она не была уверена, что это разумно.
— Ох, милый, ты опять раскричишься, а ей только на руку.
— Ну уж, лучше лебезить, как ты!
— Ну, хорошо, хорошо,— досадливо согласилась она, не веря, впрочем, в успех Глебовых сентенций. Он слишком быстро иссякал и срывался, и тогда уж Марина ходила гоголем, третируя заодно и мать.
Кстати и Марина явилась: бурно, жизнерадостно, требовательно затрещала на всю квартиру. «Боже мой, Марина, Ляльку же разбудишь...» Мать не глядела на дочь, демонстрируя холодность, лед в семье, Маринино недостойное поведение, сводящее в гроб родителей. Обаятельная Марина, невинно улыбаясь и не снимая шубы, предстала перед отцом в кухне:
— Вкусно
пахнет! Оладьи, да? Жрать хочу как
волк!
Глеб молчал, иронически озирая
дочь.
Должно быть, сильно похолодало: пуховая шапочка обметана инеем, белые ресницы. Нежно-бледный высокий румянец, прелестный рот. Красавица дочь! И неизвестно, откуда что, она похожа на родителей и не похожа. Похожа на Глеба, но черты совсем другие, капризней и тоньше, хотя в них нет живой Глебовой подвижности. Это — в Ляльке. Марина уже обновила легендарные тени, из-за которых столько переполоху; бирюзовый, но слишком интенсивный цвет, на Маринины веки при темных глазах их нужно наносить едва-едва — они не идут. А ресницы совсем как пластмассовые, столько туши на каждой. Видно, у той же Татьяны дочь постаралась так обезобразить себя. При такой тотальной косметике не сразу сообразишь, что у Марины действительно красивые ресницы — золотистые, Глебовы, при темных материных глазах. Иней на ресницах растаял, тушь поползла.
— Привет польским косметологам,— ядовито заметил жизнерадостный Глеб. Все воспитательные парламентские речи он считал нужным начинать жизнерадостно.
— Не злись, папка,— рассмеялась Марина, которая давно уже изучила тактические приемы отца.— Танька обещала другой девчонке, я едва-едва перехватила,— она опустила веки, демонстрируя эффект,— ей тетка из Кракова привезла, правда, прелесть?
— Для панели в самый раз,— мрачновато сострил Глеб.
— Да ну тебя!— Марина была безмерно счастлива и готова растопить своим счастьем не только родительский самодельный ледок, но и все льды обоих полюсов.— Вы, мужчины, ничего не понимаете... Мама, оцени?
— Кто это «вы » ? — удивился Глеб.
Нина Сергеевна пожала плечами:
— Я согласна с отцом. Польские польскими, но тебе так мазаться еще рано. У тебя темные глаза, тебя старит...
— Сговорились!— радостно фыркнула Марина.— Я вам не верю!
Дочь ушла раздеваться, а они с Глебом переглянулись. «Ну, и как ты начнешь?» — посмотрела она. Глеб нахмурился: «Знаю как, только сама не лезь...»
— А я знаю, почему вы злые,— беззаботно улыбалась Марина.— Я деда не проводила. Но правда, папка, если бы не тени,— Марина подставляла стул, наливала себе чаю.— И потом, дед не обиделся совсем, правда-правда,— она макнула оладью, укусила и продолжала с полным ртом,— мычево тут такомо ужасмово.
— Прожуй,— поморщилась Нина Сергеевна.
— Ничего,— проглотила Марина,— тут такого ужасного не случилось.
— Действительно,— сочувственно вздохнул Глеб,— наша невинная овечка и волки-родители. А Сергей Харитонович — тот вообще...
Невинная овечка ела, застенчиво опустив свои польские веки. Это, видите ли, она так созорничала: оставив деда голодным, нагрубив ему и улизнув за тенями. Невинное озорство, за которое невинно журят, овечка слушала да ела. Ушки застенчиво пылали — с мороза, наверно, не от стыда.
И Глеб журил по-родительски обстоятельно: про душевную черствость, про хамство («Это не юношеский нигилизм,— настаивал он,— это —хамство!»), про потребительское отношение к жизни. Войдя в роль и нимало не понимая в самозабвении, что дочь давно все это пропускает мимо ушей с тупой покорностью: мол, внушай-внушай, такова, мол, судьба слушать отцовские морали. Начни этот разговор Нина Сергеевна, она бы точно так же увлеклась и забылась, горячась без причины, ибо причиной была невозмутимость бесчувственно жующей дочери. Аппетит Марине было трудно испортить. Она слушала, помаргивая железными ресницами, однако уплетала за обе щеки. Тут что-то другое нужно было, но что? Теперь, со стороны, Нина Сергеевна видела, переживая за Глеба и не смея вмешаться. В подобных форсированных воспитательных кроссах они всегда объединялись с мужем, стоя плечом к плечу против дочери, хотя потом, наедине, ссорились, ненавидели и уличали друг друга. А с дочерью — скрепя сердце — шли в одном строю, несли совместную чушь, совместно слепли, совместно рубили пустой воздух, совместно падали бездыханно. Дочь ослиным покорством победу оставляла за собой. К родительским набегам она давно привыкла, возвела свои стены и вырыла рвы, запаслась подъемными мостами реплик, а главное, терпением: ибо победа осажденных — это их терпение. Родители не вытерпливали, валились вместе с веревочными лестницами куда-то в ров.
Для дочери они были одно враждебное целое, два бесполых существа, ее «предки», и если в другие мгновения жизни она отличала их как-то отдельно, то в моменты генеральных головомоек не слушала и презирала обоих. Она усвоила самый легкий способ обороны: скука и покорность молчать заменяли ей раскаяние. Все это прекрасно понимала теперь Нина Сергеевна, молча нервничая. Глеб слегка уже зарапортовался на моральном кодексе гражданина и явно уставал. И видно, переполнил чашу.
— Да что я такого сделала?!— великолепные веки взлетели над тарелкой, и не то осел обрел дар человеческой речи, не то у овечки выросли зубки.— Что я такого сделала, можно подумать, ваш дед — Христос распятый! Такой уж семейный секрет, родовая тайна! Да он бросил мать, и дядю Пашу бросил, и бабушку, наплевать ему было на вас!— выкрикнула она уже матери.— И вот, видишь ли, я оскорбила смертельно этого старого алкоголика! Да у него сын в трудовую колонию загремит!
— Да как ты смеешь?— побагровел Глеб. Недолюбливание тестя сметено было в этом смерче справедливости, в этом сверкании громов над бесстыжей и наглой головой.— Что ты мелешь, нахалка ты бессовестная? Да ты...
— Еще один страдалец!— ненавидяще выкрикнула дочь.— Нет, надо же, он еще о долге... Да ты бросал нас с матерью, когда мне было пять лет, думаешь, я не помню?
— Марина!— ужаснулась Нина Сергеевна.
Глеб споткнулся, разинув рот, ушам собственным не веря. Потом издевательски захохотал — не то смех, не то шип, не то клекот.
— Вот так, моя милая, пожинай свои плоды,— издевательски задыхался он, намекая жене скрытое от дочери.— Теперь, оказывается, уже я вас бросил!
Нина Сергеевна окаменела.
— А что, нет? Бросил, бросил!— увлеченно орала Марина и даже стакан с чаем отставила.— И думаешь, сейчас я не знаю...
— Бросил, бросил,— радостно закивал Глеб.— Ты же все знаешь.
— А что, разве нет?
— Марина, не смей!— истерически вскрикнула Нина Сергеевна, понимая, что сейчас случится то, чего она боялась всю жизнь.
— Бросил,— упоенно твердила Марина,— бросил, бросил...
— Да твоя мать выгнала меня, выгнала ради любовника, если уж ты хочешь знать! — мстительно-сладко выговорил Глеб. Это давно вертелось у него на языке, но он еще не решался сказать, не хватало безумия. Теперь хватило: он торжествовал и раскаивался, пустой и облегченный, как после убийства, трупа еще не жалко было, он еще не остыл, как ненависть.
Марина вздрогнула, побледнела... Она была свидетельницей убийства. Посмотрела на мать: мать — труп или не мать? Ничего не поняла, отвернулась, как от трупа. Мать в глаза не глядела, тоже думала, что она труп, что она в аду. Что это фокусы сатаны и надо смириться. Для ада была банальная обстановка, но оживать не хотелось, рассуждать, что труп — это кто-то другой... Дочь взглянула еще раз на мать и убедилась, что труп — не она. Тогда дочь, не глядя уже ни на мать, ни на отца, в упоении скорби прокричала:
— Зря, что совсем не выгнала! Зря!
— Что-что?— не понял Глеб, который на миг предположил, что труп — это, может быть, он сам. А Марина, видите ли, без почтения...— Что-о?
— Я бы на материном месте,— скорбно выкрикнула дочь и еще много кричала какой-то чепухи. Лупила этот бесчувственный труп по чему попало. Не Глеба, не мать — а некий труп, что существовал, деть бы его куда-нибудь, спрятать, в подполье, что ли, зарыть.
— Боже мой, Марина, боже мой,— закрылась руками Нина Сергеевна.
— И
очень жаль, что не разошлись!— кричала
дочь.
Глеб выскочил из-за стола, с
каменным лицом полетел в прихожую,
чертыхаясь, стучал ботинками, срывал
пальто, выкрикивая вполголоса вроде:
«Да оставайтесь вы совсем!.. твое
воспитание, мадам!.. яблонька от яблочка!..
все вы сами, все вы!..» Хлопнул изо всех
сил дверью. Нина Сергеевна обессиленно
повисла на стуле. Ей так и представлялось,
что она спадает со стула складками как
чехол. Одно платье, а ее в нем нет. Марина
приходила в себя, тоже молча. Потом, как
бы подавая руку помощи, высказалась:
— Я тебя не осуждаю. На твоем бы месте я бы давно...
— Что ты понимаешь,— устало отмахнулась мать.— Ты была совершенно не права, чудовищно.
— Ну что ж, беги за ним и унижайся,— ядовито заметила дочь. Кажется, она наелась и теперь возила ложечкой в розетке с вареньем, выбирая ягоды покрупнее.— Он тебе не верен,— тоном взрослой сводницы сообщила она.
«С ума я схожу, что ли?» — тупо подумала Нина Сергеевна.
— Какой вздор!— удивилась она вслух.— Что ты городишь, Марина?
— То, что есть,— тоном добросовестной сводни говорила дочь.— Я ее видела с отцом, довольно старая, хотя моложе тебя. («Рита, что ли?— в бреду подумала мать.— Что за чушь порет ребенок!.. Нет, Рита молоденькая, значит, Софья...») Если бы муж мне изменял,— заносчиво говорила дочь,—я бы ушла от него. («Дурочка,— думала мать,— когда-то и я...») Если он тебя не любит,— заносчиво говорила дочь,— если ты его не любишь... жить без любви... («С чего ты взяла, что не любит?— подумала мать.— Бред какой-то!»)
Но все это думалось машинально, помимо, и Нина Сергеевна никак не могла понять, почему могло такое случиться, что дочь решает ее судьбу, их судьбу, а не наоборот — как сделалось такое возможным? Тем более после отвратительной Марининой выходки, после ссоры с дедом, с тенями дурацкими. Эти немыслимые бирюзовые веки не с торжеством даже, а в полной уверенности собственной правоты вскинуты, и это дочь, видите ли, теперь прощает. За что? И, видите ли, Глеб виноват. Если и виноват, то не Марине об этом судить, это их дело, а не ее. Или — и Маринино тоже?
— Какое ты имеешь право?— спросила она почти с ненавистью.— Какое ты имеешь право? Или то, что ты сделала сегодня,— благородный поступок? Как смеешь ты об отце?!
— Отец!— презрительно скривилась Марина.— Отца я себе не выбирала, ты выбрала за меня.
— Так что же?— леденея, спросила Нина Сергеевна.— Чем именно ты недовольна? Твой отец — убийца, предатель? В чем дело, я не пойму!
Марина не отвечала, упрямо затаив что-то свое.
— Нет, ты ответь.
Дочь дернула плечами, по-детски сморщилась и вдруг разрыдалась:
— Значит, и у тебя... и ты... Так чего же вы хотите от меня, что вы мучаете? Что вы ко мне пристали все!— Она пристукнула кулачком, всхлипывая.— Учат, учат! Со своими принципами... А сами! Сами?
— Доча, доченька,— лепетала Нина Сергеевна, порываясь обнять,— маленький мой.
Но дочь уже вскакивала, рыдая, бежать в прихожую, всхлипывать, дрожать, сдергивать шубу с вешалки, хлопать дверью.
Боже
ты мой! Нина Сергеевна не рыдала — она
скулила, раздавленно и приниженно,
брошенная ими, одна, и Лялька могла
услышать и проснуться.
Вот, оказывается, где была разгадка! Вот с чего начиналось! Дочь видела и знала все, а они не догадывались. Нельзя было, нельзя, а они... Но почему? Разве есть семьи, где без задоринки? Далеко ходить не надо, соседи: пьют, матерятся, колотят своих жен, милиция их разнимает... А у тех, у кого шито-крыто, разве этого нет? Не одно, так другое, не третье, так четвертое, но живут как умеют, терпят как могут, если можно еще терпеть, и стараются не выносить сор из дому — это только в кино жгучие мелодрамы с разводами на почве иссякнувшей или разбитой любви. Однако мыслишка такая есть, мелькает порою: закон о разводе ведь предусмотрен для всех. Сладкий, обнадеживающий обман вседоступности, и, может быть, вот в чем дочь была права, чувствуя «временное», наспех, инфантильно затянувшееся сожительство родителей: беспризорность ребенка под этим ненадежным кровом. «Лучше бы разошлись!» — крикнула ей в лицо Марина. Да ведь это они с Глебом повторяли сотни и тысячи раз, мысленно и вслух, разрешая любые проблемы!
Бросить — легко сказать! Так ведь еще и жалость, и привычка, и жизнь прожитая — и все это псу под хвост? Мало ли они «бросались» друг другом? Какое там бросить, когда после он скребся в дверях, и простить умолял, и говорил, что без них не может. Так ведь правда не может! Что она — держит его, что ли? Ну пусть она будет гордой: катись к своей милой, осточертел! К какой «милой» он покатится, кому он нужен? Кому она, им брошенная, но гордая, нужна? Любить без крыши и прав — одно, другое дело — жить друг с другом. Она ведь тоже пробовала начать с нуля, отшвырнуть свое прошлое. И считала себя правой вдобавок: не могла, видите ли, мириться, свободы захотела, высоких отношений — как будто они есть где-то, эти отношения! Не в бардак же она побежала, не под куст, не курортный роман закрутила — любимому человеку отдалась, по своей воле, за себя отвечая. И не было в том ее вины, если с Валеркой у них ничего не получилось. Или — была вина? Но у нее была дочь, вот в чем дело. Так говорила она себе и тогда.
А дело было в другом, совсем в другом...
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





