ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


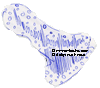
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Захарова Вера
ГЛАВА 21
Эта история, о которой ей было тяжело вспоминать вначале и которая постепенно, с течением времени, приобретала для нее все большую сентиментальную привлекательность — эта история довольно шаблонна, однако стоит о ней вспомнить: не факты, а те фазы и состояния двух людей, перешедших от взаимной страсти к взаимной ненависти. Конечно, Валерку обвиняла она: если бы он был не таким, а этаким, она бы его не бросила. Но то, что она его бросила первая, наполняло ее почему-то глупой гордостью. Как будто суть в том, кто кого бросил, а не в том, почему люди не смогли быть вместе. А вот почему не смогли — об этом она задумалась гораздо позднее.
Конечно, с Валеркой не могло у них получиться ничего путного. Еще и потому, что это было не для нее, не по ее складу и характеру. Даже любя Глеба, даже в восемнадцать — двадцать лет она не умела обольщаться, а уж с Валеркой и тем более. Каждый час, проведенный с ним, она чувствовала себя предательницей (не важно, что Марина все равно все это время была в саду, что Глеб, в конце концов, уехал и она была как бы свободна и вправе). Даже когда ей казалось, что она любит Валерку, когда она и с ума сходила, и ревновала, и была неправа — даже тогда она не могла забыться настолько, чтобы не помнить о дочери, у которой она отняла отца (какой бы он ни был). Понимала, что глупо, а не могла. Ее даже бесила эта собственная половинчатость и ненужное чистоплюйство — ну действительно, что за чушь!— или уж будь абсолютно чиста, или уж грешить — так греши по-настоящему, безумствуй, черт возьми, но чтобы без этих гаденьких оглядочек и раскаяний. И она то и дело выворачивала себя, насиловала, перебирала через край.
То вдруг оставалась ночевать у Валерки, хотя уже с вечера болело сердце, как там Марина останется в саду, и, конечно, портила этот вечер и себе и Валерке. Дергалась, злилась, отвечала невпопад, и если Валерка был в настроении и нежен, он ей казался эгоистом, а если мрачнел от ее дерганья и замыкался, она думала, какой у него кошмарный характер: ну разве не ради него она осталась и старается быть веселой, когда у самой на душе кошки скребут? А он вместо того чтобы оценить ее жертву, сам же дуется и все портит. То вдруг решала порвать с Валеркой, холодно отвечала по телефону и неделями сидела дома с Мариной — Марина конючила, скучая с ней, и просилась на улицу, а она, раздражаясь ее капризами, ела себя за то, что Валерка страдает и, может быть, считает ее легкомысленной, способной просто завести интрижку и порвать и что в отместку он уже с другой. И когда очумевший Валерка ловил ее наконец по телефону и они мирились, она все равно дулась и ревновала. Тогда, если он был неумеренно счастлив от их перемирия, она думала, что это он заглаживает следы после другой (сказывалась еще Глебова дрессировка), а если дергался, выяснял отношения — ей казалось это комедией, последней ложью и тем, что он судит о ней по себе,— значит, сам не чист.
Но все-таки они были еще радостны друг другу. Хотя бы потому, что Валерка еще казался ей и умным, и талантливым, и чутким — гораздо умнее, талантливее и тоньше Глеба. И все, чем он был непохож на Глеба, ей страшно нравилось в нем. Валерка вырос в детдоме, умел все сам и даже наорал на нее однажды, когда она самовольно сделала за него что-то,— оказалось, не в том порошке она стирала и гладила не так. Она пробовала оправдаться: у Глеба точно такие же рубашки и всю жизнь она их так стирает... Но, в общем, ей нравилось, что наорал. (Глебу, несмотря на хваленую чистоплотность его матери, было наплевать, хотя бы и мохом он зарос, и он привык к тому, что носовые платки в его кармане являются сами собой.)
Ей нравилось его лицо, мысли. Нравилось, что Валерка пишет диссертацию о лакокрасках — это ей казалось замечательно талантливо и нужно, а что посвящает в свою работу — она и вовсе таяла,— считает ее умной, которая в самом деле поймет. И неуверенность, с которой он ждал ее приговора, тоже была полной противоположностью Глебу (тот, когда она возражала, начинал о бабьей логике и что у нее недиалектическое мышление). Вообще, эти отношения были в новинку: что ее где-то ждут на улице, и покупают цветы, и приглашают в ресторан. Что ей ни к чему знать, сколько это стоит, цветы переводить на рубли и копейки, а копейки и рубли на стоимость чулок, уплату за Маринин садик, за молоко и свет. Это было такое приятное легкомыслие и мотовство, к тому же не из ее кармана и бюджета. Ей приятно было понятия не иметь, сколько Валерка получает и сколько будет зарабатывать потом. Так же приятно, как приходить в его комнату, такую нежилую, как каюта корабля (говорила она себе), в комнату, которая никогда не была и не будет ее домом. Что можно забраться на диван с ногами и листать какой-нибудь журнал, пока Валерка варит чай на кухне. Ей нравилось, что Валерка ее ровесник, а не на семь лет старше, как Глеб.
Ей очень нравилось, что этот здоровый, физически сильный парень обращается в совершенную размазню с нею, и мямлит, и не верит в себя, и недостойно срывается. (Тут, впрочем, стоило сделать скидку на вообще Валеркину уязвимость и ранимость, а не на ее особенные и всесильные чары. Ведь с Глебом-то все было по-другому.) Но когда Валерка смущался, как ребенок, или радовался, или этак застенчиво и с надеждой ждал, что она скажет,— она до слез бывала ему благодарна. Именно — благодарна. И от этого полна, щедра, счастлива. После всех мук неуверенности, что искорежили ее с Глебом, она впервые была любима, просто любима, ее принимали такой, какая она есть. Без тех снисхождений, которые навязывал ей Глеб, где она постоянно оказывалась глупее и слабее, где чуть ли не все женщины мира, к которым убегал и стремился Глеб, оказывались соблазнительней, лучше, искуснее ее.
Самое странное, что и Валерка, кажется, ценил и находил в ней то же, что и она в нем. Ему нравились ее застенчивость, ее слабость. И в общем, он очень сочинял ее для себя (как, может быть, и она — его). Потому что при всей своей незащищенности и неуверенности кое-что она о себе знала: что — может, а что — нет. Трогательно и смешно было слышать, когда он говорил, как открытие: «Ты ведь совсем не знаешь себя, какая ты...» Она знала, что нравится другим, кроме Валерки: в автобусе, когда уступают место ей, а не той, что стоит рядом. Когда в столовой считают своим долгом сказать что-нибудь приятное. Когда Глеб, особенно в первый их год, вышагивая рядом с нею, вдруг приосанивался и поглядывал на проходящих парней чуть ли не победоносно. Все это она знала о себе, это было смешно и приятно и ни к чему не обязывало. Знала, что не дура и могла бы учиться легко, если бы не Глеб и не дочь. Но и знала: есть более красивые (например, Таня Катаева) и ничем другим, кроме обыкновенного инженера, ей не быть. Что слишком часто смешна, робка, неуклюжа с людьми, неестественна. В такие минуты она чувствовала себя безобразной, горбилась, слова вымолвить не могла. Знала, что обиды терпит и остается в тени не оттого, что она такая уж добрая и безответная, а потому, что не находится, молчит и лишь потом... И этот страх быть обиженной, смешной, некрасивой сильнее всего разумного в ней. Но она не безответная, как казалось Валерке, не робкая, не слабая, не добрая, не милая — уж нет! И конечно, не простодушная, как он считал. Если Глебу в ней нравилось то и не нравилось другое и он стремился переделать, подавить, ущемить, выдрессировать, то Валерка принимал и то и другое, навешивая разные красивые и удобные ему ярлыки: непричесана — значит, милая, естественная; причесана — хочет понравиться ему, молчит самолюбиво — это от застенчивости; перестала дуться — легкий характер. Конечно же это было не так. Да и тушевалась, уступала и смирялась она лишь до известного предела: когда эта чаша была переполнена и терять ей, казалось, нечего — появлялась и наглость. И было у нее несколько случаев, за которые она хоть и платила потом (потому что реакция ее самоутверждения действительно была безобразна), но где-то, благодаря этим срывам, знала, что нет такой боли, ни страха, ни цены, ради которых стоило бы... Во всяком случае, она не каялась никогда.
Первый случай был на практике, в институте. Нину и еще одну девочку поставили в цехе переписывать паспорта на оборудование вместо того, чтобы дать работу на установке. Это ее возмутило: на практике они должны были освоить технологию, знание которой понадобится в проекте, а не выполнять канцелярскую работу. И она, смирив некоторые колебания и страх оказаться выгнанной, решилась идти к начальнику. Она отродясь не чувствовала в себе храбрости «лезть на рожон», но тут почему-то наивно рассудила, что их поймут по-человечески: ведь не с декларацией же прав и требований она шла, а всего лишь попроситься в смену. Начальник цеха был молод (года на три старше Нины), но как раз из породы «сильных» мужчин. Через два года после института он уже командовал цехом, хоть и небольшим — карьера почти неправдоподобная, и непривычная ответственность за стольких людей делала его самоуверенней, чем надо бы, а может, он просто еще неловко себя чувствовал на этом месте. И он ответил, удивившись ее претензиям: делай как сказано и не умничай. Он сидел за столом — она стояла; она говорила ему «вы» — он ей «тыкал»; ее просьба была законна, и она не только для себя старалась, а и для подруги — он был беззаконен и груб. Нина покраснела, но не ушла. «Ну, чего еще ждешь?— спросил он, все более изумляясь (опять «тыкнул»!).— Делай что сказано, пока мусор грузить не послал!— Он все больше терял уверенность и пытался казаться занятым, удрученным делами человеком.— Возись тут с ними...» И тогда ее взорвало: «Во-первых, не ты, а вы,— сказала она, бледнея от бешенства,— во-вторых, через год я буду таким же инженером, как в ы (она сделала ударение на этом слове), в-третьих, нас послали на практику, так что вы обязаны возиться, а не использовать нас вместо секретарш...» — «Знаешь что,— сказал он с достоинством,— не строй из себя, а иди писать паспорта».—«Я буду жаловаться»,— сказала Нина. «Да пиши хоть в министерство!» — взорвался он. А ведь можно было и его понять, как догадалась потом Нина. У него уволился механик, техническая документация была запущена, так что ему казалось выходом поставить практиканток разобраться хоть в этой бумажной суете. Но тут уже пошло на принцип: что они, пешки действительно? Девочка осталась переписывать паспорта, смирилась. Нина взъерепенилась, и ее в самом деле послали на мусор. Через неделю снова вызвал начальник: «Ну что, сбила охотку?» — спросил он без злорадства. Она холодно пожала плечами: «Не жалуюсь. Но если меня вызвали на паспорта, то заранее говорю: писать не буду...» — «Ну-ну, грузи»,— одобрил он. А через несколько дней передали его распоряжение: оператор из четвертой смены заболел, пусть она выходит в четвертую смену. Никакой победы тут, конечно, не было, скорее, наоборот. Из цеха ей дали отвратительную характеристику, и даже на дипломе неожиданно воздалось сторицей: этот самый начальник попал к ней в рецензенты, перейдя в управление. И он помытарил ее с проектом, запомнив еще по практике. Хватило волнений и слез. Но хотя бы на защите ей было бесшабашно легко: рецензент, прискребаясь к каждой гайке и резьбе, в общем, помог ей, сам того не подозревая, и, несмотря на удовлетворительную рецензию, перед государственной комиссией у нее от зубов отскакивало. Слава богу, что другие рецензенты оказались людьми. Хотя и радости от этой пятерки тоже не было: слишком много треволнений она хлебнула и до, и после.
Были и еще мелкие упрямства. Когда она уже работала у Юдина, ей предложили уйти в НОТ, потому что одной из управленских удобнее было бы у Юдина. Юдин сказал: «Не соглашайтесь». Она не согласилась. Было криков, она написала заявление на увольнение и порвала и осталась у Юдина. Но и тут было не торжество идеи, а торжество Юдина, как догадалась она потом. Если бы он не стоял за ее спиной, а за Юдиным все, кто за ним стояли, она бы вылетела быстрей, чем пробка из бутылки, и даже никакой НОТ в ближайшем ей бы не светил. Инженеру-химику безумно трудно устроиться в их химическом городе: дипломов перепроизводство плюс постоянно заканчивают вечерники и заочники. Даже на место начальника смены или диспетчера ОТК она вряд ли могла рассчитывать. Но Юдину она была нужна и поэтому осталась... Ну а третьим ее упрямством была измена Глебу. По всему по этому Валерка совсем не знал ее, настоящую, и ее беззащитность выдумывал только для себя.
Хотя тоже — не так это было, не совсем так. Она часто ловила на себе его внимательный и осторожный изучающий взгляд. Валерка словно ждал от нее чего-то. И может быть, знал о ней гораздо больше, чем Нине Сергеевне казалось.
Неверно было бы думать, что их разрыв начался внезапно: любила, любила и разлюбила. Нет, не так сразу. И конечно же трудно ей было метаться между Валеркой и дочерью, и винила она себя за Валерку. Но тут еще одна деталь, которую придумала, вероятно, сама Нина Сергеевна. Валерка был женат и разошелся, у него был сын Илюшка; сын где-то рос, и Валерка его не видел. Однажды он показал фотографию: серьезный белобрысенький мальчик, никакого отношения, казалось, к Валерке не имеющий. Разве вот уши торчат, как у отца. На этом фамильное сходство и ограничивалось. Нина Сергеевна посмотрела и отдала — мальчик был ей решительно безразличен. Никакой вражды или ненависти тут не было. Это было то ровное, слегка даже умилительное чувство, которое она испытывала ко всем детям, кроме Марины. Это была даже нежность своего рода, но настолько отстраненная, и лишь через Марину, сквозь нее, как сквозь цветное стекло. Она понимала и переживала за этих малышей лишь потому, что у нее была дочь — не больше. Фотографию она посмотрела и отдала. Но вот испытанное безразличие почему-то изумило ее, даже оскорбило: ведь это же Валеркин сын, почему она ничего не чувствует?! Уж лучше бы ревновала его к сыну, гораздо лучше! Но она никогда не видела их вместе, не могла связать, соединить в своем воображении. Валерка и не заметил, на его взгляд, вроде бы так и надо: посмотрела, отдала, сказала: «Уши у вас похожи...» Валерка, кажется, гордился этой похожестью. Но зато она, неведомо почему, отстранила, отъединила, даже в какую-то враждебную позицию поставила мысленно Валерку по отношению к своей дочери. Словно это Валерка подержал фотографию Марины в руках и отдал ей с таким равнодушием. Для нее было совершенно очевидно, что ее дочь, ее дом, ее заботы — это ее, а не Валеркины. И только в таком ключе она ставила его на свое место: безразличного ко всему, что касается ее, личного... И была, конечно, неправа. Может быть, он и не мог переживать и болеть ее заботами о дочери и доме — естественно, не мог!— но, в общем, его очень живо интересовало, даже чересчур, . даже болезненно, чем она живет и занимается, уходя из его поля зрения: из той ровно точки «А», в которой он ее покидает, проводив из кинотеатра, из ресторана, из своей квартиры. Чем она занимается, свернув за угол девятиэтажки своего микрорайона, дойдя до подъезда, взбежав по лестнице, захлопнув английский замок квартиры. Дома У нее она категорически запретила бывать. Видимо, воображение рисовало ему фантастические и вовсе невероятные картины. Тем более остро его интересовала истина, он с болезненным пристрастием это выяснял и здесь мудрил, хитрил, ставил ей ловушки — и этим возмущал ее, что тоже естественно. Напуская равнодушный вид, он спрашивал, например, что она делала в пятницу, он ей на работу звонил и звонил... «Была конференция»,— кажется, вспоминала она. «А-а»,— говорил он. Он оставлял эту тему, они мило шли в кино, болтали... И вдруг среди ночи он спрашивал: «Так конференция была же в четверг, а что ты делала в пятницу?» Она взрывалась: о господи, откуда она помнит? Значит, с любовником была, он же это думает, ему лучше знать, он же привык за ней шпионить. И чем упорней он допытывался, тем упорней она старалась замкнуться. Даже из-за таких невинных вещей, как «ходила в больницу», «шила Марине платье», «ходила к нотариусу», у них вспыхивали ссоры, и она все больше раздражалась и отчуждалась. Ей казалось, это его абсолютно не касается, притом она ведь никогда не спрашивает, чем он занимался. Он тут же цеплялся за слово: пожалуйста, ему скрывать нечего, ездил к консультанту, а потом приятель зашел. И если, например, она просила его не звонить сегодня — много работы, он специально целый день обрывал телефон, так что начальство на нее косилось. Да господи, мало ли других глупостей, которые так отравляют жизнь? Например, она не любила бывать с Валеркой у его знакомых. Все эти славные, может быть, ребята ужасно действовали ей на нервы, просто убивали морально. Ей казалось, все они знают, что она любовница, и, сделав о ее нравственности определенные выводы, потому и держатся с ней так непринужденно, имея в виду, что все это с ней очень легко. Это ее ужасно оскорбляло, хотя правды в том, может, не было и на грош. И хотя оставаться с Валеркой с глазу на глаз становилось все утомительней (вечные подозрения и сцены), ходить по его знакомым было еще большей мукой. А он назло не понимал, не хотел понимать, считал, что это ее каприз, прихоть. Она срывалась и высказывала: их связь и так достаточно позорна и мучительна для нее, чтобы выставлять еще на всеобщее посмешище. «Ах, ты хочешь, чтобы я женился? Все вы...» Справедливости ради надо сказать, что этого она вовсе не хотела: она просто помыслить не могла Валерку своим мужем, в своем доме, вписать его в интерьер. И потом, у нее ведь Марина — ну, какой он отец? Но если бы он ей сделал подобное предложение, ей было бы приятно, это правда.
Этот трехступенчатый процесс, схема, по которой развивались их отношения, очень характерна. Ее прошлый опыт (то есть Глеб) составлял как бы определенную величину, к которой приравнивался Валерка, оси координат. В первой части муж проигрывал в сравнении с любовником, и Валеркины достоинства росли прямо пропорционально Глебовым недостаткам. Глеб тогда ей был ненавистен. Второй частью было неглупое познание, что идеальных людей, в общем-то, нет. Оказалось, при всей их несхожести Валерка был роковым образом похож на Глеба. В эту пору и освоила она, и вдохнула некий конкретный смысл в затертые слова: «Все вы одинаковы». («Кто мы, кто все?— бесился Валерка.— Сколько именно нас? Ты уточняй хотя бы!») И он был прав: обобщать лишь по двум частным явлениям просто глупо.
Ну, а в третьей фазе Валерка уже глупел на глазах. Копающий где-то шурфы Глеб уже подернулся романтической дымкой, и, открывая в Валерке все новые недостатки, она как бы для равновесия открывала забытые достоинства в муже. Все казалось теперь злым умыслом: оставались ли они дома или шли в ресторан (кстати, у Валерки почему-то сроду теперь не было денег, и, когда, расплачиваясь, он унизительно рылся в карманах и пересчитывал мелочь, она убить его была готова!). А когда деньги были, опять же зло подсчитывала про себя, куда бы эти деньги можно истратить, если бы не таскаться по ресторанам — у нее долг за квартиру, и Марине нужно новое пальто, и если уж на то пошло, у нее сапог приличных нету, хоть об этом Валерка мог бы подумать. Естественно, ничего этого вслух она не высказывала. Но поневоле все скапливалось, и чем больше она сдерживалась, считая эти мелочи несущественными, тем в более безобразную сцену выливалось у них после. Тут, не помня себя, она выкладывала ему все: и как он копейки в ресторане подсчитывал, и как ему плевать на все ее заботы, и про приличные сапоги вспоминала, и что цветов-то он ей больше не дарит. Валерка дар речи терял. А потом, собравшись с силами, выдавал ей: значит, ей деньги нужны, значит, его любовь ничего не значит — она эгоистка, дрянь, холодная и расчетливая, и если она может такое копить и молчать, то она и убить может, и предать, и что угодно.
И задушевные их ночные разговоры, казавшиеся ей раньше такой радостью и открытием, теперь, в основном, смешили и раздражали. Если раньше, когда Валерка в приливе откровения жаловался ей, что Иванов — дурак, а Петров — бездарь, она верила ему и жалела его, то теперь вовсе не Иванов с Петровым казались ей глупыми или бездарными, а сам Валерка. Даже так она про него думала: раз он говорит о людях дурное — значит, сам в первую очередь глуп и плох. То же было и с его работой. Раньше Валеркина работа казалась ей очень талантливой и нужной, и она гордилась им, но теперь, когда она все уже слышала наперечет, все знала, что он скажет, да и ничего нового или интересного он, естественно, не говорил, «го разговоры о работе вызывали лишь тяжелое чувство •скуки да необходимость как-то реагировать, выказывать заинтересованность — иначе Валерка бы разобиделся. Теперь ей казалось, что его лаки и краски — не бог весть какое событие для страны, тем более для человечества, л ничего бы не изменилось, не будь у него этой диссертации. Ей казалось бестактностью говорить с ней об этом, вынуждать ее лгать. Такие же мрачные мысли невольно предполагала она и в Валерке — о своей работе. Поэтому, когда он спрашивал, резко обрывала: работа как работа и нечего размазывать.
Хотя не так уж все голо и цинично. Был еще некий оттенок, причем весьма существенный, который мешал ей порвать с Валеркой и который путал иногда все до того, что •ей казалось, она любит Валерку: жалела она его больше, чем себя. Дело в том, что она как бы видела Валеркины поступки сквозь призму своих отношений к Глебу. Когда Валерка ее ревновал, она как бы заново понимала себя в отношениях с мужем — значит, и она так же глупо все выдумывала, как Валерка, и Глеба зря ревновала. Когда Валерка обижался на нее, она видела себя, обиженную Глебом. В такие минуты ей было мучительно жаль бедного Валерку, столь усердно городящего очевидную чушь. Ей даже хотелось одним махом преодолеть этот временный барьер и вывести их отношения в чистом виде, стройной и единственной формулой, как и должно быть в идеале между людьми. Она знала первопричину — так ей казалось. И словно бы снимала про себя все тридцать три Ва-леркиных шкуры, всю шелуху и муть подозрений и оскорблений, добираясь до голенькой Валеркиной правды, как до ядрышка. И он открывался ей весь: огромной своей нежной кожей, где любая точка — мишень; смертельной незащищенностью. Словно она только что родила Валерку и ей показали в роддоме — хлипкий, трепещущий комочек, ее сын. Невыносимо было это чувствовать. Но когда она, все это проделав без него, пыталась к нему, к такому, приласкаться,— видно, так нельзя было: такая в нем вдруг рождалась взрывная волна подозрительности и ненависти, что она тут же и отскакивала как ужаленная. И тогда уже: «Ну и пошел ты к черту, идиот ты этакий, надоело мне все до смерти!..»
Ведь и Валерка не был вовсе уж глух и ослеплен в своей неуверенности. Он сказал ей однажды очень примечательную фразу: «Господи, Нинка, мы оба такие дураки. Трудно же нам с тобой будет...» («Будет?»— удивилась она. «Быть» у них ничего больше не могло.)
ГЛАВА 22
С годами Нина Сергеевна сочинила этот роман по-новому. И в памяти, в бетонных казематах, куда упрятала она то, что ей хотелось упрятать,— в памяти стерлись какие-то оттенки, поступки, слова. Осталось: независимая молодая женщина уходит от мужа к любимому, но любимый, потеряв голову от любви, ведет себя как сатрап, и независимая женщина его бросает. В своей измене она не каялась, даже любила козырнуть перед мужем как неким подвигом, и сколь ни смешна эта гордость — она гордилась. Мол, такая вот уж я и есть, чуть кто на меня наступит, я в обиду себя не дам — уйду, свободная и гордая. Какой уж там бунт, какое там бесстрашие! Эти жиденькие всплески независимости и в юности были редки, а с годами она становилась все испуганней. Ей казалось, она так все пережила, так все поняла, что должна ценить и немногое, не ставя на карту и не рискуя. Да и в чем она бунтовала? Ведь срывалась она, как правило, на какой-нибудь пустейшей чепухе, которая и выеденного яйца не стоила, а просто падала очередной каплей, а Нина Сергеевна вдруг цеплялась за этот пустяк, как за последнюю ставку жизни и глупо отвоевывала какой-нибудь мизер из мизеров, как свое человеческое и гражданское право. Чтобы, вылившись, выдавшись, иссякнув на этой ерунде, удовлетворить свои позывы к самостоятельности и тупо предоставиться остальной навалившейся жизни. Подлость она могла стерпеть, но от какой-нибудь фразы, прозвучавшей неловко в устах подлеца, с которым ведь пила же и ела за одним столом, не сомневаясь, что он подлец,— но от фразы приходила в неистовство, убиваясь и ломая копья из-за неточности сказанного, а не из-за того, что сказавший — подлец. В прошлом году ведь сделала же она это, на что сейчас намекает Каурцева в своих сплетнях, и страх жизни оказался сильнее всех принципов. Вот же был случай, и, наверно, последний,— оказаться собой, выскочить из мерки, поступить не так, как «каждый бы на вашем месте».
Теперь так же страшно вспомнить, как весь этот ужас с Мариной, с угрозыском. Все дело в том, что она не на своем месте. Это место ее предшественника, он мог все, она — ничего. Хотя бы то, что важность их работы как-то уменьшилась в три года: «представители» и журналисты не ходят, а при старом начальнике постоянно толклись; директор не может выделить средства на ремонт, на новое оборудование, хозяйственники жмутся из-за каждого литра реактивов на складе — да что там!— на новую пишущую машинку не могут найти средств — лаборатории, дескать, ни к чему, надо работать, а не бумажки печатать. То, что они получают из оборудования, заказано еще при Юдине, новый начальник на их лабораторию смотрит сквозь пальцы. И весь этот кошмар с новой установкой. Даже вспомнить немыслимо, только так, отрывочно, кое-какие фрагментики. Например, о том, как в управлении удачно подвернулась машина, ехали газоспасатели с дихлорэтана, а Сарубаев, который тоже ехал в город, вдруг разулыбался в фойе, под локоток взял галантно: вам, дескать, обещают штатную единицу, теперь уже совершенно законно. Хотя какое ему, юристу, до этого дело и откуда вдруг такое участие? «Такелажник четвертого разряда, вас это устраивает?» — в таком духе. И даже позволил себе сострить про «боевое крещение» и что «все мы под одним богом ходим»... Нина Сергеевна прямо остолбенела тогда — как ловко они ее «простили»! И вот ведь щедрость административная: штатная единица даже такелажника (почему бы не слесаря, например?). Одна только загвоздочка: какой это спятивший кретин пойдет к ним ворочать за сто сорок рублей по четвертому разряду? Горячей сетки ведь у них нет. Инвалид или пенсионер отпадает, нужен здоровый мужик с хорошими руками слесаря, а такого черствым калачом не заманишь. Конечно, они могут принять «ребенка», вроде как Марину устраивали после школы, но «ребенок», грезя поступлением в институт или армией,— это не работник, а балласт там, где нужно вкалывать. Опытная установка, на которую они грозились устроить такелажника (почему бы не оператора? ведь даже разнарядки такой нет), и так всем поперек горла, если бы просто, а не упираться, не ворочать, справились бы собственными силами: лишних кадров в лаборатории хватает. Но ведь бабы, а там нужны именно мужские руки — руки слесаря, наладчика, такелажника — кого угодно... И даже не эти соображения, а Сарубаев удивил: бодрый басок, добрый дядюшка, и сам себе, кажется, верил. Словно не он целую неделю разорялся пуще всех, а накануне, у директора... Быстро же они ее «простили», едва только деньги в кассу внесла, и вот уже Сарубаев в фойе здоровается, игривые комплиментики говорит. И она словно рада, что под ручку берут, что «дядя не сердится».
Но это только в фойе, пока пообщались с Сарубаевым, а потом, в машине, как отрубило: наконец-то все, по крайней мере, больше не думать. И хорошо, что сегодня уже кончилось, а то бы еще два дня, неделя, месяц, полгода — легче с ума сойти. Сарубаевское дело служивое, он защищает интересы предприятия, как всякий юрист на предприятии. Но ведь знал же он правду, когда пугал судом, что не одна она в этом виновата, в нарушении финансовой дисциплины, да и здесь десятая спица в колеснице: есть отдел кадров, есть отдел труда и заработной платы, есть бухгалтерия, есть Аверьев, есть директор, наконец... Сарубаеву ли не знать, какие вещи творились и творятся «сподтишка», и несчастные эти восемьсот шестьдесят два рубля, одна копейка, которые она внесла в кассу, как козел отпущения, и заплаченные, кстати, человеку за труд, за выполненное количество работ — капля в море для предприятия, оперирующего миллионами рублей. В лаборатории в тот день, когда она вернулась из управления, удивились, что она веселая, думали: директор все-таки принял. А она не веселая была — просто выпотрошенная и поэтому свободная. И денег сгоряча было не жалко: наплевать, они на юг были отложены, на отпуск, не такая уж насущная необходимость. Смущало другое: что она так глупо с ними рассталась, так, ни за что. Вот уж Юдин посмеялся бы, узнав про ее административные подвиги. Сотрудницы возмущались, жалели, строили планы, как эти деньги вернуть: можно и в суд подать, чего теперь бояться? Так она же — сама отдала, по собственной воле. Зато под впечатлением жалости к своей начальнице никто не мог работать до конца рабочего дня — так все были расстроены. С тем же сладким настроением жалости кто-то из лаборанток предложил сбегать в гастроном на углу, там привезли копченую колбасу. Она настолько сломалась, что сдалась, и лаборантки отсутствовали час, зато пришли навьюченные.
Глеб вечером тоже удивился ее сумкам и настроению. Будто пир горой собралась она закатить, и даже марочное горлышко торчало из колбасных колец в разудалом соседстве со скрюченными куриными лапками и консервными банками. Он принимал сумки и стоял онемев, пока она раздевалась,— ждал подробностей столь счастливого исхода. Как будто не знал ее! Это ожидание в его глазах, беззащитная улыбка. То ли надеялся на манну с неба, то ли что директор, утирая слезы (свои или ее?) платком, подписал щедрою рукою резолюцию: оставить безвинного человека в покое. Было жаль Глеба. Если не сразу, то через час он обязательно разозлится и будет кричать, что она тюха и мокрая курица, что так и надо с такими дурами, что если бы он был на ее месте... Все, что он скажет, было известно наперед и поэтому скучно. Ничего бы он не сделал ни на чьем месте, он «делец» еще меньше, чем она, только на словах с женой смелый. И хотя он сразу не верил и накаркал этот исход еще две недели назад, сейчас будет снова пилить ее и обучать изворотливости. Нина Сергеевна меняла туфли, переодевалась, мыла руки, а Глеб нелепо стоял с сумками над ее душой, пока она не догадалась взять и не унесла их в кухню. Глеб поплелся за ней.
— И все же чем кончилось?— спросил Глеб.— Принял тебя директор?
— Ничем,— Нина Сергеевна глупо улыбнулась,— сдала деньги в кассу, и все.
— На удивление, Глеб не закричал, а только вяло пожал плечами: он так и знал, оказывается.
— Но ты его видела?
— Нет, я же говорю, не принял. Позвонила Ира... («Какая еще Ира?» — голосом прокурора спросил Глеб.) О, господи, какое имеет значение? Его секретарша, ты уже в сотый раз спрашиваешь. Говорит, он даже рассердился, что мы лезем опять. Я уже все ей сказал, пусть только внесет деньги. Говорит, кто-то ее там путает.
Эти прилежные подробности и взбесили Глеба.
— Путает!— заорал и забегал он.— Потому что незачем было отдавать, незачем, даже Аверьев тебе сказал. А Кеша? Ведь он же по пальцам растолковал, что ваш Сарубаев врет, что они не имеют ни малейших оснований. А теперь тоже подумают, что тут нечисто и ты сама брала. Ну кто поверит, что по своей воле, за здорово живешь, человек выкладывает тысячу да еще пятки им лижет, что пожалели?
Что-то он еще кричал и обличал, она тоже кричала, оправдывалась — этот бы пыл да с ними, а не с Глебом, не после драки.
— Как ты думаешь,— спросил Глеб про директора,— он поверил, что ты брала деньги?
— Не знаю. Кажется, нет. Не дураки же, знают, как делается. Да и потом, к Аверьеву бабы ходили, я даже удивилась, что стали защищать. Да Аверьев и сразу знал, с его же согласия... В объяснительной записке все как есть, и Коля подтвердил, даром же никто работать не будет. Слушай, а как он над Ехименко в лицо издевался! Говорит: вы сами себе написали заявление на увольнение, я, говорит, вот сейчас подпишу и отдам в отдел кадров.
— Странно, но почему он тебя не принял?
Это был риторический вопрос, и она промолчала. Странно было как раз не это, а что с утра они еще надеялись, что как-то изменится.
Если бы она была как Юдин или ее предшественник или хотя бы поопытнее в административных тяжбах, если бы сразу пошла к директору, а не дождалась, пока они начнут себя выгораживать, если бы доверенность не была просрочена и если бы Горич в позапрошлом году... В действительности ведь он как начальник ОТЗ и посоветовал: пока нет штатной единицы, проведите потихоньку кого-нибудь по совместительству, а доверенность перепишите на Колю, и пусть работает. Разумеется, такой «совет» не мог быть дан официально, и тем более начальником ОТЗ, ибо это было грубейшее нарушение финансовой дисциплины, и будь это отражено в документах — Горича не только бы сняли с работы, но и отдали под суд. Нет, это было сказано как бы в «шутку», прозрачный намек, который может быть истолкован только сообразительным человеком, и Нина Сергеевна почувствовала себя польщенной начальственным доверием: в ее «сообразительность», в которой было уже начали сомневаться с началом пуска установки, как бы снова поверили. И вот она этот благородный прозрачный намек столь же благородно, взяв всю не исключенную в будущем ответственность на себя, воплотила в дела: с помощью материально заинтересованного в своем личном энтузиазме Коли установка и впрямь заработала. Коля, хитроватый жадненький мужик, но с золотыми руками, проведен у них лаборантом и нужен в самой лаборатории для слесарных работ. Без Коли не обойтись, потому что их остальные «творческие» мужчины не сумеют наладить и штатива.
Коля единственный у них, кто может работать руками. А тогда мучились с новой установкой, и девчонки были беспомощны что-либо сделать. Штатную единицу обещали, но это когда еще. Аверьев грозился написать докладную директору, злой еще на Юдина за их личные счеты, а Нина Сергеевна ходила в начальниках первый год. Оформили на полставки, пока нет штатной единицы, фиктивное лицо, работал все тот же Коля. Все знали, что это незаконно, но теперь слова Горича или Аверьева к делу не пришьешь, почти год Нина Сергеевна табелировала «мертвую душу». Сначала, когда ей преподнесли счет в бухгалтерии, она не поверила, решила, что шутят. Шутка ли сказать, тысяча рублей! Конечно, она знала, что незаконно, но ведь делают, Юдин и не то еще делал. Спасибо, что к просроченной доверенности придрались, а если бы года через два-три... Набежали бы тысячи и тысячи с тех семидесяти, что платили Коле на полставке. И всё не верилось. Потом главный бухгалтер пристращал, что дело подсудное, она, как растратчик государственных денег... Да ведь не себе же в карман она их складывала! Но выходило, что виновата она, кто-то шепнул директору, мол, деньги делили поровну. Но ведь и Коля не дурак, чтобы работать задаром, ведь даже модель этого несчастного «кипящего слоя»: надо было и конус сварить, а поднимать эту махину как — не руками же? А Коля крепление сделал, балочку, тросик приспособил. Собственно, этот Коля был нужнее трех инженеров в лаборатории. Директор вызвал Сарубаева, велел разобраться юристу. Она поверила, что будет суд, испугалась ужасно: она бы и три тысячи заплатила безропотно. Умные люди советовали отдать и не связываться, еще более умные советовали обратиться к городскому юристу. Нашелся и юрист, объяснил, в чем она виновата: имели право наказать административно за нарушение финансовой дисциплины — больше чем увольнение с работы или снимут три оклада ей не грозит, материальной заинтересованности не было. Деньги ни в коем случае не вносить, сказал юрист, отдать — значит признать свою вину. Но она уже согласилась! И тут, как назло, собрание у директора, высказывались все, от главбуха до начальника ОТЗ, ей только дали последнее слово, как обвиняемой. Директор сказал: внесите деньги в кассу, и мы это дело замнем. Передавать в суд ему не хотелось. И опять колебания: отдать — не отдать? Если юридически, по закону — то не отдавать, это ясно. Аверьев после собрания сказал: иди к директору, падай в ноги, твой последний шанс. Но почему же он молчал на собрании? А фактически как в той самой сказке: налево пойдешь — головы не снесешь, направо пойдешь — живой не будешь. Потому что по суду хоть и смогут наказать только административно, но ее после этого проглотят, сживут, и в итоге останется только честное имя с подпорченной характеристикой. И вымотают все нервы, потому что когда в суд подает предприятие... Если отдать деньги — на работе оставят, дело замнут. Но как жить после этого? Не в деньгах дело, хотя тысяча — это не сто рублей, на дороге и не найдешь. Как жить с сознанием, что тебя считают воровкой? Ведь приказ размножат, разошлют по отделениям, и никакими силами не избежать слушков, что поползут: мол, не зря выложила тысячу, значит, было за что. Занималась тем же, что главбух, когда его таскали за ремонт собственной квартиры за счет предприятия, или прежний начальник ОТЗ с его махинациями. А мы-де оказались неопытные мошенники, вот и влипли. Но колебаться колебалась, а деньги все-таки собрала. С книжки сняли все, что было, и еще занимали у свекрови, у знакомых. Не верила, что отдаст, а утром уже везла их с собой. Все утро на работе плакала, пила валерьянку и совсем издергалась. Ждала звонка от секретарши, что скажет директор. Директор отказался принять...
Но ведь этого и следовало ожидать: она знала характер директора, знала, что решений своих он не меняет. Замечательная черта в руководителе, не то что Нина Сергеевна в отношениях с подчиненными: когда знает, что нельзя попускаться, а все-таки попустится, уговорят. Стыдно отказать в глаза человеку. И сначала как тяжесть с души — значит, дойдет до суда, значит, борьба в открытую. Предприятие подаст иск, если решится, потреплют не одну ее. Ведь сваливать на одну — детский лепет: принимало-то предприятие, отдел кадров. Бухгалтерия выплачивала целый год деньги. Поднимут заявление о приеме, поднимут бумаги, Коля подтвердит, что платили ему. Но... Только представить всерьез, что завтра же начнется. Всех сотрудников лаборатории будут таскать, и с какой стати каждый скажет правду, а не то, что ему пригрезится со страху? Одно только слово — милиция — гипнотизирует неискушенных людей настолько, что и в самых невинных поступках начинает мерещиться уголовщина. Каждый день хронометражи будут снимать, это уж точно. Что она выгадает? Даже если по суду: снимут три оклада за нарушение финансовой дисциплины (она-то налицо) — это шестьсот рублей, плюс снимут тринадцатую, премиальные. Конечно, все-таки не тысяча, как теперь. Зато уж выживут, точно. Такая вдруг вялость и бессилие: не выдержит она этого, уж скорей бы... И все, все умные люди: сперва «не отдавай, ты с ума сошла, они права не имеют», и как узнали, что сказал директор, только плечами пожимают: «Значит, придется отдать, раз сказал». Только псих или очень уж смелый человек решился бы. Марина, соплюха, и то сказала снисходительно, будто ребенку объясняет, а не матери: «Правильно, что отдала, что бы ты одна сделала?..» И приказ на себя читала — замяли по-божески, ни о чем ни слова. Но слухи, конечно, поползли, поговаривали: брала, мол, деньги, просто так бы не отдала... Логично. А мысленно не могла, все доказывала себе, негодовала: ну, а вот если отдала, если дешевле было отдать?! Если она бездарна в жизни, где без тяжб и компромиссов не обойтись?! Бездарна, и легче было отдать. Правда, отбило охоту к работе, и надолго: «как другие» она не умеет, значит, надо «никак» — есть и такая форма работы. Но и эти обиженные формулировки имели оттенок огульного прагматизма типа: «я с вами не играю» и «пусть вам будет хуже» — и были продолжением изнурительно-бесполезного диалога с собственной совестью. А еще Юдин как-то встретил на улице, возмущался: «Что же это вы, Нина Сергеевна, ведь по-детски, честное слово...»
Гибкости в ней не было, что ли? Ей легче было сосчитать площадь активности в грануле, изотерму режима, изменить форму колпачков на тарелках распылителя, чем руководить коллективом, людьми. Во время авралов она могла работать как лошадь, но по будням... По будням приходилось заниматься такой вот чепухой, клянчить машину, рабочих, инженеров, приборы, составлять бумажки, накладные, отчеты, доклады, писать объяснительные, требования, заявки, расписки, отписки. Другие смешком, накоротке: «Ну, как ты там, жив, старый разбойник? Говорят, на субботу опять гудел? Уж не прибедняйся, мы ведь и сами... Да, антенну тебе сварил, можешь забрать... Да что ты говоришь, та самая блондинка? Серьезно? Вот что, старый, машину бы мне... Да перевезти тут кое-что. Ну-ну, усек. Отрапортую... Значит, с машиной все в порядке? Одолжишь, дед. Ну, бывай...» А она умела только клянчить, униженно топчась у чужих столиков, извинительно просить, терпеливо не уходить, стыдливо извиняться — будто лично для себя просит, будто ее работа и подчиненные — это ее такое сугубо личное дело. А для себя — вообще не умела просить, ни о чем. Титанические, атлантовые, сизифовы смехотворные труды по добыванию грузовиков, пробирок, ниток, спичек. Выходило, что легче питаться воздухом, быть тенью, исчезнуть, умереть. И не она одна — добрая часть человечества точно так же мучилась не тем, так другим. Но — во имя чего? Ради чего эти бесславные подвиги, героизм авралов и нарушений техники безопасности? Допустим бы, в свете великих катастроф, но в обычной-то, нормальной, благополучной, будничной нашей жизни?
Мелодичный, красивый звон вывел Нину Сергеевну из оцепенения: настенные часы били половину пятого. Рабочий день сегодня так или иначе кончался, и Нина Сергеевна собиралась домой. Она пошла вымыть руки и привести себя в порядок — Лерочкино зеркало в уютном закутке за стеллажами все равно занято лаборантками. Она мыла руки и отчужденно разглядывала себя в зеркале над раковиной: худое, непривычно голое лицо с тяжелой отечностью под глазами, с бледной пористой кожей — лицо ее собственное. «Это потому что опустилась, не крашусь»,— равнодушно подумала Нина Сергеевна. По коридору шли чьи-то каблучки, направлялись к туалету.
— Нина? Что ты тут делаешь? — изумленный, испуганный Светкин голос.— Господи, что ты задумала?
— Я?..— Нина Сергеевна пристыженно обернулась.— Да ничего я не делаю, мою руки, как видишь,— только сейчас она сообразила, что Светка опять ее называет по имени — в кои-то годы!— А что случилось?
— Ничего... Я думала, что ты,— Светкино лицо горело пунцовыми пятнами,— ну, тогда слава богу!
— А что случилось? — повторила Нина Сергеевна.
— Да ничего!— с облегчением засмеялась Светка.— Так, знаешь, войдет в голову.
Нездоровые пятна таяли, уходили со Светкиных щек, открывая какое-то новое лицо, печальное и серьезное. Это уже четвертая или пятая Светка за день.
— Нина, ты прости,— серьезно и тихо говорила Светка,— я не знала, что у вас с Маринкой. Правда. Мне Яна сейчас сказала по телефону, а так откуда же... Ну, мы видели, конечно, что ты не в себе.
Нина Сергеевна словно бы не совсем понимала — зачем это она, о чем? А Светка говорила и говорила — что-то жалкое, искреннее, излишнее... «Ах, да... она о Марине... Сочувствует,— как о чем-то чужом догадалась Нина Сергеевна.— Так чего же она хочет-то от меня?..» Эта тяжелая, неповоротливая мысль качнулась в голове и там застряла, остановилась. Нина Сергеевна тупо, с каким-то почти испугом глядела на Светку и чувствовала, что Светка сейчас ждет от нее — не то чтобы даже ждет — но она, Нина Сергеевна, на своем месте как бы должна что-то сделать ответное — заговорить, что ли, заплакать ли,— в общем, проявить себя в своем горе, что ли... Она же испытывала нечто совершенно другое: как бы неловкость перед Светкой за ее излияния. Потому что — за что же ее жалеть?— вдруг догадалась о себе Нина Сергеевна. И гнетущая тоска отчуждения была в этом внезапном открытии: выходит, ей легче было злиться на Светку, на всех их, подозревая и обвиняя в самом дурном, чем принять от них простое участие — она не готова к нему, она не имеет на него права. Тяжело и стыдно ей было сейчас, словно она обманула их всех, сыграв на их человеческих чувствах, и только мрачное ощущение одиночества все росло, усиливалось, разделяя пропасть между нею и Светкой.
—...ты знаешь, может, если что-то понадобится,— виновато, с надеждой не говорила, а почти умоляла ее Светка,— ты же знаешь, я всегда...
Нина Сергеевна неловко молчала. Чем Светка могла бы ей помочь? Чувство было единственное: уйти, поскорее избавиться от Светки — постыдное, конечно, чувство, но что поделаешь.
Хотя вот что пробрезжило, чтобы тут же и погаснуть в душе,— непонятное и неподвластное, как видение.
...Солнечный день, больничная палата и цветы на тумбочке — розы. Их было три, из соседних палат приходили любоваться на них, нюхать... А в тот ранний час Нина Сергеевна лежала, все еще невесомая и незнакомая для себя, и ждала с радостным страхом, когда ей принесут Марину на первое кормление. Пришла сестра и вместе с дочерью принесла цветы, держала их неловко, под мышкой, а в цветах записка от группы, порхающий Светкин почерк: «Ты молодчина, Нинка, мы все сегодня пьем за твое здоровье и твою дочь, держи хвост морковкой и не роняй звание первой матери в группе технологов...» — в общем, какая-то студенческая чушь, нелепая и восторженная...
Это
было восемнадцать лет тому назад, но
было ли это когда-нибудь?
ГЛАВА 23
Пудреницы, расчески, пластмассовые и металлические тюбики с губной помадой прячутся в сумочки. Щелкают замки. Ступни, миниатюрные и широкие, переобуваются из туфель-лодочек в сапоги всех фасонов. У некоторых унты — кустарная работа, модницы со вкусом никогда их не носят. По-настоящему красивые унты можно увидеть разве что на выставках народного искусства. Да и неудобно в них, в унтах; сапоги гораздо практичнее, если бы замки не летели. Дамы в соболях и в цигейковых шубах, девочки в тулупчиках. Но вот наконец все мелкие хищники, легкое русское золото, которому цены нет за границей, которое должно быть отправлено за границу в обмен на их синтетику и приборы, но осело на головах и плечах уважаемых и уважающих себя женщин,— наконец все мертвые зверушки надеты и нахлобучены, застегнуты на крючки; замолкает щебет, восклицания; прощания тают, как вздох. Ноги, ножки, ножищи дробят в коридоре и по лестнице; и в помещении только слабый запах духов, более стойкий, чем запах реактивов.
Нина Сергеевна выходит на улицу. Озабоченная толпа бежит по снегу в обе стороны, неоновый свет сумерек. Настоящие хозяйки купили все, что им нужно, в рабочее время, недотепы же толкутся и бранятся в бакалейных и гастрономических очередях, глядеть на них сквозь витрины тоскливо. Нина Сергеевна с потусторонним облегчением вспоминает, что ничего ей не нужно в этой жизни, кроме вот этого вонючего бензинного воздуха, зимой им дышать тяжелее, чем летом. Спасибо, хоть не надоумились продавать чистый кислород, как это делают в Токио или в Нью-Йорке на перекрестках, иначе ей пришлось бы умереть от удушья: в очередь она бы все равно не встала... Это ангельское парение без забот по проспекту, минуя все очереди, все нехитрые искусы современного бытия, мимо хрустального дворца с тропическими растениями, их гордости — их нового Дворца культуры. В хрустальном кубке Дворца, среди тропических растений, плавали люди-рыбы, трепеща от своей причастности к культуре, от избранности, от посвященности в тайны проникновения в кабинет директора и в оба бара, и даже в банкетный зал, в котором отмечаются лишь особые торжества. В концертном зале гастролировал сегодня вокально-инструментальный ансамбль, лауреат всесоюзного конкурса песни и танца... Осиянная Дворцом площадь втекала, сужаясь, в крошечную авеню, детские блики реклам дробились о кафельные лица мозаик на стенах. Лучшая из мозаик изображала рабочего человека, по пояс голого, который сидел на фоне звезд и ракет, а урбанистический пейзаж с заводами и фабриками расстилался у его ног. Рабочий человек был сложен, как лисипповский Гермес, и в позе отдыхающего Гермеса уронил свои молодые руки над заводами и фабриками. Из соображений целомудрия и современности художник нарядил этого юного Гермеса в джинсы и грубые ботинки и лишил прохожих возможности любоваться великолепным бедром и голенью юного Гермеса, его скульптурной стопой, его юношеским пупком, но оставил во всей красе лишь расслабленные плечи и молодую грудь. На стене противоположного дома отдыхал в той же позе кафельный двойник юного Гермеса, но постарше и погрубее, свои отдыхающие руки он уронил, отклоняясь от классики, между колен, ибо кисти рук были закованы в кандалы: вокруг обессилевшего, закованного и бородатого Гермеса простирались безотрадные рудники дореволюционной Сибири. Взгляд его выражал безнадежность, да и небо по замыслу художника было без звезд: закованный человек олицетворял страдания декабристов в Сибири... На стенах следующих зданий, к этому же декабристу приезжала жена; а еще дальше развертывались мифологические картины истории: рабочие и крестьяне голубыми глазами поднимали яростные кулаки восстаний; зеленые солдаты побеждали в багровой Отечественной войне; восстанавливалась разруха... Космонавт стоял, простирая руку к дальним галактикам, молодая женщина с мощными бедрами махала майскими цветами. Физик-атомщик в белом халате упирался головой в небеса с ракетами, и чахлая головка в небесах с недоумением взирала на остальную, огромную и рельефную, плоть...
И под этими наивными панно народных умельцев, художников-самоучек, которых нашел и сколотил в творческий коллектив их щедрый директор, выдавая им зарплату слесарей и газосварщиков, под этими красочными картинами, сотворенными из битой кафельной плитки (разумное использование строительных отходов), в свете наивных неоновых реклам (одна из них мигала, призывая охранять зеленые насаждения, другая — пить томатные и другие соки), мимо разноцветных окон магазинов бежали и бежали в обе стороны люди. Бежали с азартом и целеустремленностью, жизнерадостно, можно сказать, бежали, но оттого, что одни бежали — туда, а другие — обратно, бежали не иссякая и, казалось, не прибегали никогда, постороннему наблюдателю, если бы он догадался их наблюдать, могла померещиться какая-то абсурдность: хаотичность, слепое броуновское движение, которое мы изучали в школе. Хотя их маршрут для растворенного в толпе был очевиден: те, что работали здесь, бежали теперь к трамваю, а те, что работали в городе, приезжали на трамвае и бежали сюда. Может, и был некто, кто парил над толпой, режиссер, который снимал их сейчас для будущих поколений... А на самом деле никому ни до кого не было дела, и этот всеобщий бег каждый совершал в одиночку, стремясь только к трамваю, только домой, только вкусить маленькие вечерние радости усталых людей. Из окон домов играла музыка, младшее поколение уже успело включить свои магнитофоны. В раздутых сумках матрон лежали драгоценные источники энергии, запасы калорий, полезные белки и жиры, которые им удалось выстоять, купить, получить из рук продавщиц. Продавщицы пойдут по этой улице позже, унося более ценные и доброкачественные калории своим детям и мужьям... Нина Сергеевна не участвовала в этом беге. И оттого, что она бежала не в ногу с ними — бежать ей было некуда: дома был вакуум неизвестности и Маринины вещи в шкафу, оттого, что она сбилась с ритма, потеряла их пульс — толпа ее незаметно для себя толкала, отшвыривала, как помеху, и снова билась о ее бока, закручиваясь водоворотиком. И от этого становилось еще холоднее, отъединеннее и безнадежнее.
Так она шла или не шла, глядя под ноги или не глядя, но неожиданно оказалась уже в трамвае, с пробитым абонементом в руке: трамвай вез ее через лес, мимо новостроек и старого кладбища. И хотя в ее рассеянном, тревожном, отчужденном от жизни состоянии не на что, казалось бы, обижаться или досадовать, Нина Сергеевна вдруг совершенно мелко и буднично задосадовала: отчего же это она пропустила служебный автобус, зачем поперлась на трамвай? Ведь была бы уже дома. Да и ехала бы не стоя, как сейчас, а сидела бы на сиденье. Столь нелепый повод для недовольства, однако, вернул ее как бы к действительности, это было облегчение своего рода — отвлечься от тяжелых и неопределенных ощущений, сосредоточиться на чем попроще, более доступном. Для часа пик было просторно в трамвае, хотя все места, конечно, заняты. Рассеянное внимание Нины Сергеевны привлекла группа молодежи, студенты или молодые рабочие: прекрасные, здоровые лица, выражение счастья и довольства жизнью. Хорош был высокий парень с несколько дерзкими монгольскими глазами, прелестна его стройная светленькая девушка. Физически радостно было смотреть на них и не думать дурного. Компания, досмеиваясь, шумно направлялась к выходу. «Марина, где ты там?»— позвал свою спутницу высокий.
Нина Сергеевна вздрогнула. Застигнуто озиралась, словно кого-то ища. Кого, впрочем? Внезапно, пронзительно в своей непомерности Нине Сергеевне представилось то, что обрушилось на их семью полмесяца назад. Словно впервые за все дни она осознала то, что случилось. И тут же она суеверно шарахнулась от этого представления — слишком непосильным оно было, как непосильно для человека сознание бедствия или смерти. Это огромное было так огромно и страшно, что она тут же ушла от него, обманув себя изверившейся надеждой: сейчас она придет, а Марина уже дома, все по-старому, все обошлось. Она боялась верить этому, запрещала себе надеяться, чтобы не спугнуть,— и тем жарче крепла в ней вера, почти убежденность, что Марина, конечно, дома.
И она шла, спешила с трамвая, почти бежала домой, задыхаясь от страха и невозможности, от отчаяния своей нелепой надежды.
Открыл ей муж. Марины, конечно, не было. Лялька только что кончила учить уроки и просила проверить.
— А отец на что?— раздражалась Нина Сергеевна.— Неужели ты не мог проверить?— спрашивала она у мужа.
Однако постепенно смирялась, почти умиротворялась, через силу начинала слушать Ляльку:
... И превратились лужицы
в прозрачное стекло.
В саду, где пели зяблики,
сегодня посмотри:
как розовые яблоки,
на ветках снегири...—
читала Лялька звонким, пионерским, старательным голосом отличницы, и это было так далеко и несбыточно: мирная картина, где сад, и снегири, и порхает, кружится первый снежок. На улице действительно была зима и шел снег, но Нина Сергеевна не помнила и не видела ни зимы, ни снега, а лишь растрогалась невинностью дочери: Лялька читала так, будто и впрямь верила в существование подобной картины...
Пили чай семейством, Глеб повторял события дня: пустая поездка в угрозыск, Лялькины школьные дела, жалобы на мать, у которой он сегодня был и успел поссориться. Мать просила что-то перетащить или прибить, а Глеб не прибил, вдобавок мать сказала, что у сына растет живот, меньше надо есть сладкого и мучного. Детские обиды и жалобы Глеба на мать вызывали всегдашнее, трогательное и признательное чувство: что ночная кукушка дневную перекукует, что давно она победила в войне со свекровью и Глебу она ближе, чем мать, что мужа она знает больше и невыдуманней и что Глеб, жалуясь на мать, ищет защиты у жены. И хотя заслуги Нины Сергеевны в том не было, потому что еще в писании муж должен прилепиться к жене своей, но жалобы Глеба на мать всегда ее размягчали до снисходительной любви к Анне Георгиевне, с которой они давно жили мирно, давно друг другу в чем-то уступив. Теперь это была симпатия женщины к женщине. Нина Сергеевна знала достоверно, что свекровь, например, не хотела бы их развода и постаралась всеми силами его предотвратить, что, потеряв так и эдак сына, она постаралась выискать достоинства в его жене. Теперь у них со свекровью было гораздо больше общего: во взглядах на хозяйство, на воспитание детей, на любовь обеих к Глебу. Поэтому, спокойно выслушав жалобы Глеба, Нина Сергеевна снисходительно сказала, что он не прав, а права его мать, что нужно было прибить или перетащить, о чем просила Анна Георгиевна. Но сказано это было ласковым тоном, и муж успокоился, понимая, что жена на его стороне, хотя и защищает мать. Таковы были уступки женщины женщине, победительницы побежденной: в распрях матери и сына держать сторону матери, в присутствии свекрови никогда не ссориться с мужем, а наоборот — выказывать наибольшую нежность, заботливость и покладистость. В присутствии свекрови Нина Сергеевна никогда не огрызалась даже на Глебовы крики и оскорбления, позволяя себе лишь смущение и виноватость, а роль мирового судьи, а также начальника над сыном предоставляя свекрови: свекровь, польщенная безропотностью невестки, начинала невестку защищать, а на сына ругаться. Нина Сергеевна старалась советоваться со свекровью в хозяйственных делах, в выборе обновки для Глеба. Иногда она следовала этим советам, оставляя Анне Георгиевне право на иллюзию, что сыном все еще распоряжается она.
Лялька закончила пить чай и ушла смотреть телевизор: передавали фигурное катание, к которому она относилась ревниво. А их, Нину Сергеевну и Глеба, отца и мать, ожидало отчаяние и неизбежность говорить о Марине — так было каждый вечер, и, условившись молчать, они рано или поздно начинали об этом. И нельзя было предотвратить...
— Как ты думаешь?— не выдержала первая Нина Сергеевна.— А Фомин сам-то верит в то, что говорит?
Глеб нахмурился: мол, договорились же, что травить себя без толку.
— Не знаю,— неохотно ответил он,— я же говорил только что: он говорит, на преступление вроде не похоже, хотя зарекаться, конечно, нельзя. Может, она уехала куда-нибудь.
— Да куда она могла уехать?— готовно подхватила Нина Сергеевна.— Ну сам подумай: похоже это на нее? И все документы дома. Нет, как хочешь, а Фомин, мне кажется, что-то темнит: просто неохота ему заниматься, вот и отсылает нас. Как ты думаешь, может, опять обратиться к прокурору?
Глеб вяло пожал плечами.
— Как хочешь. И вообще!— вдруг вспыхнул и разобиделся он.— Поезжай тогда сама в следующий раз, если не веришь!
Нет, эта Глебова манера все-таки была уникальна: во всех случаях жизни видеть в центре событий только себя, быть озабоченным собой и умудряться обижаться на какую-то чушь, вместо того чтобы думать о главном.
— Но ведь надо же что-то делать,— устало сказала Нина Сергеевна.
Она понимала, что муж, может, в чем-то и прав, частично прав (не будет же прокурор сам искать Марину!), но раздражало Глебово смирение и какое-то легкомыслие, что ли...
В Нину Сергеевну опять вселялось странное и тягостное ощущение. Ничего этого нет, все только декорация, реквизит: младшая дочь у телевизора с кошкой на коленях, светлые волосенки, разделенные на пробор, и выражение глаз, унаследованное от Глеба — лукавое и доверчивое и печальное под лукавой наивностью. Эту печаль придавали чуть опущенные уголки, как у трагической маски. Ничего этого нет: нет кухни с гудящим холодильником, нет Глеба с более холодным и циничным выражением Лялькиной лукавой доверчивости, нет памяти об этих молодых глазах, о светлых кудрях, когда-то существовавших; нет дома, нет города... Ничего этого нет, кроме того, что колышется, как занавес, и от чего мы вскрикиваем и просыпаемся иногда во сне.
И вот такое же в ней было ощущение: ничего этого нет — кухни, дома, семьи. А есть только мертвая схема, бесчеловечная и неорганизованная абсурдность мира, грубые излучения звезд, рассеянные частицы, что проходят сквозь стены, сквозь кожу, сквозь кровь. Бессмысленно, бесконечно, не задерживаясь. Будто мы что-то неживое, если, не задерживаясь, проходят сквозь. Их движение постоянно, математически вычислено, подчиняется законам, механике Вселенной, а мы — вне механики. Эта мысль так же возмутительна, как безотчетный ужас перед несуществующим.
Но, разумеется, живая-то, настоящая, сегодняшняя Нина Сергеевна, пребывающая в кухне собственной квартиры, на этом уютном обитаемом островке, ничего подобного не думала, не чувствовала и не испытывала. Просто наступала всегдашняя тоскливая депрессия по вечерам: ощущение повторности круга в хлопотах домохозяйки, машинальность. Она убирала со стола, стараясь не смотреть на мужа, раздражаясь неизвестно чем. Что вот этот человек — ее муж, который, к несчастью, известен ей настолько, что мгновенная нежность опять выливается в раздражение. Что нежность — не к мужу, а в ней самой, а муж какой был, такой и остался. Что эта детскость, эта манера противна ей даже за столом: рассеянность, с которой он вскакивал болтать какие-то пустяки относительно фигурного катания, с куском хлеба идти в комнату и крутить рычажки, отчего изображение портилось, а Лялька злилась; орать на Ляльку, возвращаться в кухню уже с газетой, читая на ходу; и — доедать, откусывать, отхлебывать, крошить хлеб стоя,— от всего этого поднималось раздражение, а недавняя нежность испарялась. Она вымыла посуду, но Глеб опять зачем-то взял чистый стакан, опять рассеянно наливал в него — на ощупь, как слепой,— вычитывая что-то в газете и проливая мимо. Нина Сергеевна демонстративно швыряла чайные ложки в сушилку, с остервенением заворачивала кран.
— Ты что, не наелся?— уже не сдерживаясь, спросила она.— В таком случае отложи газету, у меня нет времени каждый день выводить пятна на твоих брюках, я им не располагаю, как твоя мать.— Она понимала, что про мать вообще не следует заикаться, тем более после жалоб Глеба, когда сама только что защищала свекровь. Тем не менее она продолжала: — Да, как твоя мать...
Глеб поверх газеты посмотрел на нее удивленными глазами овцы. Глубокомысленно покачал головой:
— Ну ты даешь...— и снова углубился в газету.
— Нет, что я даю?!— заорала Нина Сергеевна, швырнув мочалку в раковину и упираясь кулаками в бедра.— Что я такого даю?! Что у меня больше нету сил чистить твои брюки?..
Тогда Глеб отложил газету и тоже заорал:
— Да ты что, офонарела? Что ты ко мне цепляешься каждый день, что тебе от меня надо? Хоть вечер хотел по-человечески, так нет, опять эта сволочь.
Орали они вполголоса, чтобы не слышала Лялька — тем яростней был задушенный крик, оскорбительней смысл, издевательней гримасы и жесты.
Они орали уже не стесняясь Ляльки в соседней комнате. Глеб, подумав и пометавшись, но не дрогнув, швырнул наконец убийственное: «Если бы ты не спуталась тогда с любовником, то Марина бы теперь...» И с удовлетворением посмотрел на нее. Она тихо и злобно плакала, свесив волосы в кухонную раковину. Глеб раскаялся в содеянном и попытался обнять. Нина Сергеевна оттолкнула его руки и зарыдала еще горше. Глеб удовлетворился, успокоился и ушел смотреть телевизор.
Казалось бы, после таких оскорблений двое людей и в самом деле должны разойтись, но через десять минут все уже встало на свои места.
— Мартынова,— крикнул Глеб из комнаты,— а Мартынова?
— Ну, что?
— Иди, Пахомова выступает.
Нина Сергеевна присела на ручку кресла, муж обнял ее, она прижалась в раскаянии и любви.
— Прости, я сама не знаю, что на меня нашло,— от благородства этого честного признания и от жалости к себе и Глебу опять защипало веки, и она всхлипнула.
— Ну ладно, я и сам...— великодушно сказал Глеб.
— Так больше нельзя,— всхлипнула Нина Сергеевна,— когда мы... И вот опять неделя, и в угрозыске.
Глеб рассеянно ласкал ее.
— Я не могу,— всхлипнула Нина Сергеевна,— мы...— она чувствовала, что дрожит, и никак не могла успокоиться, от внутреннего напряжения и желания унять дрожь начинали стучать зубы, опять сдавливало горло, начиналось удушье, она мучительно закашлялась.
Муж оторвался от экрана, с тревогой взглянул на нее.
— Ты себя изводишь,— прошептал он с тревогой,— ну, что же ты, ну...
Он стискивал ее все крепче, словно от этого прекратится кашель, целовал, прикусывая сквозь платье кожу. Она понемногу успокоилась.
— Знаешь что?— озабоченно сказал Глеб.— Пойдем погуляем немножко? Ну, хоть до магазина и обратно? Пойдем, тебе надо проветриться...
Нина Сергеевна со страхом затрясла головой:
— Нет-нет,
я не хочу! Сходи сам.— Одна мысль, что
опять надо куда-то подниматься и идти,
лишила ее воли и была ей невыносима. Но
и не хотелось оставаться
с мужем вдвоем
в их постылой квартире и снова ссориться.—
Правда, сходи, молока купишь на завтра,—
неуверенно предложила она.
Но Глеб уже с удовольствием взял на себя инициативу и входил в роль хозяина и мужчины в семье. Решительно и нежно доставал ей из шкафа теплую кофту:
— Пойдем,— заботливо теребил он жену,— ну, пойдем же.
Нина Сергеевна со вздохом начала собираться: правда, молока хоть, что ли, купить. И опять, в который раз за сегодня, ее поразило, что она думает и делает не то, что ей хочется, не то, что соответствует ее состоянию и ее горю: вот рада уцепиться за какое-то молоко, лишь бы отвлечься от главного.
Глеб радостно и суетливо сопровождал ее сборы: ходил за ней из комнаты в комнату, надевая на себя шапку и шарф и тут же снимая их зачем-то; при этом что-то увлеченно и бестолково рассказывал: о какой-то Тамаре из профсоюза и главном конструкторе Климове, а шеф у них тоже, оказывается, порядочный прохиндей, к тому же безвольный человек, что даже Тамара из профсоюза им верит... Все это было суетно и глупо, то, что он говорил, и слышано уже Ниной Сергеевной тысячу раз — и вчера, и позавчера, и полгода назад. Просто Глеб тоже инстинктивно цеплялся и отвлекался, чтобы забыть о главном, о том, что над ними обоими висело. «Да ведь поругались мы сейчас только поэтому,— с удивлением подумала Нина Сергеевна,— потому что ругаться все равно легче...»
— ...нет, но Климов-то!— оживленно и почти радостно негодовал Глеб.— Ты только подумай, какая это самодовольная, самовлюбленная порода и как живучи, гады, мутируют, размножаются.— Глеб сел посреди комнаты на стул и озабоченно натягивал шерстяной носок, сняв и отставив уже надетый им ботинок.— Между прочим, я им собирался сказать на собрании,— грозно сообщил он жене,— я им еще скажу...
Нина Сергеевна как вчуже смотрела: опущены плечи, брезгливость. Изломанность, с которой он сидел, бесконечная издерганность, усталость, слабость. Жалкий взгляд неудачника, который тешит себя тем, что кому-то и что-то докажет — что именно только и кому?.. Мучительная жалость захлестнула вдруг Нину Сергеевну — не женщины, не жены к мужу, не к тем привычкам и слабостям, что они успели накопить за совместную жизнь,— а к чужому, постороннему, не известному ей никогда: эгоистическая жалость человека к человеку, к слабому, беззащитному представителю твоего вида, который один на один со своей жизнью, и ты здесь ни при чем. Господи, как проглядела она чудовищную перемену? Разве этот, вытесняемый жизнью угрюмый мизантроп, что с затравленным ехидством косится сейчас на жену, перемывая кому-то косточки,— это ее прежний Глеб? Неужели Глеб стал смешным затворником и циничным соглядатаем? Работай он у них в коллективе, Нина Сергеевна со стыда бы умерла. Ее потрясло внезапное открытие: будь Глеб ее подчиненным, она бы постаралась его выжить и причину бы нашла — сплавила бы в НОТ, в БРИЗ, предложила бы в отдел к Коркину. Да, подумала она с ужасом, будь Глеб чужим человеком, штатной единицей, она бы убрала его как паршивую овцу из стада. Как она не заметила! Ведь даже она, при всей своей неуверенности, замкнутости, посредственности, просидев на одном месте пятнадцать лет, сделала какую-никакую «карьеру». А Глеб? Его метало то в экспедиции, то он мнил себя способным к науке и переходил в институт, но и там оказывалось такое болото, по его словам, что он уходил в лекторы в планетарий, читая лекции о составе земной коры. То вдруг бросался с отчаяния в социологию, читал какие-то скучные книжки и конспектировал в глупые тетрадки... она не мешала, но и не интересовалась: чем бы дитя ни тешилось... А не его ли это затея, когда ему было уже тридцать пять лет, поступать в университет? В то время, когда другие, его товарищи, были уже докторами наук, начальниками экспедиций и управлений, руководителями огромных предприятий. Да что там, тот же Валерка... А ее Глеб ребячился, собираясь учиться на социолога. Тут и она не вытерпела: не сходи с ума на старости лет, не смеши людей, пусть тебе на себя наплевать, но ведь семья же, не на мою же зарплату кормить вас четверых! Удивительно, как он не пошел в дворники или камнетесы. Впрочем, почти близко: проведен инженером в своей проектной конторе, но выполняет сувенирные работы по камню — разные там молоточки и топорики из нефрита, которые дарит потом начальство командированным из Москвы. Она не видела, не обращала внимания, как он погибал — ведь это он ее губил, он ее унижал, это она задыхалась с ним рядом! Это он ее подавлял! А он не мог со своей слабостью быть один, ему нужен был успех, видимость силы. Без людского признания он задыхался, как рыба, выброшенная на песок. Она, его подруга и спутница, за целых восемнадцать лет не удосужилась разглядеть, что рядом с нею умирает человек, ни разу не обласканный ею. Да, ему нужно было, чтобы им восхищались, чтобы она восхищалась им. О, разве она не была воплощением терпимости, не прощала то, что другая бы никогда не простила? Разве она держала его возле своей юбки, посягала на его мир?.. Она дарила ему самое большое: его свободу. Поступай как считаешь нужным, будь кем хочешь, изменяй с кем хочешь — не надейся, что я тебя держу. Ведь после Валерки она действительно не ревновала: рано или поздно придет, потешится и придет. И презирала в нем его слабость. Чего он искал в этих других женщинах? Она-то знала, что от себя не убежишь, что эта отрава, эта каинова печать, в самом человеке. Так ради чего убивать себя еще раз, с каким-то другим мужчиной, и пытаться к нему привыкнуть, пока ты не осточертеешь ему или он тебе? Так за что же ей ревновать Глеба? На здоровье, пусть собирает марки, пусть изучает социологию, пусть влюбляется, если сможет. Набивает себе оскомину. Чем меньше она его держит, тем скорей он вернется.
Но
как же она не удивилась ни разу, что он
все-таки возвращается?.. Нет, удивлялась.
Вначале. Господи, все дело было в том,
что с ней он не знал нежности, которую
искал в других. Не верил, что это возможно,
не верил. Верил, что подчинит, заслужит
восхищение, завоюет. Верил, что переделает
ее. Сначала его подхлестывало, что он
первый, и мнил себя господом богом:
сотворить ее из своего же ребра. Он
Пигмалион, а она Галатея. Но этот камень,
эта статуя, этот прах! И он убивал ее,
убивал, это правда. А потом — тот, другой,
когда она обрушила на него, отомстила.
Как мог он не вернуться к ней, если она
в это время была счастлива с другим
мужчиной? Только и всего, что перестал
верить в свое единственное право. Им
стало легче, они научились прощать друг
друга. Выравнивание темпераментов, как
говорят,— что может быть прекраснее
брака?.. И вот она совершила то, чего так
ждала и не заметила сквозь провалившиеся
между ними годы: больше он ее не задушит.
Но и себя, прежнего, не вернет. Разве его
она любила когда-то? Заразительного,
непринужденного, живого, столь непохожего
на нее? Ведь за что и любила: он так умел
нравиться людям, так умел делать их
лучше, счастливее, чем они были.
Они шли по морозу под ясной и неживой луной, снег звонко скрипел под ногами. Зажженные окна магазина образовывали рассеянное, клубящееся инеем пространство с размытыми краями, яркий оазис в темноте. В авоське болтались две бутылки с молоком, которые они все же купили: перед закрытием иногда бывает привоз и, главное, никакой очереди в это время.
— Градусов двадцать мороза,— бодро сообщил Глеб.— Придем — и спать. Устала, старушка?
Теперь, в сумрачном свете, в рассеянной темноте, лицо его казалось чужим и юным. Покраснел нос на морозе, заиндевели ресницы. С робкой нежностью она взяла его под руку:
— Все еще образуется, правда?
— Конечно,— подтвердил он,— в понедельник я съезжу, Фомин наверняка что-то выяснит. Только не изводи себя, глупо это.
А она отчаянно знала, что жизнь прожита, что так нелепо истрачена его жизнь, что не повезло им ни в чем. Марина, их дочь. И куда она делась, жизнь? Куда провалилась, какому черту была продана за бесценок молодость, успех, счастье? Работа? Но работа слишком редко приносила удовлетворение, и — не было счастья. Не было этого чувства даже тогда, если вспомнить. А было беспокойно, суетно, пошло, мучительно стыдно, каждый день они собирались жить «завтра». «Завтра» начинали делать зарядку, воспитывать детей, отдавать себя любимой работе, бросали курить, выезжали в лес на «природу», ходили на лыжах. Прожит ли был хоть день, единственный настоящий день той желанной жизни, что восемнадцать лет блазнила и обещала начаться завтра?
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





