ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Башкирова Галина
ГЛАВА
ТРЕТЬЯ
1
Сверкали
покрытые свежим лаком полы, сверкали
хорошо промытые люстры, непринужденно,
словно их потушили минувшей ночью,
клонились к раскрытой книге свечи на
секретере; рядом с камином лежали будто
случайно забытые щипцы. Юнцы в военных
мундирах глядели из золоченых рам
задиристо и строго, не подозревая, что
впереди кандалы, допросы, остроги,
каторга. С акварелей выплывали голубоватые
женские лица, гордые, нежные, те самые,
что старели потом в Сибири. В шкафах
поблескивали золотом корешки старинных
книг. В чисто вымытые окна било солнце.
Нина Михайловна вела
первую после ремонта экскурсию.
Как нет в мире двух абсолютно похожих
людей, так нет и не может быть двух
похожих экскурсоводов, даже если они
произносят одинаковый или почти
одинаковый текст; у каждого свой стиль,
своя манера подачи материала, свои цели,
свои идеалы, наконец, во имя которых
экскурсовод всю свою жизнь
рассказывает людям, казалось бы,
одно и то же. Если не смысл, то конкретная
цель экскурсий Нины
Михайловны — трогательностью голоса
и взора доводить посетителей до слез.
На этот раз, на свежем вдохновении,
она выполнила свою задачу с блеском
(группа сморкалась и смущенно откашливалась
в раздевалке) и, поднявшись наверх, упала
в продавленное кресло.
—До чего я устала. Вы когда легли?
—В три,— ответила Оля.
—А я в пять, я еще обед стряпала, мой
старик так на меня кричал...
—Спать хочется, жуть... — сказала Оля.
— Зря мы сегодня затеяли вечеринку.
—Нет-нет, надо отметить, поблагодарить...
Представляете, мой старик тоже собрался
вечером приползти.
—Конечно, пусть приходит.
—Вот еще! Имею я право на внесемейные
радости? Выкурю сигарету и побегу домой,
уговорю, чтобы не приходил.
Нина Михайловна ушла, и тут же вслед
явление — Олимпиада Петровна, кассир:
—Ольга Ев
—Конечно, пусть приходит.
геньевна, замок от сейфа я
отдала в ремонт. Пять рублей взяли за
срочность. Будет готов завтра.
—Спасибо.
—Кисти к
занавесям в третьем зале я успела
приделать утром. От смотрительниц разве
дождешься!
—Спасибо.
—Из фондов звонили. Пейзаж Петербурга
неизвестного художника просят вернуть.
Вы об этом поставлены в известность?
—Да.
—Картину я
сняла и вынула из рамы.
Раму поставила в запасник. За картиной
приедут завтра в три часа.
—Спасибо.
—На
обратном пути попрошу
шофера заехать за
книгами по вашему списку. У меня
все.
На тонких губах
Олимпиады Петровны промелькнуло подобие
улыбки. Вот и сегодня, как всегда, она
сумела поставить директрису на место.
Это вам не окна перемывать после
фирмы «Заря», чистоплюйство
развели, не ручки медные
мазями натирать, чтобы
блестели. Кто, спрашивается, заметит?
И вообще непорядок, чтобы заведующая в
такие мелочи вникала. Организационную
работу в голове держать надо, работу с
людьми! А у директора дурь на уме! Вот и
следит за дисциплиной скромный, но
ответственный человек — кассир.
Олимпиада Петровна вышла. Директор
принялась приводить в порядок свой
стол, чистила ящики, выбрасывая
накопившиеся, ненужные бумаги. Два
протяжных звонка снизу. Директор отложила
очередную папку.
...На семь залов в музее пять смотрительниц,
пять старушек, пять пенсионерок. Снова
два звонка. Неужели даже сегодня, в
первый день после ремонта, внизу возникла
очередная перебранка? «Ну их всех к
черту! — с досадой подумала директор.—Ни
минуты покоя».
2
Одна
приводит с собой внучку, и малолетняя
внучка скачет по залам, другая незаметно
исчезает на полчаса выгуливать чью-то
собаку, у третьей на руках парализованная
сестра, что тоже требует незаметных
исчезновений, четвертая глуховата и
любит поспать. Пятая...
Едва в двух темных
последних залах появлялся
одиночка-посетитель, как
из сумеречной призрачности
наплывало на него крошечное создание
— белый воротничок-стойка, белые
носочки, седые кудряшки, обрамлявшие
круглые очки с сильными стеклами. Лица
почти не видно, но то, что можно назвать
лицом, величиной с кулачок, умоляюще
тянулось снизу вверх к ошарашенному
посетителю, взмахивало крошечными
ручками и тишайшим шепотом, прикладывая
палец к несуществующим губам, заговорщически
произносило: «Хотите, я вам все о них
расскажу?» И существо это, смотритель
Надежда Васильевна, едва различимое в
сумерках белеющими носочками и
воротничком, то ли девочка лет двенадцати,
то ли усохшая до размеров девочки
старушка, начинало с дрожью в голосе
нашептывать, кто на портретах есть кто,
кто кому кем приходится, у кого какие
были отцы и матери, братья и сестры, кто
как проявил себя в Бородинском сражении,
какие раны, ордена, кто как вел себя в
день четырнадцатого декабря, на следствии,
в ссылке, на каторге.
Свет, две люстры, которые принято
почему-то называть французскими
(в последние дни перед открытием музея
Оля смастерила их из разрозненных
хрусталиков, подвесив хрустальное
кружево к бронзовым основаниям, взятым
в Историческом музее), свет в таких
случаях Надежда Васильевна не включала
из опасения быть застигнутой за незаконным
делом. Импровизированная лекция творилась
в таинственной полутьме, голос Надежды
Васильевны все сильнее
дрожал, набирая все
большую страсть. Постепенно,
увлекшись, она забывала о грозящей
опасности, о страшном человеке Олимпиаде
Петровне, что караулит каждый ее шаг и
бегает доносить по начальству.
...Надежда Васильевна работает в музее
четыре года и шесть месяцев, она вела
точный счет, как ведут счет родители
возрасту маленького ребенка. Да декабристы
и были ее детьми, она их усыновила.
Или это они приняли ее в свой круг?
Вначале ей казалось, что это они ее
приняли, убедившись, как преданно она
им служит. Она-то полюбила их с первого
взгляда, едва переступив порог музея.
Она полюбила все вместе — портреты,
ноты, рояль, письма в витринах и другие
старинные бумаги. Она полюбила их
доверчиво, и, слава богу, в ее залах не
оказалось ни одного предателя — материалы
о них были в зале у Степаниды Федоровны:
сама противная, вот и люди ей достались
плохие, так считала Надежда Васильевна.
С тех пор как умер у нее муж, не было у
Надежды Васильевны людей ближе и дороже,
чем эти мальчики на стенах. Она всю жизнь
проработала гардеробщицей в школе и
работу свою любила. Она любила школу,
особенно зимой, когда много одежек,
много валенок, шуб, шапок, когда от всего
детского так славно пахнет, она любила
сушить детские валенки и галоши, да,
большую часть жизни она прожила в эпоху
галош. Но больше всего она любила звонить
в звонок — это тоже была ее обязанность.
Своих детей у них с Мишей не было; наверно,
потому она и держалась за школу, это
объяснил ей муж, он работал механиком
на заводе и был очень умным человеком.
Но шли годы, и Надежда Васильевна,
особенно после смерти Миши, стала
уставать от шума, от тяжести детских
пальто: у нее болели руки, опухали
пальцы, и стоять на ногах целый день
стало трудно. И трудно стало играть с
детьми: ведь с каждым, пока разденешь,
нужно поиграть, так она понимала свою
работу. Даже большим, усатым, им тоже
необходимы игра и ласка. А в школе, так
казалось Надежде Васильевне, все слишком
всерьез. И вот наступил день, когда она
устала играть, и, едва поняв, что
устала, Надежда Васильевна подала
заявление об уходе. Провожали ее хорошо,
завуч с директором уговаривали не
уходить, но нет, не было сил, душа ее
устала. Прощались с ней торжественно,
или, как говорила завуч Маргарита
Николаевна, уникально.
Собрались в зале, подарили от
коллектива дефицит — электрический
самовар, а дети подготовили длинную
стенгазету, удивительно даже, как
терпения у них хватило. Там были ее
фотографии — и совсем молоденькой
(брали со стендов «передовики
производства»), и постарше,
но особенно много — последних. Лишь
в стенгазете и разглядела она, какая
стала жалкая: два жидких пучка волос,
щеки провалились, подбородка нет, и
поняла окончательно — правильно делает,
что уходит.
А на пенсии
в первые месяцы спасли ее соседи. Выходит,
счастье, что не успели дать мужу отдельную
квартиру. Что бы она делала одна? А тут
соседи утром и вечером, и днем
девочка-восьмиклассница Маша. Маша ее,
можно считать, и спасла. Маша дала ей
одну книжку. Книжка называлась «Лунин».
Лунин оказался декабрист. О декабристах
Надежда Васильевна в школе не проходила,
а может, и забыла, до войны училась. Она
читала книгу и под конец, когда описывались
мучения Лунина на каторге, все время
плакала. До чего одинокий человек! Ни
жены, ни детей, никого, с кем можно
разделить печаль, хотя бы в письменном
виде. Одна верная сестра. К сестре под
конец книги, к графине Уваровой, Надежда
Васильевна относилась уже как к своей
и тоже ее жалела, хотя с детства господ
и все бывшее, господское, не любила. Но
тут... такая семья, такие люди... Люди уж
больно оказались милосердные, и пострадали
все они, можно прямо сказать, для народа.
Надежда Васильевна и не подозревала
прежде, что среди господ встречались
хорошие люди. Думала, все были на одно
лицо — крепостники, мучители,
злодеи...
И надо же,
какие в жизни случаются совпадения,
только закончила Надежда Васильевна
читать книгу «Лунин», только начала
тосковать, где бы достать еще одну книгу
о таких же прекрасных, неизвестных ей
героях, как услышала по радио объявление
о том, что в Москве открылся музей
декабристов и все приглашаются,
и указывался адрес. Раз
приглашаются, Надежда
Васильевна пошла, тем более оказалось
недалеко от дома. Она бы и далеко поехала,
а тут пешком пройти можно. На дверях
музея — низких, старинных, с красивой
медной ручкой — поджидало Надежду
Васильевну главное событие ее жизни —
объявление о том, что музею требуется
смотритель. Она вошла, купила билет,
во втором зале, там сидит сейчас Анастасия
Ивановна, увидела знакомое усатое лицо
Лунина, потянулась к нему на цыпочках
и заплакала.
Все
еще плача, не в силах
остановиться, растирая глаза
кулачками, Надежда Васильевна с
несвойственной для себя отвагой выяснила,
как пройти к директору, поднялась на
второй этаж и решительным голосом
попросила принять ее на работу. Она была
готова к отказу: конечно, она не подходила
к этим стенам, к этому замечательному
дому, ко всему незнакомому строю жизни,
о которой она сначала прочитала в книге,
чтобы потом увидеть в музее. К отказу
она была готова, но вместе с тем твердо
убеждена, что не уйдет, что невысокая
узкоглазая женщина не прогонит старуху.
«Я буду стараться! — твердила Надежда
Васильевна — Вот увидите! — и вытирала
набегавшие неизвестно откуда слезы.—
Я их буду,— она запнулась,—я их буду
лелеять!» — «Кого?» — не поняла
узкоглазая. «Декабристов!» И
тогда директор, не удержавшись,
улыбнулась. «Неказистая, но
веселая,— подумала про нее
Надежда Васильевна.—Веселая — это
хорошо, веселые редко бывают вредными
людьми». И вправду, директор предложила
ей заполнить анкету, предупредив,
что Надежде Васильевне придется
обслуживать не один зал, а два. «По
площади это равно одному залу,—
извиняющимся голосом добавила директор.
«Господи, радость какая! У всех по одному
залу, а мне сразу два доверяют!» —
восторженно думала Надежда Васильевна,
осторожно спускаясь по крутой лестнице.
На фоне янтарных, хорошо промытых
деревянных ступеней (и не истоптались
за столько лет, удивлялась Надежда
Васильевна) ее ноги в черных ортопедических
туфлях и белых носках выглядели так
уродливо, казались такими чужими этому
дому, что она застеснялась и остановилась
на середине лестницы. Сердце сжалось,
но не заболело. Стенокардия, сказал
районный врач. «Стенокардия... скоро
умру». Она попыталась осторожно выдохнуть
воздух. Получилось. Стало легче. Она еще
немного постояла. А потом вдруг без
всякого перехода подумала: «Ну ничего,
принимайте, какая есть!» Это Надежда
Васильевна вспомнила о портретах на
стенах. И, вспомнив о них, она впервые
поняла, что не только они, но и она их
берет под свою опеку.
3
А
человека этого Надежда Васильевна сразу
узнала. Как только он вошел в ее зал.
Высокий, загорелый. С красной шеей. С
виду как будто из чужих. Но не чужой.
...У Надежды Васильевны было тайное
преимущество перед посетителями. Они
входили к ней из света в полумрак: два
окна в ее залах затенял старый тополь.
Они входили из света и видели ее не
сразу, зато она успевала их подробно
разглядеть и оценить. Всех посетителей,
кроме толпы экскурсантов конечно,
Надежда Васильевна разделяла на два
разряда — свои и чужие. «Чужие» — это
те, кто забрел в музей случайно. «Свои»
— что тут объяснять, свои есть свои.
«Чужие» делились у нее на два подразряда
— «безразличные» и «небезразличные».
К «безразличным» Надежда Васильевна
относилась добродушно. Ну, пришли люди
в музей, мимо, может, проходили, хочется
уйти, а уйти быстро вроде неудобно: в
каждом зале бродит и наблюдает за
посетителями старуха. Среди безразличных
попадалось много уставших от беготни
по Москве людей. Это были люди открытые
и ясные, со своими конкретными целями,
не совпадавшими с целями музея. Таких
людей Надежда Васильевна жалела, словно
жизнь их в чем-то главном обездолила.
Они представлялись ей вроде инвалидов
— то ли слепые, то ли без ноги. Словом,
люди с изъяном. Она им, как инвалидам
натуральным, часто предлагала отдохнуть
на своем стуле. Они охотно присаживались
и быстро, как это умеют лишь в России,
рассказывали историю своей жизни, как
будто не в музее находились, а ехали в
поезде. Неплохие это чаще всего оказывались
люди, доверчивые, и послушать
интересно.
«Небезразличные»! Вот кого Надежда
Васильевна опасалась, вот за кем следила.
«Небезразличные» и входили небезразлично,
хотя им было глубоко безразлично, ради
чего жили и умирали люди, памяти которых
музей посвящен. Факты их не интересовали.
Зато их щекотали подробности. Они цокали
и чмокали над креслами красного дерева,
над столиками с бронзой, они прикидывали,
сколько теперь, на наши деньги, все это
стоит. Получалось, большие тысячи. Они
читали, как жили мальчики с портретов
в ссылке, и похохатывали: «Всем бы так
жить!» Они норовили пощупать, потрогать,
помусолить руками святые вещи — «святое
наследство», как написал Герцен. Надежда
Васильевна услышала однажды от
экскурсовода эти слова и с ними
согласилась.
Так вот.
«Небезразличные» не понимали, что это
святое. До них не доходило, что это святые
люди, зато они догадывались, что некоторые
из них были люди богатые. «Небезразличным»
настолько нравилось потереться возле
богатства, что Надежда Васильевна
нередко опасалась за сохранность
экспозиции. Разглядев из своего полумрака
за печкой, что ввалилась компания
«небезразличных», она тотчас же включала
свет. И старалась не слушать, о чем они
говорили, и никогда не отвечала на их
вопросы.
Она-то знала,
что волнует «небезразличных» — жадный
интерес к быту, сплетне, к тому, как жили,
что ели, на чем и с кем спали «господа».
Они рассматривали стены, как завистливые
холопы, подумала однажды Надежда
Васильевна,— с рабьим восторгом. Она
сама была внучкой, нет, правнучкой
крепостной крестьянки, у них в деревне
под Воронежем бабки еще помнили последнего
барина. Но чтобы так терять свою
человеческую гордость при виде дорогих
вещей? Нет, этого Надежда Васильевна не
понимала!
И еще одно
она знала про них точно — «небезразличным»,
хоть они задают кучу жадных вопросов,
все равно, в какой музей идти.
Недавно Надежда Васильевна по профсоюзной
путевке посетила Ленинград. Путевку
выделили от месткома, и бумажку дали с
печатью, что Надежда Васильевна Иванова
— музейный работник и просьба оказывать
ей содействие. Надежда Васильевна от
этой путевки пользовалась лишь общежитием,
а жила по своей программе: ходила по
городу и в музеи. По бумажке с печатью
ее всюду пускали без очереди, даже
спрашивали уважительно: «Показать ли
вам фонды, коллега?» Она, стесняясь,
отказывалась, хотя уже знала, что такое
фонды, и ей, конечно, было бы интересно.
Но как можно затруднять серьезных людей,
тем более что принимают они ее вовсе не
за простого смотрителя.
Летний Ленинград был полон людьми.
Народу даже больше, чем в Москве, и в
музеях не протолкнешься.
В Ленинграде Надежда Васильевна
окончательно убедилась в своей наприязни
к «небезразличным». Уж казалось бы,
квартира Пушкина на Мойке, полдня надо
в очереди стоять, чтобы туда попасть, а
попадают — и что? Какие вопросы задают?
Жизнь Пушкина Надежда Васильевна немного
знала — из-за его связей с декабристами.
Знала и сильно Пушкина жалела. Можно
сказать, оплакивала. А эти? «А где сам
жил?» «А где сама жила?» «А где жили
свояченицы?» «Рядом?» «Как интересно!»
— и смешок такой грязный в сторону. «Эта
картинка (не картинка, а акварель! —
мысленно поправляла Надежда Васильевна)
— Александра Гончарова?» «Ничего!
Вполне! Годится свояченица!» «А это его
жилет? Пропустите, пропустите, дайте
поглядеть!» «А кровь на нем, товарищ
экскурсовод, случайно не сохранилась?»
«Идол поганый! — гневно думала Надежда
Васильевна. — Что тебе ЕГО кровь? Витрину
сейчас опрокинешь от счастья! Тебе что
его кровь, что вода из водопровода, все
одно!»
И такие же
точно лица, с тем же азартно-оживленным
выражением жадно расспрашивали
экскурсоводов в Эрмитаже, где именно
жили цари, в Петергофе измеряли ширину
царских постелей, в Павловске допытывались,
по каким таким личным причинам Павлу
понадобилось строить Павловск.
Цари, вельможи ничтожные, Пушкин... все
для них на одно лицо, с неприязнью думала
Надежда Васильевна о «небезразличных»
и отходила в сторону, стараясь с ними
не соприкасаться, сторонясь их, как
заразы. На выставках, в музеях, в парках,
на кладбищах она сразу выделяла их из
толпы открытых людей, слушавших
экскурсоводов с доверчивыми, чистыми
лицами. «Небезразличные» с одинаковым
восторгом стояли у могилы Достоевского
в Александро-Невской лавре и в очереди
за мороженым при выходе из той же лавры.
«Не чувствуют ничего,— огорчалась
Надежда Васильевна, глядя на длинный
хвост за мороженым,— так ведь и умрут,
в жизни ничего не понявши».
Зато как много замечательных людей
встретила она в Ленинграде. И откуда
только люди не стремились в этот город!
Присядешь на минутку на лавочку, допустим,
в Летнем саду — и сразу разговор. И сразу
такой приятный — не о покупках, а о том,
кто какие места посетил и какой музей
лучше. Почти все приезжие музей иа Мойке
предпочитали, Надежда Васильевна
согласно кивала, но ревновала и приглашала
посетить Москву, а двум женщинам из
Осташкова даже адрес дала, пусть
приезжают, пусть у нее останавливаются,
пусть убедятся: в Москве музей не
хуже!
В Ленинграде
кругом было много людей, но люди ей не
мешали. Как вышла она первый раз на
Дворцовую площадь, как прошла на
набережную, как увидела эту потерянную
былую строгость, как представила себе,
что царь Николай сидел здесь, а они там,
где блестит шпиль собора Петропавловской
крепости, и ничего уже никогда не
изменить, их благородство столкнулось
с его низким коварством, а благородство,
оно всегда проигрывает... Это такой вывод
сделала для себя Надежда Васильевна,
прочитав за последние годы несколько
десятков книг. Хотя на примере собственной
жизни делать такой вывод было грешно:
жизнь свою в школе она провела среди
благородных людей, подвижников, можно
сказать, а уж дети тем более, они все
хорошие.
Как вышла
она на набережную, так и заплакала от
счастья в виду равнодушной к живым и
мертвым синей реки. И плакала так все
три недели, что пробыла в Ленинграде.
Очень близким оказался ей этот город.
Никогда раньше не подозревала, что так
бывает, что сами улицы, их расположение
могут вызывать слезы. Это ж надо,
чтобы сам город так человека
счастливил!
...И еще
точнее и резче после ленинградской
поездки различала Надежда Васильевна
«своих» и «чужих» — по спине, по шагам,
по тому, как держали руки — тайный порыв
схватить экспонат и бегом в свою нору
или осторожно прикоснувшись, признать
родственную к нему близость... Хотя
прикасаться тоже ведь не
положено.
4
А
этот посетитель вошел, с ним все ясно.
Ручищи большие, к груди прижаты, будто
молится. И глаза где-то далеко, не здесь.
Не здесь, все понятно,— значит, там.
Вошел он тихо, вежливыми шагами, тоже
добрый знак. И Надежда Васильевна с
удовольствием затаилась в углу за
печкой. «Пусть побудет один,— великодушно
решила она,— пусть попереживает. А уж
дальше как получится».
Конечно, Надежда Васильевна отказывала
себе при этом в удовольствии: за два
месяца ремонта много накопилось у нее
разных мыслей, и не терпелось поскорее
эти мысли высказать. Спасибо директору,
давала ей читать книги из библиотеки.
Особенно две Надежде Васильевне
понравились — о Николае Бестужеве, обе
с иллюстрациями, с картинками то есть.
А то все только слышала, как на экскурсиях
Нина Михайловна чирикала: «Один из
руководителей восстания, моряк, мастер
— золотые руки, сам отливал гроб свинцовый
для Александры Муравьевой, сам сделал
ей памятник, брат широко известного
писателя-декабриста...» Слушала она
каждый день эту трескотню и огорчалась:
обидно становилось за Бестужева Николая:
выдающийся человек, а Нина Михайловна
все про гробы да про памятники и что
чей-то брат, будто сам Николай подвиг
не совершил, всех до единого не зарисовал
в суровых условиях Сибири!
Вообще-то она Надежде Васильевне вначале
понравилась: седая, нервная, на завуча
школьного смахивает, к музею всем обликом
подходит. А потом присмотрелась: нет,
не любит Нина Михайловна историю, просто
к дому привыкла. Хоть дом любит, рассудила
Надежда Васильевна, и то хорошо. А трещит
она свою трескотню очень художественно,
в конце многие плачут, хотя зачем слезы
лить, если нужно, как это... благоговеть?
А насчет Бестужева Николая Надежда
Васильевна пробралась тогда к директору,
плотно прикрыла за собой дверь
(Олимпиада-змея подслушать может) и,
смутившись так, что даже затылок заломило,
изложила свою просьбу насчет книг.
Директор быстро в ответ закивала и
чиркнула заметку на отдельный листок.
Неплохая женщина, жаль, солидности не
хватает, в директорах школы никогда бы
ей не удержаться...
...Посетитель топтался возле портретов,
выполненных на каторге Бестужевым
Николаем. Сто с лишним человек, пока
всех разглядишь! Конечно, надо включить
свет! Но тогда исчезает чувство, что ты
в музее, но как бы один.
Посетитель приближался к портретам
почти вплотную, отходил, снова возвращался.
Осторожно вытягивая шею из своего угла,
Надежда Васильевна пробовала разглядеть,
кого он выделяет своим вниманием. Но
понять было трудно. Посетитель отходил
от них лицом, то есть пятился, приближаясь
к ее убежищу, к стене, где были развешаны
различные, виды, тоже сделанные Бестужевым.
Потом поворачивался... Надежда Васильевна
при этом быстро ныряла за печку. Кем он
может быть? — размышляла она. Спина
прямая, плечи широкие, и голова посажена
гордо... Историки такими не бывают, они
все горбатые, сутулые то есть, над
бумажками сидят. Есть один стройный,
так он не в счет, алкоголик. От пьянства
гимнастикой лечится. А может, он приезжий
историк? Вряд ли, историки загорелыми
не бывают. Тогда искусствовед.. Но
искусствоведу что у них делать? Ведь
это же копии висят. И потом, Бестужев,
это она прочитала в одной книге, был не
настоящий художник, а какое же это слово?
Дилетант! Вот! Сам научился рисовать. А
может, он писатель? Книгу историческую
пишет? Надежда Васильевна так мечтала,
чтобы об истории писали как можно больше!
Нет, вряд ли, думала она, писатель бы
сразу документы предъявил, попросил бы
его сопровождать, писатели свои права
знают.
Он просто
человек, обрадовалась вдруг она, может,
ученый, может, не ученый, какая разница.
В музее важно лишь одно — как посетитель
смотрит. Как он смотрит, такой он и
человек, столько он как человек и стоит.
И, сделав такой приятный вывод, Надежда
Васильевна, словно ее подтолкнули,
выскочила из своего укрытия и засеменила
навстречу незнакомцу. Тот смутился,
словно его поймали. Смутился — тоже
хорошая черта.
—
Рассказать вам о них? — задала свой
обычный вопрос Надежда Васильевна.
Он улыбнулся. Глаза у него оказались
синие, а губы пухлые, как у ребенка. Зато
подбородок твердый. Завершающий
подбородок. Такое сочетание Надежда
Васильевна встречала редко.
Он согласно кивнул своим завершающим
подбородком.
— О ком
именно? — И сердце у нее екнуло: кого
назовет.
— Ну, например,
— он улыбнулся ей, — например, Арбузов.
—Арбузов? А. Пэ.? Ну как же, как же! Проявил
себя на Петровской, на Сенатской то
есть, площади. Вообще о нем мало известно,
— засуетилась Надежда Васильевна.—
Морской офицер, бедный человек,—
заторопилась она.— И умер, не поверите,
от голода. На поселении.— У Надежды
Васильевны от напряжения затряслась
голова.— Он одной рыбой питался, задолжал
рыбу хозяйке, пошел больной на реку,
наловил, отдал долг, лег и умер.— Надежда
Васильевна незаметно сморгнула слезу.—
Здоровье слабое было.
—Да, лицо болезненное, — подтвердил
посетитель.
—Хороший
человек, это тоже видно, вы согласны? —
добивалась своего Надежда Васильевна.
—И портрет Пущина
хорош! — сказал посетитель.
—Пущина! Ивана Ивановича? Вы какой
портрет имеете в виду? Да он же... он... он
добрее всех, вы знаете? Знаете, какой он
был добрый? — сухим, почти надменным
тоном осведомилась Надежда
Васильевна.—Он...
—Многие
из них были совершенно замечательными
людьми, — сказал посетитель. И так
протянул слово «совершенно», будто
хотел вместить в него все совершенство
этих людей.
—А я изучила
этот вопрос, — застенчиво призналась
Надежда Васильевна,— то есть я хочу
сказать, все ли они были замечательные.
И сделала вывод,— она запнулась, удивляясь
своей откровенности с этим незнакомым
человеком, и все же продолжила: — Я
четыре года,— снова пауза,— нет, четыре
года и шесть месяцев читаю книги только
о них, о них и о Пушкине, и я поняла,
некоторые из декабристов были просто
хорошими людьми до четырнадцатого
декабря, а после, на каторге, все они
стали замечательными. Вы согласны? —
и, повернувшись лицом к портретной
галерее, она воздела руки вверх.
На миг показалось, что Надежда Васильевна
не стоит на полу, а как бы парит в воздухе,
да и в глазах ее, увеличенных сильными
стеклами очков, сияла такая радость,
такое вознесение...
— Я смотрю на них каждый день,—открывалась
она незнакомцу, постепенно все же
опускаясь на землю, хоть пол под ногами
почувствовала, и то слава богу, — смотрю
и думаю: главное для человека — прожить
жизнь честно, вы согласны? Конечно,—
вздохнула Надежда Васильевна, — некоторые
любят вспоминать, что на площади многие
из них вели себя, как бы это сказать?..—
она проверяюще взглянула на незнакомца.—
Так ведь это с непривычки, не так были
воспитаны: кровь пролить не решались.
Вы согласны?
— Все теперь
перепуталось, что хорошо, что плохо,—
засмеялся посетитель. Смех у него
оказался приятный. Рассыпчатый смех,
откровенный.— Я, знаете ли, с декабристами
в войне.
— Как в войне?
— перепугалась Надежда Васильевна и
начала быстро уменьшаться в росте —
такие с ней иногда происходили
превращения.
— Да не с
ними собственно, — усмехнулся
незнакомец,—никак простить не могу...
— Их... прощать? Они и без нашего
прощения...— переполошилась Надежда
Васильевна.
— Да не
только о них я думал, — махнул большой
красной рукой посетитель.
— Так вы на всех или на отдельные личности
сердитесь? — уточняла для себя, не совсем
понимая, о чем идет речь, Надежда
Васильевна. Разговор тем не менее
становился ей глубоко интересен.
Посетитель еще раз и, как ей показалось,
с сожалением обвел глазами портреты на
стенах.
Надежда
Васильевна стояла рядом тихо-тихо,
уронив голову, точно не они, а она лично
провинилась перед этим посетителем.
— Ваш художник, я имею в виду Николая
Бестужева, он вел себя на площади
героически,— попытался утешить ее
незнакомец.
— Герой!
Правда, герой? — с восторгом выдохнула
Надежда Васильевна.
—
Он-то герой!
— Это вы о
Трубецком вспомнили? — печально
догадалась Надежда Васильевна.—Да? А
по-моему, надо людей прощать, всем надо
отпускать милосердие,— сказала она,—иначе
будет война.
Незнакомец
улыбнулся. Он вел себя с ней, как с равной.
И Надежде Васильевне это казалось
нормальным. Если люди, «свои», если
что-то хорошее их объединяет, то они
равны между собой, какие бы должности
ни занимали и в каких бы университетах
ни обучались. Ни в какое другое
равенство людей на земле Надежда
Васильевна не верила. Ей, например,
всегда приятно приветствовать в музее
своего, то есть равного, родного по
переживаниям человека.
— Вот Пущин, Иван Иванович, он всех
прощал,— продолжила разговор Надежда
Васильевна.
— Напротив,
никого он не прощал! Он был человек
непримиримый! Замечательный, но узкий
был человек,— сказал он уже потише, себе
под нос,— узкий, как пенал... и рядом
Пушкин с его историческими размышлениями.—
Посетитель говорил уже совсем тихо,
задумчиво разглядывая стенд с
портретами.
Господи,
думала между тем Надежда Васильевна,
как все непонятно на этом свете, ругает
Пущина, а сам какой милый человек, лицо
какое хорошее, волосы светлые, стрижка
короткая, аккуратная, глаза без подвоха,
но твердость в них есть. Перекликаются
с подбородком. Пенал! Это ж надо такое
придумать. Пенал — это значит весь в
кляксах, а Пущин Иван Иванович прожил
жизнь без единого пятнышка! Господи! И
все равно он симпатичный. Может, я и
грешница, своих защитить не умею, но от
кого защищать? От хорошего человека? На
кого он похож? Лицо больно знакомое. И
вдруг догадалась — наряди его в сюртук,
отпусти он усы, сделай фотографию или,
как его, дагерротип, повесь на
стену,—вылитый! Затеряется, не отличишь!
Будто он тоже когда-то, чуть не двести
лет назад, за Россию сокрушался! Тот же
взгляд!
— А вы
родственником никому из них не приходитесь?
— спросила Надежда Васильевна и
смутилась: такие «жадные» вопросы любят
задавать ненавистные ей посетители. Но
она же от хорошего спросила, от души, от
внезапной догадки. И он, если он
по-настоящему свой, он должен ее
простить.
— А вас как
зовут, милая смотрительница? — улыбнулся
в ответ незнакомец.
Она радостно зарделась от этого вопроса
и обстоятельно ответила.
— Очень приятно познакомиться, Дмитрий
Иванович Ильин, — представился он.—
Мне хотелось бы пройти в дирекцию.
К кому я могу обратиться?
— Пойдемте, пойдемте, Дмитрий Иванович,—
заторопилась Надежда Васильевна и
засеменила было из зала. Потом остановилась.
Забили напольные часы, особая ее
гордость, спасибо, стоят в ее зале. Часы
пробили два. А потом заиграла музыка.
Они стояли рядом в полутьме, и высокие
кафельные печи отсвечивали синевой,
как тени на сугробах, и старый тополь
за окном шелестел что-то радостное и
вовсе не жаловался, что земля вокруг
него истоптана экскурсантами в камень.
Тополь тоже был счастлив посещением
Дмитрия Ивановича Ильина. Все были
счастливы — и тополь за окном, и высокие
синие печи, и часы, и портреты на стенах...
Музыка смолкла. Снизу вверх потянулась
Надежда Васильевна к взгляду Ильина.
—Может, свет включить? — щедро предложила
она, уже уверенная, что свет
ничего не сможет разрушить.
—Нет, нет, спасибо, я все увидел.
От рассеянности она повела его не прямо
к выходу, а, наоборот, через все залы, к
входу. Быстро-быстро семенили ее ноги
в белых носочках, обутые по случаю
открытия в парадные босоножки. Рядом
осторожно шлепали огромные туфли в
аккуратно подвязанных музейных тапочках.
(По тому, как посетитель подвязывает
тапочки, тоже, между прочим, можно немало
о нем узнать.) Тяжелый, с почтением
восхищалась Надежда Васильевна, слыша,
как скрипят полы,—а походка легкая.
Легкая, — значит, не зазнайка, у зазнаек
походка с уважением к себе, медлительная.
Этот легко идет, не зазнается.
— Тапочки у нас вот здесь снимают, киньте
в тот ящик, — ровным голосом посоветовала
Надежда Васильевна под изумленным
взглядом восседавшей за своей кассирской
конторкой Олимпиады Петровны. И так же
спокойно подошла к ее конторке и смело
нажала на кнопку: два звонка! Будто век
нажимала, как в школе в звонок звонила,
вызывала сверху научного сотрудника
для консультации посетителя: вопрос,
решение которого обычно брала на себя
все та же Олимпиада Петровна.
— Всего доброго вам, Дмитрий Иванович!
— с чувством сказала Надежда Васильевна.—
Всего вам,— тут она запнулась, — самого
прелестного! — И первая протянула руку.
Он бросил развязывать шнурки, шагнул
стреноженный навстречу, запутался, чуть
не упал, выпрямился, засмеялся, снова
наклонился, ему пришлось склониться
низко-низко при таком высоком росте,
чтобы поцеловать ей руку.
— Спасибо за разговор! — сказал он так
громко, будто все у них в музее уже понял:
и ее, Надежду Васильевну, и Олимпиаду,
сидевшую с открытым ртом, и их
отношения.
— Приходите
к нам! — голос у Надежды Васильевны
дрогнул, и в глазах появились слезы: она
всегда плакала, когда приходилось
расставаться с хорошим человеком.
— Непременно появлюсь.
И по выражению его глаз она поняла, что
посетитель Дмитрий Иванович Ильин
говорит правду — он придет.
5
С
середины лестницы открывалась такая
картина: лицом к Оле стояла Надежда
Васильевна. Одетая в коричневое платье
в складку, делавшее ее издали похожей
на примерную школьницу, со сморщенным
плачущим личиком, она протягивала руку
какому-то человеку, стоявшему перед ней
на корточках. Оля не сразу поняла, что
тот снимал музейные тапочки. Она увидела
лишь широкую спину, обтянутую потертой
кожаной курткой, и русоволосый затылок.
Спина разогнулась, человек споткнулся,
выпрямился, потом снова согнулся в
поклоне и поцеловал Надежде Васильевне
руку. Лицо у нее сделалось одновременно
несчастным и гордым, видно было, что она
изо всех сил сдерживает слезы. «Чудак
какой-то,— почему-то развеселилась
Оля.—Теперь вот разговаривай с ним!
Засыплет вопросами, по спине видно,
обстоятельный человек».
Обстоятельный человек обернулся,
справился наконец со своими тапочками,
осторожно положил их в ящик и повернулся
ей навстречу. «Экий увалень,— с
удовольствием подумала Оля,—бывают же
такие, и глаза не московские. Невыгоревшие
глаза. И немосковский румянец. Не такой
уж он молодой, как кажется со спины,
должно быть за сорок, морщин много. Виски
седые, заметно, хоть и блондин. И челюсть...
Только бы не оказался дураком, — загадала
Оля. — Дурак с твердым подбородком —
это ужас».
Они шли
навстречу друг другу, он — вверх, она
вниз по лестнице, где-то посередине
встретились.
—
Мне, очевидно, следует обратиться
именно к вам? — спросил он глуховатым
баритоном.
Что было
дальше, Оля помнит не очень твердо.
Кажется, он присел на стул и задал
какой-то вопрос. Дальше, кажется, звонил
телефон, и Туманов ругал Олю за то, что
она тратит время на общение с чужими
ненужными людьми. «Ты прав,— весело
соглашалась Оля.— Саша, до чего ты умный,
ты абсолютно прав!» Дальше посетитель,
положив большие руки на колени, разглядывал
стены и особенно пристально гравюры
Санкт-Петербурга: набережные, Невский
проспект, мосты, каналы. Дальше он
спросил, любит ли она этот город. «Очень,—
ответила Оля без секунды промедления.
— А вы приезжий?» — задала она
встречный вопрос. И тут время
впервые остановилось его усмешкой. В
самом деле, что значит приезжий? То есть
не москвич, не ленинградец... чужак.
«Можно и так сформулировать»,— усмехаясь,
ответил он, но теплота в глазах погасла.
Дальше как будто обошлось, слово за
слово, они разговорились, потом
забулькал чайник, и Оле как будто бы
ничего не оставалось, как предложить
ему чаю. Он ответил: «С удовольствием».
Дальше он пил чай, ел бутерброды и
тихо, сдержанно улыбался. Вот и за это
Оля любила свой дом, свой музей — за
неожиданных людей, которых время от
времени дарила ей судьба. Приходит
человек, совсем незнакомый, чужой,
задает вопросы...
Десятки, сотни людей каждый день бывают
в музее. Главное при этом — суметь
внутренне отгородиться от бесконечной
толпы, шарканья ног, жужжанья голосов
— от повседневной музейной толкучки.
Главное, казалось бы, если хочешь успеть
что-то сделать и написать,— это сохранить
себя, свое время и силы, не раствориться
в трясине столь привлекательного, столь
уютного музейного быта. Но вот появляется
однажды человек, стоит в группе, как
все, слушает, как все, о чем-то своем
думает, и вдруг постепенно — по каким-то
почти неуловимым признакам — жестам,
прищуру глаз, мимолетной улыбке —
оказывается, что ему близко и дорого
то, что дорого Оле. Он может знать в сто,
в тысячу раз меньше, чем она, он может
вообще ничего не знать, это неважно,
важно другое — неведомым образом он
понимает то главное, что Оля хочет
сказать, понимает, принимает, соучаствует
всей душой ее рассказу... И значит, не
зря Оля работает именно здесь, не зря
отдает музею жизнь, если может кого-то
в чем-то важном укрепить самим фактом
своего неприметного, скромного
существования... Не зря, не зря звенела
в Оле радостная нота, и Сережа закончил
девятый класс без троек, что, в сущности,
чудо, а по географии, идущей в аттестат,
получил даже пятерку за год, и музей
открылся наконец. Все, все не зря, бывают
же такие совпадения, такие счастливые
минуты! И Оля, не совсем понимая, что
делает, предложила незнакомцу бокал
вина. Да-да! Надо отпраздновать! «Странно,
вы и от цинандали отказываетесь?—
кажется, бормотала Оля.—А у нас все
любят», — сконфуженно объясняла
она.
Тут Оля опомнилась,
вышла из комнаты, спустилась вниз и
стала смотреть из окна на груду булыжника.
Доставали, вели переговоры с начальником
ЖЭКа товарищем Горностаевым, чтобы
не отправлял на свалку, срочно перевозили,
складывали, и вот теперь — плевое дело,
пустяк! — никто не хочет помочь сделать
дорожки. Нет, тупо глядя на булыжник,
думала Оля, хватит с меня, и песку
понадобится еще машин десять, не меньше,
нет, нет, пора уходить, Туманов прав, я
— растяпа. И еще этот посетитель явился.
Ранний загар, здоровый румянец,
путешественник, странник, охотник...
свободный человек в независимой куртке...
Он, видите ли, пришел в музей отметиться,
свободы и тайги ему уже мало, он, видите
ли, к тому же и интеллектуал. Интеллектуал
из тех, кто открыто презирает москвичей
и столичную жизнь, считая ее суетной,
корыстной и далекой от природности. «У
каждого своя работа, — послала ему ответ
на второй этаж Оля,— я же вас не
презираю...»
Да нет,
все проще. Работает, наверное, где-нибудь
возле науки, живет в одном из академгородков,
в Серпухове или Пущине, а может, и дальше
— в Новосибирске или Красноярске. У
него жена и трое детей, подсчитывала
Оля, разглядывая булыжник: какой-то
идиот кинул туда цемент, оставшийся
после ремонта. Пройдет дождь, и все
пропало. В академгородках у всех по
многу детей, там легче растить. Днем
жена у него смотрит в микроскоп, ловит
свои микробы, а вечером собираются
все вместе, ужинают, болтают.
Семья.
Думалось об
этом приезжем очень конкретно. Увиделись
дома в Пущине, высокие башни из первых
построек, те, что стоят при въезде на
самой горе, увиделось окно на высоком
этаже, и из окна видна Ока, вся в отмелях
и петляет. В бесконечных излучинах,
когда счастливая семья под вечер
собирается дома, скапливаются тени,
и едва начинается закат, все розовеет,
лиловеет, гаснет, пока солнце не падает
в лес, тоже лиловый. Жена его почему-то
представилась ей высокой полной
блондинкой с тяжелым пучком волос на
затылке, ровной медлительной женщиной,
с такими же синими глазами. И оба,
синеглазые, смотрят друг на друга, и так
им спокойно рядом, что не надо разговаривать.
А вечером, когда они дружно уложат детей
спать и все затихнет в просторной
квартире, она подойдет в спальне к
зеркалу, посыплются шпильки из прически,
она гибко оглянется на своего синеглазого,
и дальше все совершится чинно и достойно.
Как у людей. Как давно уже не бывает.
...Историей заинтересовался, первым
этапом русского освободительного
движения. Все теперь кинулись в историю!
Отбоя нет! А нужно определить, кто с кем
был в родстве, скажем, в начале
девятнадцатого века, — казалось бы,
мелочь, пустяк, а проконсультироваться
не с кем. Да что там, не у кого даже
спросить, с какой стороны подступиться,
в каких справочниках и указателях
искать. А разговоров, разговоров
умных вокруг — невпроворот!
И у всех идеи, концепции, гонор! И в
стороне остается огромный
кропотливый труд,
знание подсобных
мелочей, из которых состоит основа
профессии. Вот где проблема, а не в
демонстрациях презрения к городской
культуре. Химеры,
которыми сейчас
многие заполняют жизнь...
Неужели и этот такой же? Серийный? С
серийными разговорами и серийной
судьбой?.. Живут они там, в своих городках,
со своими спокойными женами и здоровыми
детьми. А потом им становится скучно.
Кто разочаровался, кто не поладил с
начальством, а кто, напротив, достиг
вершин. А на вершине, на Шипке, как сказал
бы Сережа, нечем дышать, на вершине —
холод. А отступать некуда, не вниз же по
служебной лестнице, в самом-то деле?
Тогда они там, на своей малогабаритной
Шипке, находят себе развлечение,
хобби. Вот в музей пришел, заинтересовался
на досуге... Еще чаем угощала, разболталась,
доверилась, нет, хуже, хуже, он все
неправильно понял, неправильно, обидно,
оскорбительно, наконец. Ну да ладно,
сейчас я его быстро спроважу.
И Оля поднялась в кабинет. Он сидел в
прежней позе и мельком взглянул на нее,
едва она вошла.
— Я
обидел вас? — проговорил он и глупо
улыбнулся. — Я не хотел, право же. Просто,
— он помялся, — для меня этот ритуал
важен, мне бы не хотелось...— И он снова
оглядел ее, будто надеялся
расположиться в ее жизни, но собирался
располагаться основательно, по всем
правилам, не нарушая с самого начала.
Или все это ей
показалось?
—У вас
усталый вид. Разрешите снова наведаться?
У меня остался ряд вопросов.
—Заходите! — ровным голосом
ответила Оля и побежала к телефону:
конечно же это звонил Туманов.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
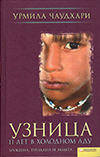
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





