ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
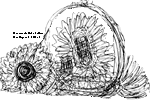


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Башкирова Галина
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Все эти дни Надежда Васильевна жила в ожидании того посетителя. Как он ушел из музея, она загадала: объявится через пять дней. Пятерка была ее заветным числом, наверное, из-за того, что Надежда Васильевна всю жизнь проработала в школе. Прошло пять унылых дней. Посетитель по имени Дмитрий Иванович не появился. Ничего, решила она, теперь придет на седьмой. На седьмой день его по-прежнему не было. Надежда Васильевна не то чтобы заволновалась, но заскучала: она тяжело переживала разочарование в людях.
Сидеть в ее залах в эти дни было темно и душно. В залах ее всегда была полутьма, а тут еще и окна закрыты. Ольга Евгеньевна приказала закрывать из-за тополиного пуха, чтобы не садился на экспонаты. Иначе, объяснила, у нас тополь спилят, как в других городах пилят...
Надежда Васильевна и кинулась спасать тополь: плотно окна закрывала и подметала без конца, когда никого не было. И наступала в ее залах зеленоватая тополиная полутьма. Надо же, думала она все эти дни, до чего техника развилась! Тысячу лет росли деревья, никому не мешали, а теперь обнаружился от них вред. А Людмила Прокофьевна из первого зала, как бывший врач, авторитетно высказалась, что ничего подобного, от тополя больше всего кислорода исходит, и порубка — очередное заблуждение...
Из-за закрытых окон стало не только душно, но и скучно. Надежда Васильевна любила летом слушать разговоры посетителей, которые сидели под ее окнами возле тополя, поджидая своей очереди в музей. Она незаметно подходила к окошкам и, прячась за занавеси, разглядывала лица. Какие только люди не приходили в музей! Она смотрела на них и воображала, кто откуда и у кого какая профессия. У одного в руках сетка с продуктами, у другого — связка детских игрушек, а однажды сидел на лавочке симпатичный паренек с двумя рюкзаками настольных электронных часов. Зачем ему столько, испугалась Надежда Васильевна, на всю бригаду купил одинаковые! И решила, что он с БАМа, строит железную дорогу. Часто сидели на лавках толстые тетки с апельсинами. Лето же, удивлялась Надежда Васильевна, земляника кругом, малина лесная, клубника огородная, смородина... и что это за мода пошла на заморский фрукт? Зачем они эти авоськи в деревню тащат, высохшие апельсины детям суют?
Но вот ведь что интересно. Как заходили в музей люди, так их было не узнать, будто и не бегали по магазинам, не стояли в очереди за апельсинами. Хорошие ли люди, плохие, «свои» или «чужие» (по тому, как она их обычно разделяла), все равно лица менялись, разглаживались. И как-то помягче становились посетители друг к другу: «Простите!», «Извините!», «Виноват!», «Нет, это я виновата!», «Вам не видно? Проходите!», «Да нет, вы проходите!» — приятно становилось смотреть на людей. Надежда Васильевна после этого всех прощала, даже толстых любительниц апельсинов. Нельзя никого строго судить, корила она себя, людям надо милосердие отпускать!
...Посетитель появился только на восьмой день, причем под вечер, часа в четыре. Как вошел в ее залы, так сразу направился к ней за печку: «Здравствуйте, Надежда Васильевна!» — и протянул руку.
И начался быстрый, беспорядочный разговор, словно знали они друг друга сто лет. Поначалу они топтались на месте, он большой, коренастый, она рядом с ним совсем себе казалась ничтожной. Разговаривать стоя было неудобно. Он усадил ее на стул, а сам прислонился к печке. Получилось еще неудобнее. Приходилось разговаривать громко, а громко Надежда Васильевна боялась — не хотела привлекать внимания. Она на цыпочках сбегала в соседний зал, где стоял свободный музейный стул, и предложила его Дмитрию Ивановичу. Очень хорошо они сидели и разговаривали хорошо, то есть посетитель был сегодня молчалив, говорить пришлось самой Надежде Васильевне, вернее, она задавала заготовленные к его приходу вопросы, но в форме восклицания.
— Ведь правда же, правда? — восклицала она, сидя за надежной броней своей изразцовой печки, прочно отгороженная стенами музея от неразберихи и сумятицы жизни.— Правда, они были совсем особыми людьми? Вы со мной согласны? — И кудельки у нее на голове подскакивали, и она требовательно заглядывала ему в глаза.— Правда же у них были совсем другие привычки? В поведении, я имею в виду, я в их понятиях не так уж разбираюсь.
Надежда Васильевна выждала паузу, надеясь, что он что-нибудь скажет. Но посетитель был в задумчивом настроении, и говорить пришлось снова ей.
— Знаете, как они родителей почитали? Один, не помню кто, забывать стала, знаете, почему он не был на Сенатской площади?
Дмитрий Иванович не знал.
— Потому что не мог оставить больную мать, обязан был с ней пообедать. Так у них было принято...— споткнулась она о непривычное слово.— После обеда уже мог уйти, а до обеда никак.— Она вопросительно поглядела на него, понял ли.—Такие у них были порядки! А вы читали письма из Сибири жены Никиты Муравьева? Все извинялась, бедная, что мученья родным доставила. Вот она,— Надежда Васильевна привстала было, чтобы показать портрет, но Дмитрий Иванович ее удержал.— Некрасивая, но приятная, правда? — голос Надежды Васильевны задрожал.— И так рано умерла! Я ее изо всех жен выделяю! — добавила она.
— Дружили они замечательно! — рассеянно сказал посетитель.
— Да, да! — с жаром подхватила Надежда Васильевна.— Одно слово, замечательно! Помогали друг другу. Все, и те, которых вы не любите, тоже, — добавила она.
— Это кого я не люблю? — с улыбкой поинтересовался он.
Надежда Васильевна застеснялась:
— Сами знаете! Молодой вы еще, не прощающий. Вы, наверное, Лунина любите! — утвердительно сказала она.
— Люблю!
— Но Лунин...—Надежда Васильевна запнулась. — Лунин, он же...— Она многое, так ей казалось, понимала про этих людей, но если бы кто знал, как трудно давались ей слова о них! Как слова не хотели собираться вместе. Старые слова, те, которыми она говорила всю жизнь, в применении к этим людям не годились, новых она не знала, вернее, уже знала, но не умела ими пользоваться и, когда применяла, стеснялась. Она боялась спутать, где делать ударения и как произносить то или иное слово. И вместе с тем было много чувств и понятий, которые не выразить теми словами, что употребляла она в прежней жизни. — Лунин, — продолжала мычать Надежда Васильевна,—Лунин...—и вдруг выдохнула:— Он святой! — глаза ее засветились. — Вы так не считаете?
— Пожалуй! — согласился с ней Дмитрий Иванович.
— Посмотрите! — Надежда Васильевна не удержалась, легко взмыла, воспарила со своего кресла.— Посмотрите на его лицо! — И, словно пролетев до стены напротив, она уже указывала тонкой ручкой на портрет времен ссылки.— Лицо у него, как у Дон Кихота. Его и сравнивали с Дон Кихотом. Я как прочла об этом сравнении, так сразу попросила соседскую девочку, чтобы она мне из библиотеки книжку принесла с таким названием. И я вам другое скажу, Лунин похож на... как его, ну, который «Дон Кихота» сочинил...
— Сервантес?
— Да, на него! Не замечали? Я сразу заметила.— Она робко взглянула на посетителя и нахохлилась, как обиженная птица.— Это я совсем недавно открыла, никому не говорю.
Она нахохлилась, маленькая серая птичка после быстрого высокого полета, и стала вдруг печальна: в самом деле, зачем полет, если некому рассказать о том, где летала. И этот единственный, кому доверилась, посетитель Дмитрий Иванович, кажется, не оценил ее открытия.
— В самом деле! — удивился посетитель.— Похожи!
— Одно лицо! — важно подтвердила Надежда Васильевна. — Лунин за всех решился пострадать, так он сестрице своей и написал... Екатерине Сергеевне,— подтвердила она именем достоверность своих сведений.— Ценой жизни правду открыл. Потому и считаю... святой! — Она помолчала.— Вы его письма из Сибири читали?
— Не читал! — признался посетитель.
— Ну и ничего,—успокоила его Надежда Васильевна,— у вас своя работа.— Она как бы увеличилась в росте и произнесла: — Царю в лапы так и просился! Отчаянный! — Тут она взглянула на Дмитрия Ивановича и заметила, что у него утомленное лицо.—Зачем вы встали? Садитесь, садитесь, а то я вас...— Надежда Васильевна попробовала на ощупь новое, недавно узнанное слово,— а то я вас увлекла.
И, снова усадив посетителя на стул, засадив в угол, чтобы, не дай бог, не ушел, склонившись к нему, Надежда Васильевна зашептала:
— Я вас вот о чем хотела спросить. Как вы относитесь к тому, что о них пишут? — И, прочитав в его глазах вопрос, пояснила: — Я имею в виду, в популярных книжках.
Посетитель неопределенно покачал головой...
— Я лично плохо!
Он кивнул. Но похоже, мысли его были далеко, и, скорей всего, он куда-то торопился. Но она так долго, так терпеливо его ждала. Она позволила себе не заметить его нетерпения.
— Некоторые книжки о них, уж очень они развязные! И еще берутся судить, — произнесла Надежда Васильевна с укоризной.— Такой был, не такой. Переборы им устраивают, трибуналы, — употребила она вроде бы знакомое, но давно позабытое слово. Или оно тоже было из вновь узнанных? — Они друг друга простили. Вам-то зачем лезть? И все-то у них получаются,— она снова поискала нужное слово, но не нашла и употребила привычное,— получаются виноватые какие-то. У всех грехи ищут. «Ищи вину в себе, а не в селе»,— заключила она.— Так-то вот! Я только документы теперь читаю! — похвасталась Надежда Васильевна.— И к ним пояснения. И оказывается, не грех, а ошибка... заблуждение! — попробовала она на вкус с недавних пор новое любимое слово.
Надежда Васильевна была возбуждена, щеки у нее горели, дрожали ноги, и сердце по временам останавливалось. Главное же, она беспрерывно менялась в росте — то выше, то ниже, то снова толчок изнутри — и вот-вот взлетит. И кружилась голова. Но Дмитрий Иванович, слава богу, не замечал.
— К Пушкину вы как относитесь? — задала она свой заветный вопрос.
Дмитрий Иванович как-то странно взглянул на нее, но не успел ничего ответить.
— Лично я больше всех его жалею! — со слезой в голосе воскликнула Надежда Васильевна.— Знали бы вы только, что о нем пишут! Вы не в курсе? Почитайте, не поверите! Всю его жизнь рассмотрели, как под микроскопом: где был, да с кем, да что на ушко прошептал. Будто под кроватью прятались, на эту, как ее, трансляцию записывали. И так прямо и передают, будто очевидцы. Дарья Фикельмон, слыхали? А Елизавета Хитрово? Эти еще ничего, приличные женщины. А Полетика Идалия? Эта плохая. Удивляетесь, откуда я их знаю? — сконфузилась Надежда Васильевна.— Я книжки о Пушкине все стараюсь читать... чтобы готовой быть, чтобы отразить...
— Да, сейчас у нас, у русских, популярны две национальные игры — хоккей и Пушкин,— рассеянно подтвердил Дмитрий Иванович.
Надежда Васильевна не очень поняла про хоккей, но решила на Дмитрия Ивановича не обижаться.
— Не поверите, сейчас посетители знают о Пушкине все, буквально все! И спорят и спорят про его знакомых,— жаловалась она,— особенно про его жену и сестер. Нервов слушать не хватает. Спрашиваю, а самого Пушкина давно читали? Давно, говорят, в детстве.
— Лучше бы изучением собственной родни занялись,— сказал Дмитрий Иванович.
— Вот именно,— радостно поддакнула Надежда Васильевна,— а то жужжат, жужжат целыми днями: кто, дескать, убил, царь или жена виновата?
— Обычная вещь — любовь к сплетням. Скандалы всегда привлекательны.
— Угадали, Дмитрий Иванович, точно угадали! Они всё больше про скандал с царем и Натальей Николаевной интересуются.
— Зачем авторам дешевых книжонок Пушкин, если можно найти в чулане пожелтевшие листочки и их опубликовать, и при этом сочинить еще детектив вокруг Пушкина,— вроде бы оживился наконец Дмитрий Иванович.— Таким методом нельзя сделать лишь одного — попытаться понять самого Пушкина. Ничего, милая Надежда Васильевна, скоро мода схлынет. Лет через пять еще, пожалуй, заинтересуются личной жизнью протопопа Аввакума.
— Я так скажу, Дмитрий Иванович, не знаю, кто такой Аввакум, а про царя я так думаю: кому какое дело?.. Зачем вам подробности? Погиб наш великий мученик, его книги и читайте, исполняйте его волю. Правильно?..
На глазах у Надежды Васильевны показались слезы от чрезмерного возбуждения. Она плакала и не могла остановиться, и надо было бы как-то скрыть эти слезы, но как? И вместе с тем она чувствовала, что уже не сможет взять себя в руки, что будет говорить долго и много, потому что надо успеть высказать Дмитрию Ивановичу все то, что накопилось за последние годы одиноких ночных мыслей. Иногда прочитанное так сильно на нее действовало, что Надежда Васильевна не могла заснуть, ворочалась, охала, включала свет, пила валерьянку, снова принималась за чтение, а потом, приходя в музей, пригревалась у своей печки и засыпала, и страшная женщина, Олимпиада, несколько раз заставала ее у печки и делала замечания...
Если бы был жив муж, если бы она могла тотчас же поделиться с ним своими открытиями, она бы, наверное, спокойнее и лучше спала по ночам... А иногда закрадывалось подозрение, что если бы Миша был жив и она бы ушла на пенсию, то сидела бы дома, ходили бы они с мужем гулять или ездили бы дышать воздухом в лесопарки, дремали бы под березой в Измайлове, и муж бы читал ей вслух газеты. Выходило: одно исключало другое, выходило, жив был бы Миша, не познакомилась бы она со многими живыми, а также давно умершими людьми и не сидел бы сейчас рядом с ней и не слушал бы ее такой приятный, культурный человек...
О муже она помнила всегда. Тем более что с тех пор, как в ее жизни появился музей, ей было что ему рассказать. Она пересказывала своему Мише буквально все. Каждую ночь она, можно сказать, вела с ним беседы. Она отчитывалась за день, оправдывалась перед ним, если забывала что упомянуть, извинялась. Прежде, до музея, рассказывать было не о чем. Музей, вот ведь странно, воскресил ей мужа, она перестала чувствовать, что Миша умер. Теперь ей казалось — встреча впереди, хотя в бога она не верила. Во сне ей часто снилось, что Миша ее не узнаёт. Она просыпалась в испуге, и оказывалось: болело сердце. Он звал ее, настойчиво звал к себе, а она все не шла, задерживалась, обнаружив, что у нее на земле дела.
Но как заставить себя отпустить этого посетителя, Дмитрия Ивановича? Вот он встанет, уйдет и, может, никогда не появится вновь. Что бы ему такое сообщить на прощанье?
Надежда Васильевна неожиданно для себя встала, затопталась по залу, полутьма придала ей смелости, она остановилась на секунду и вдруг запела, надтреснутым, тонким голоском, и, аккомпанируя ей, задрожали хрусталики на люстре, тонко-тонко, нежно, еле слышно. Она пела, маршировала, отчаянно размахивая ручками, румянец на щеках разгорался все ярче, и сердце, в перерыве между фразами, останавливалось. Но Надежда Васильевна не обращала внимания, кудельки на голове задорно подскакивали, тряслись, распушались, Надежда Васильевна вновь почувствовала, что увеличивается в росте.
— Этот марш они любили...— пояснила она и снова зашагала, начав петь сначала, ибо чувства ее не успели выплеснуться.— Песню эту мало кто знает,— счастливо приговаривала Надежда Васильевна, и в этот момент, случайно повернувшись, в зеленоватой полутьме зала увидела стоявшую в дверях Олимпиаду Петровну. На лице Олимпиады, тоже зеленом, застыл неподдельный ужас, из чего Надежда Васильевна заключила, что стоит злодейка здесь уже давно и давно за ней наблюдает.
— Ну вот и все! — повернувшись спиной к Олимпиаде и слегка задохнувшись, проговорила Надежда Васильевна. — Такой у них был гимн! — И, подойдя поближе к Дмитрию Ивановичу, нашла в себе силы улыбнуться и только тогда обернулась и подняла на Олимпиаду непримиримые глаза.
Но Олимпиада уже исчезла.
2
Длинными скачками неслась Олимпиада Петровна по полутемным залам, досадуя, что мешает узкая юбка. Сколько лет прошло, так и не привыкла она к узким юбкам, спотыкается, когда торопится. Нет, она подозревала, она догадывалась, но чтобы до такой степени... Пора наконец открыть директору глаза, хотя та всегда Надежду защищает. Олимпиада Петровна заподозрила неладное, когда посетитель (она приметила его еще с прошлого раза) исчез и не появился через час: все ясно, Надежда с ним разговаривает. Олимпиада Петровна беззвучно, на цыпочках, нарушив инструкцию, покинула свое место и подкралась к залам Надежды Васильевны. Она заранее отрепетировала, как себя поведет: подойдет, прервет разговор, одернет старуху, затем извинится перед посетителем за поведение персонала, затем вернется к себе и напишет докладную Ольге Евгеньевне. Но чтобы танцевать, чтобы песни петь замогильным голосом, чтобы людей пугать!..
— Ольга Евгеньевна! — пробормотала Олимпиада Петровна, задыхаясь.— Там, там... там Надежда Васильевна... поет!
— Как поет? — не поняла директор.
— Этому, посетителю, помните, приходил недавно, высокий, в куртке... она ему поет! — и Олимпиада перевела наконец дух.
— Что поет? — снова не поняла директор.
— И пляшет!
— Олимпиада Петровна, объясните членораздельно! — холодно сказала директор.
И Олимпиада Петровна, внезапно успокоившись от обидного слова «членораздельно», высказала все, что думала.
— Что будем предпринимать? — официальным голосом закончила она.
— Когда посетитель будет уходить, пригласите его ко мне,— только и сказала директор.
3
Появился в музее и не зашел, вот ведь какой характер! Зачем он сюда ходит? Казалось, она совсем о нем забыла, будто и не сидел он на диване, и не пила она с ним чай... Старушка ему пела, до чего забавная старушка! Интересно, что она ему пела? Может, Олимпиаде показалось?
И, поджидая гостя, Оля принялась мечтать, как она избавится от Олимпиады. Мысли об Олимпиаде ее несколько отвлекли, И все равно она невольно прислушивалась к голосам внизу, ей слышались шаги на лестнице... Она поймала себя на том, что встала и посмотрелась в зеркало, потом как-то само собой причесалась и подкрасилась. Снова поглядела в зеркало. То, что она увидела, ей не понравилось: глаза ввалились и седые виски. «Седая девушка! Ты помнишь этот китайский фильм? — недавно кричал ей Туманов, когда она сказала, что собирается на пару дней смотаться на Украину помочь открыть музей на общественных началах.— Это же несерьезно. Там же ни одного экспоната нет! Что за дешевый романтизм! Взгляни на себя в зеркало! У тебя же голова седая! Седовласая энтузиастка!» В самом деле, пора начать собой заниматься, думала Оля, массируя морщины возле глаз. Нет, но в какую недобрую минуту возникла в музее Олимпиада? Позвонить, что ли, Туманову, посоветоваться? Она подошла к телефону, начала набирать номер, но, вспомнив, как он сбежал, оставив ее с Юрой разговаривать о кострах и ведьмах, передумала и повесила трубку.
Оля снова села за свой стол и попыталась сосредоточиться на статье из свежего номера журнала. Статья была посвящена мемуарам Сергея Волконского. Автор ее осторожно намекал на то, что Александр Христофорович Бенкендорф, как выясняется, был вовсе не таким плохим, как это принято считать,— не хладнокровный душитель, не расчетливый подлец. Спокойный человек, достаточно образованный, достаточно гуманный. Надо к тому же не забывать, что он герой Отечественной войны и заграничных походов, что награжден за храбрость золотой шпагой с алмазами, что во главе Третьего отделения стал исключительно из любви к Отечеству, что вообще Третье отделение задумывалось совсем иначе, недаром Николай Павлович при его основании поминал о платке, утирающем слезы вдовиц, о борьбе со взятками, о слуховом отверстии, куда можно пожаловаться на злоупотребления, ведь Бенкендорф на новом посту получал право ежедневного доклада царю. Надо не забывать, что Александр Христофорович действительно всей душой радел за порядок в Российской империи, и утирал слезы вдовиц, и даже помогал некоторым декабристам, во всяком случае семье декабриста Сергея Волконского, о чем и вспоминает в своих пока не опубликованных мемуарах князь Сергей Григорьевич. Дальше шли цитаты... Все так, но можно ли забывать, что дочь Бенкендорфа вскоре после событий четырнадцатого декабря вышла замуж за сына сестры Волконского и тем самым они оказались в близком родстве, а родство, как известно, иногда обязывает — даже шефа жандармов.
Нет, Оля была не против того, чтобы черно-белые, плакатно злодейские фигуры по ходу развития исторической науки усложнялись, теряя свою одномерность, но оправдание под флагом объективности... Она не могла объективно относиться к Бенкендорфу, хотя бы за Пушкина, за то, что выпил у него столько крови, хотя бы за мелкую, неотступную слежку за декабристами, за весь этот ворох подловатых бумаг, видимо мало интересующих тех, кто ратует за объективность, хотя бы за фразу о детях, родившихся в ссылке: «Для детей нельзя построить помещение, ибо нельзя знать, сколько будет сих несчастных жертв любви необдуманной». Впрочем, не мог же он знать, что одна из несчастных жертв необдуманной любви Миша Волконский, любимый ученик государственного преступника Михаила Лунина, вырастет и женится на внучке Бенкендорфа, дочери той самой дочери, что была замужем за племянником... С родней Бенкендорфу не везло.
Оля отложила статью и задумалась. И снова вспомнила давешнего посетителя. «Развлекалочки» себе устраивает, Надежда Васильевна ему что-то поет. Вряд ли он даже догадывается о разноголосице идей и мнений, которые бытуют сейчас вокруг исторической науки, не внутри нее, а именно вокруг. И Бенкендорф неплохой, и Дубельт подходящий, и Булгарин вроде ничего, за руку не пойман. Откуда возникла эта попытка облагородить тех, от кого во все века отворачивались порядочные люди? Откуда это холопство, эта тоска по арапнику, этот рабий восторг, что душа начальства пусть и сурова, но сложна ?
У Оли стремительно портилось настроение, как портилось оно всегда, когда она сталкивалась с подобными публикациями. Этот рабий восторг был оскорбителен для памяти сосланных, погибших, измученных, надорвавшихся, и всякий раз к очередному унижению или катастрофе прикладывал руку милый, обаятельный человек вроде Александра Христофоровича или Леонтия Васильевича — не позволить, не разрешить, отложить просьбу на неопределенное время. История конкретна, историк имеет дело с конкретными фактами. Факты складываются в судьбы близких, давно ставших родными людей. И Оле бывало больно за этих людей, как стало сегодня больно за Сергея Волконского, которого тоже надо было постараться хорошенько понять — с его ранним генерал-майорством, участием в пятидесяти восьми сражениях, с его представлениями о фамильной чести, со слабыми легкими и накладными зубами... «Лицом чист, глаза серые, волосы на голове и бровях темно-русые»,— вспомнился Оле список жандармских примет. Лицом чист... душой тоже чист, но из этого нельзя делать прямого вывода о том, каким замечательным человеком был Александр Христофорович Бенкендорф. Историк такой вывод делать не вправе.
«Возьму и напишу автору публикации письмо,— решила Оля,— нет, но зачем? Получится, что я, как курица, защищаю своих. Это даже смешно, кто я такая? Вот если бы мне степень...» Каждый раз, когда она сталкивалась с подобными статьями, было неясно, что предпринимать. Разумеется, пусть потомки знают: да, хвалил Бенкендорфа, да, был благодарен, да, быстро раскаялся на следствии. Но разве это главное? Разве ради этого была прожита длинная, мучительная жизнь? Разве этому поклонился Герцен? Разве из-за этого начал писать свой роман «Декабристы» Лев Толстой? Есть что-то высокое, что выше нас и наших жизней, есть копилка человеческого бескорыстия, которая, постепенно наполняясь, делает мир лучше, и Сергей Волконский и его друзья, несмотря на их разнообразные и не всегда привлекательные слабости, внесли в эту копилку огромный светлый вклад. А эти, что сделали они, какой медный грошик, полушку, копеечку кинули на алтарь Отечества? Никакой пользы, один конкретный, охранительский вред. Счета? Пожалуйста! Оля могла бы предъявить счета. Пачками. Только начни. «Но ведь меня никто не спрашивает, — подумала Оля,— в самом деле, кто я такая? Никто. Да, надо защищать докторскую, с ее авторитетом мне будет проще».
Никто не приходил, внизу по-прежнему было тихо. Слышно было только, как рабочие укладывали во дворе дорожки из булыжника и негромко поругивались, очищая его от цемента. Миша велел проследить, чтобы рабочие не схалтурили и полили его водой, прежде чем засыпать песком. Сбегать проверить? Нет, лучше сейчас не выходить, не стоит попадаться на глаза Олимпиаде.
4
...Олимпиада Петровна появилась к ним с улицы, по объявлению. Пестрое платье, пегая голова завита в стиле «афро», черные тусклые глаза, густо насурьмленные брови, большая, волевая челюсть.
Она принесла документы: бывший бухгалтер, ныне пенсионерка, живет недалеко, на Метростроевской, готова работать счетоводом, бухгалтером, смотрителем, кассиром, какая отыщется должность... Одинока, живет в общей квартире... Тут Олимпиада Петровна замолчала и принялась шумно вздыхать. Лицо ее длинное и на удивление некрасивое, задрожало, заходила вверх-вниз крупная, кое-где проросшая волосами челюсть. Нина Михайловна, присутствовавшая при разговоре, принесла ей стакан воды. Олимпиада, отставив мизинец, отпивала воду по глотку, как в гостях чай пила, и слышно было, как зубы ее постукивали о край стакана.
Оля прислушалась, внизу никакого движения. О чем она думала, принимая ее на работу? Ведь предупреждал же, предупреждал ее Туманов, чтобы она осторожно набирала кадры!
...К тому моменту место кассирши две недели пустовало. В одночасье умерла тишайшая Мария Степановна, маленькая, круглая, с вечным вязаньем в руках, с вечным пуховым платком на плечах, с улыбкой, которая растапливала сердца членов самых высоких и строгих комиссий. Комиссии отмечали неполадки, недостатки, советовали перевесить портреты, добавить кое-что или убрать, но, уходя, оглядываясь на Марию Степановну, сидевшую в кресле с неизменным чулком в руках, посматривая в окно, выходившее во двор, где тетя Поля, все точно подгадав, особенно лихо и весело размахивала метлой, члены комиссий начинали улыбаться и напоминать друг другу, что надо непременно упомянуть в отчете о теплой, уютной атмосфере, которая за короткий срок образовалась в музее.
И в самом деле, обе старухи, сами о том не догадываясь, сообщали небольшому деревянному особняку иллюзию старой московской усадьбы, небогатой, опрятной, достойной. По сути дела, и тетя Поля и Мария Степановна, ничуть не подлаживаясь к палевому домику и не догадываясь о том, что к нему возможно подлаживаться, самим своим присутствием невольно домик этот одушевляли, превращая его в живой музей.
И Олимпиада утвердилась в кресле покойной Марии Степановны, развалюшном, старушечьем кресле, извлеченном из запасников. И тщательно завитая пегая голова ее начала с огромной скоростью поворачиваться вслед за посетителями, словно она принялась отсчитывать их на каких-то своих внутренних бухгалтерских счетах, с которыми так и не рассталась. Острым взглядом, свирепой челюстью и елейно-покорным голосом, с наличием челюсти отнюдь не совпадавшим, с ярко-лиловыми ирисами на платье, ворвавшимися в музей из другой вселенной, Олимпиада Петровна тем не менее легко и быстро освоилась со своими нехитрыми обязанностями и выполняла их четко и ловко. Но... но как бы это сказать, интерьер был разрушен, запахло коммунальной кухней, толпой на улице, очередями. Ее невзлюбили все. И странное дело, наиболее яростно тетя Поля, казалось бы родная сестра по духу и происхождению. «Пиковая дама проклятая»,— ворчала тетя Поля, имея в виду замысловатую прическу Олимпиады и ее зловещую худобу. Социальное происхождение Олимпиады, графиня та или кухаркина дочь, тетю Полю не волновало. «Змея подколодная, смотрит на тебя, Евгеньевна, будто волком обернется, и придется тебе самой волком выть за свою простоту». Тетя Поля высказывала неудовольствие новой сотрудницей довольно громко, во всяком случае не таясь. Однажды же, в сердцах, что-то они там внизу не поделили, и тетя Поля поднялась наверх жаловаться, она прервала на полуслове свои обличительные речи, на сей раз что-то вроде того, что таких Олимпиад на своем веку она навидалась и хорошо изучила и помнит, чем они прежде занимались, ее, тетю Полю, силком заставляли, а такие Олимпиады сами лезли, и надо их век опасаться, тетя Поля вдруг вскочила с кресла, добежала вниз почти до середины лестницы и прокричала: «Сказала бы словечко, да волк недалечко» — и, неторопливо возвратившись обратно, уселась в кресло, подняла смеющиеся глаза: «Вот как с такими надо! Оскорбила, а не пожалуется». А на просьбу директора не дразнить нового человека ответила загадочно: «Погодите, вы еще увидите!..»
И они увидели. Однажды зимним утром, придя на работу, как обычно, к десяти, они увидели.
Дверь в зал, где проходили заседания и концерты открыта, слабое декабрьское солнце подсвечивает потолок, мягко освещает картины. А в кресле у входа в зал, тоже освещенном солнцем, помещается нечто почти неотличимое по стилю от картин на стенах, от тихих витрин, прикрытых в этот час зеленым сукном, от хорошо натертого, старинной выделки паркета. Это «нечто» казалось бы манекеном, чьей-то громоздкой шуткой, если бы не напряженный взгляд угольно-черных глаз, глядевших из-под накрашенных до карикатурности густо и сложенных в трагическом изломе бровей. И, поглядев на нее, плоскую как жердь, в черном длинном костюме, в черных туфлях лодочкой, неумолимую, несгибаемую, величественную, с коротко остриженными, абсолютно прямыми волосами, с лицом иссиня-бледным, Оля пришла в восторг, так это было талантливо задумано и воплощено. Пусть с некоторыми передержками, зато сразу и навсегда.
Всего лишь несколько месяцев понадобилось Олимпиаде, чтобы, оказавшись среди них, присмотревшись к их обиходу, сбросить свой старый облик, как змеи меняют кожу. Должно быть, бегала по другим музеям, приглядывалась, прочесывала последних арбатских старушек и — парадоксы судьбы! — успешно напялила на себя наряд женщин, искренне ею презираемых и, судя по ее многочисленным высказываниям, гонимых в течение достаточно долгой, неприкаянной и полной злобы жизни. Кудри свои Олимпиада остригла, наверное, в салоне на углу Сивцева Вражка. Постричься там постороннему человеку трудно, у каждого мастера свои клиенты, запись заранее, за неделю. Олимпиада, наверное, вошла, и ее забавы ради, гоняли от мастера к мастеру, сначала по первому этажу, потом по второму, но она шла, непреклонная, с невозмутимой улыбкой, не замечая насмешек, и добилась в итоге своей цели.
Что ж, они-то
еще ничего не знали! В женщине с пегими
кудрями, в дурно сшитом фабричном
платье и выцветшей кофте они не могли
прозреть новую Олимпиаду. Они-то не
знали, что на кровати в комнате на
Метростроевской на белом покрывале уже
разложен вычищенный в чистке, подогнанный
по фигуре чудесный черный костюм с
бархатными манжетами, они-то не знали,
что она сняла с книжки двести пятьдесят
рублей и купила у старухи, соседки по
дому, нитку жемчуга. Они-то не знали, что
все устроилось, даже жемчуг, стоило
только захотеть. И устроилось очень
просто.
Олимпиада подошла к старухе соседке, когда та брела с палкой из овощного, тащила сумку с цветной капустой (нет чтобы с простой, все фокусы!), и предложила помочь поднести. Старуха, Наталья Николаевна, испуганно на нее поглядела, но сумку поднести позволила, видно совсем сдавать стала. Олимпиада помнила ее с начала войны, когда в одно лето у старухи убили в ополчении мужа и сына. Сами навязались, оба были очкарики, никто их на фронт не призывал. Соседи узнали об извещениях; домком предложил Наталье уплотниться, отдать одну из двух занимаемых комнат, некоторые соседи возражали против такого решения, говоря, что можно бы и подождать, не трогать комнату погибших до тех пор, пока у Натальи Николаевны не затянутся раны. А Олимпиада, нет, она была тогда, помнится, на стороне домкома, она выступила, молодая была, энергичная, и сказала, что у всей страны раны и некогда ждать, пока они затянутся у отдельных граждан. Наталья сидела в подвале на собрании, когда решался вопрос, и, кажется, если память Олимпиаде не изменяет, хлопнулась в обморок. Нервы у нее не выдержали слушать правду. Сорок лет с тех пор прошло...
Олимпиада
донесла, значит, ей сумку до подъезда и
солидно так, невзначай, будто дело
привычное, поинтересовалась, нет ли у
Натальи Николаевны жемчуга, и если есть,
то она, Олимпиада Петровна, так и
представилась, Олимпиада Петровна,
могла бы купить. Старуха поглядела на
нее испуганно, голова у нее затряслась,
и она призналась, что сохранилась у нее
нитка, подарок покойной мамы. И она еще
подумает, но возможно, с этой ниткой и
расстанется, хочется ей последний раз
съездить к морю, в Ялту. Как она доберется
до Ялты, Олимпиада не представляла,
совсем трясучая стала старуха, но она,
сделав паузу, вежливо попросила
разрешения зайти. Наталья Николаевна
разрешила, хотя с того дня, как обсуждали
ее в войну на домкоме, ни разу с Олимпиадой
не поздоровалась. Олимпиада зашла. А
еще через вечер жемчуг был ее. Наталья
просила четыреста, говорила, жемчуг
редкой формы, антиквар так оценил.
Олимпиада молча выложила двести
пятьдесят: «Больше нету». И Наталья,
боязливо взглянув на нее, взяла деньги.
Об Олимпиадином внезапном превращении много говорили тогда в музее, Туманов сулил от ее прихода неисчислимые беды и ругал Олю за то, что она не показала Олимпиаду ему.
— Эти беспощадные глаза робеспьеровских вязальщиц, — говорил он тогда,— эта челюсть, от которой содрогнется сердце, эти жесткие складки у рта. Оля, ты меня изумила! Как можно руководить людьми, не будучи практическим физиономистом?
— Тебя же привлекает в истории подобный тип женщин, — возражала Оля.
— Какой тип?
— Ну, этот...
— Не до истории, Оленька, тут жизнь, твоя жизнь, и она меня волнует. Ты величайшая путаница! Пойми, наконец, то, что хорошо в одном веке, пагубно в другом, характер, надобный во времена исторических катаклизмов, вредоносен и труден самому себе в мирное время. Ты поняла меня?
— Ну конечно,— отвечала Оля.— В мирное время славной старушке приходится портить глаза, сочиняя кляузы.
— Представь себе, да! — с жаром сказал Туманов в тот самый первый раз, когда из министерства переслали копию докладной Олимпиады — «Предложения по улучшению оргработы в музее». Это было как гром среди ясного неба — на Олином столе (она как раз занималась переатрибуцией одного портрета, и стол был завален фотокопиями) поверх портрета, фотокопий, книг в закладках, как бы перечеркивая все сразу, лежала эта подлая, коряво составленная бумага, на которую следовало что-то отвечать, и отвечать по пунктам. Оля села, прочитала, потом перечитала еще и еще раз и заплакала, потом встала и заперла дверь на ключ. Потом позвонил Туманов. «Я сейчас приеду»,— поспешно сказал он, узнав, в чем дело. И через полчаса поскребся в дверь и тут же принялся ее успокаивать на свой лад, иронизируя надо всем сразу — над Олиными слезами, Олимпиадой, министерством, музеем.
— Да подними ты наконец голову от этой несчастной бумажонки, чисто практически чем она может тебе повредить? Безграмотная, нелепо составленная бумага, касающаяся мелочей, в которых никто не станет разбираться. Успокойся.
— Мне неприятно.
— Допускаю, вполне допускаю. А теперь давай посмотрим на всю эту историю с другой стороны, попытаемся увидеть случившееся писательским взором.
— Что ты мне зубы-то заговариваешь? — возмутилась Оля.—Какой я писатель?
— Я тоже не писатель, но художественное видение мира очень помогает. Давай посмотрим на Олимпиаду глазами художника. Искусство всегда адекватно, художник болеет сердцем за малых сих, даже если он описывает последнюю тварь. Это аксиома, Оленька, не правда ли? Так вот, Олимпиада и ее метаморфозы. Она оказалась чудовищно, невообразимо для ее возраста восприимчива. Она нашла в себе силы слепить новый облик.
— При чем тут эта бумажка?
— При том! Олимпиада рассчитывала, что вы ее признаете, полюбите, обласкаете. А вы?
— Что мы?
— В том-то и дело, что ничего. Вот в Олимпиаде и заговорило оскорбленное самолюбие. И что ей оставалось делать? Весь ее предшествующий опыт, так сказать, подсказывал, что, если человека не уважают, надо сделать так, чтобы его, по крайней мере, боялись, то есть учитывали. Вот она и повела себя так, чтобы вы ее учитывали.
— Слушай, ты черт-те что говоришь!
— Я? Я выступаю всего лишь адвокатом. Олимпиада — человек, она жаждет признания. И она права. Она облачилась в дурацкие одежды, она принесла себя в жертву для вас же, для этих стен, для вашего прекрасного старого дома. Ради вас, ради признания среди вас она научилась говорить тихо. Превозмогая себя, она вежлива с посетителями. Она вежлива с тобой, которую ненавидит. Думаешь, ей легко?
— А нам с ней легко?
— Да послушай ты меня наконец! Я исхожу из особенностей ее характера. Олимпиада типичная общественница. Всю жизнь она занималась устройством чужих судеб. А ее даже ни один завалящийся мужичонка так и не взял в жены. А темперамент сама видишь, какой!
— Лавина,— горько сказала Оля,— поздно я это поняла.
— Ничего, люди не горы, люди все выдержат, не робей! Слушай, неужели ты по документам не определила, кого брала на работу? Неужели тебе незнаком этот тип людей? У нас в институте мало, но есть. Это, кстати, вообще типаж вымирающий, советую обратить самое пристальное внимание, среди молодых такие фигуры встречаются редко. Активисты по призванию. Кто-то должен дежурить по праздникам, когда все гуляют. Вопрос: кто? Ответ: тот, у кого нет семьи. Кто-то должен заседать, распределять путевки, тратить, одним словом, время. Опять-таки кто же это? Кто на это идет? Не время от времени, а всю жизнь! Ответ все тот же. И человек, который согласен выполнять за товарищей по работе их общественные поручения, обретает над ними тем самым власть, разве не так? Ваша Олимпиада привыкла властвовать, так сказать, в микромасштабе. Пойдем дальше, по стопам ее собственных рассуждений. Она же жизнь отдала людям! Долгую жизнь! И вот представь себе минуту, когда эта жизнь для других становится ей невмоготу. И она уходит на пенсию. Она хочет пожить наконец для себя. Но пенсия маленькая. Скучно. Мысли одолевают. Никому не нужна. Власти никакой. И она ищет работу. Лифтером? Как ваша тетя Люба, о которой ты мне рассказывала? Это Олимпиаде не подходит, сидеть в темной диспетчерской с темными людьми — это подходит тете Любе, баронессе по происхождению, тете Любе это не низко, любая работа ей годна, на то она и баронесса. Олимпиада не может позволить себе то, что может позволить тетя Люба. Что еще остается? Уборщица, дворник — ни в коем случае! И она заходит к вам в музей — маленький, домашний, особенный, отличный от той жизни, которую она до сих пор знала, и, представь... влюбляется. Ей у вас нравится. И ей везет — есть место. Ее берут. И ей хочется быть с вами. А вы ее отвергаете. Вам она несимпатична. Тогда она постигает — огромный шаг вперед! — что она чем-то не подходит. Что именно в ней вас не устраивает? Манеры? Представления о жизни? Это ей и в голову не приходит. Тут и разворачивается шекспировская трагедия, неужели ты не ощущаешь ее масштабов? Разлад с миром — это у нее впервые. Разлад со временем — она всегда шла в ногу, а тут — ну что ты смеешься,— досадливо отмахнулся он,— что ты заливаешься? Ничего смешного не вижу; впрочем, это у тебя нервное... А тут, куда ни ступи, как ни старайся (а как Олимпиада, должно быть, старалась, как себя усмиряла!), тут всё не так, всё не в ногу, всё некстати. И она заключила, что дело в ее внешности. Ее внешность портит вид храма. И заметь, она это признала. Далее следует поистине шекспировский жест отречения — она сбрасывает привычные одежды и облачается в обветшалые лохмотья... Она готова смириться, как смиряется король Лир.
— Ах, Саша,— все больше смеялась Оля и никак не могла остановиться, — ну ты скажешь... король Лир!..
— Тебе просто не дано вчувствование в другого человека, — отвечал он,—в каждом из нас бушуют страсти, равновеликие страстям героев Шекспира, невысказанные, потаенные. Олимпиада, обрекшая себя на жизнь музейной мыши, разве это не поступок, не масштаб незаурядной личности? Она крупный человек, уверяю тебя!
— Ты судишь по ее кляузе? — сразу соскучилась Оля.
— Что ты понимаешь в доносах, девочка? — Туманов вздохнул, покачался на каблуках, прошелся по кабинету. Эффектная худощавая фигура в безукоризненно сшитом костюме хорошо смотрелась на фоне маленьких музейных окошек. — Что ты в них понимаешь, милая? К счастью, ты человек иного поколения. Настоящую неприятность, влекущую за собой в прошлом некоторые, так сказать, последствия, ты не в силах отличить от вполне невинного самоутверждения.
— Ты меня уже успокоил, хватит!
— Ну смотри, я пытался тебя предупредить. Оля, возьми себя в руки,—снова начал он,— ты же администратор! Ты обязана переговорить с Олимпиадой, — он посмотрел на нее почти просительно. — Я советую тебе, поговори с ней, поблагодари...
— Что-что?
— Я говорю, обезоружь ее, начни с ней игру.
— Ты это в серьез?
...Молодой Пушкин смотрел на Олю, чуть пониже улыбался Якушкин-младший, а чуть сбоку глядел худенький старичок болезненного вида. Старичок Иван Иванович Пущин все понимал, все знал и всем помогал. Эти двое, старый и молодой, объединившись, заботились об оставшихся в живых декабристах, о том, чтобы память о них не была замутнена никакими случайными обстоятельствами. И прошло больше ста лет, несколько эпох сменили одна другую. И вот теперь память об этих людях, материальную, зримую память, сохранившиеся предметы их быта, письма, бумаги, портреты, книги — все это — какое необъяснимое, незаслуженное счастье! — поручено хранить Оле. Ей поручено хранить, ей повезло. Хранить — значит оберегать. Оберегать их память не от забвения, нет, забвение им не угрожает, оберегать с самых разных, порой неожиданных сторон, в том числе от окаянства пошлости и плебейства. Хотя бы на этот счет в своем музее Оля до сих пор могла быть спокойна.
Хранить и оберегать... ей повезло. Но нельзя же просто хранить, просто перебирать инвентарные карточки, нельзя же просто бездумно и привычно прикасаться к вещам, бумагам, портретам, письмам... Вещи при этом что-то источают, передают, письма чему-то учат. И чем больше проходило лет, тем больше удивляло Олю то обстоятельство, мимо которого она незаметным образом проходила в молодости, — старые бумаги, письма учили ее чему-то конкретному. Совсем другие люди, совсем другие, чрезвычайные обстоятельства, но, оказывается, уроки их конкретны для отдельных случаев самой обычной, прозаической, бессобытийной жизни. Сколько бы Оля ни читала документы, всякий раз — свежо и пронзительно — ее поражало одно — чистота голоса. Никакой пустой, необязательной болтовни, никаких сплетен, никакой взаимной озлобленности, мелочности, брюзгливого раздражения, зависти, обиды. А ведь в Петровском Заводе жили очень тесно, теснее тесного, а ведь потом почти четверть века тоже прожили очень по-разному, кто почти нищенствовал, а кто не знал нужды, окруженный комфортом, о котором позаботилась богатая родня в России. Все было непросто, существовало, видимо, множество тайн, которые так и остались сокрытыми, было много претензий друг к другу, не могло не быть,— но какая культура чувств, какой тон благородства!.. И это был один из главных источников, в котором Оля в последнее время черпала силы — терпимость, вернее, попытку терпимости, ежедневное усмирение себя, недопустимость к хорошему человеку предъявлять максималистские требования, ведь и хороший человек хорош в быту в полосочку или в рубчик. Святых нет. Это они понимали. Это они знали. А может быть, открывали постепенно, может, это и стало уроком той судьбы, когда жизнь меряется более высокими обстоятельствами? Для Оли, во всяком случае, их эпистолярное наследство стало ежедневной поддержкой на трудном пути самовоспитания — терпимости, элементарной бытовой уважительности к людям, к тому, что у каждого свои привычки, а если по-другому сформулировать, то и свои недостатки.
...Портреты на стенах глядели на Олю притихшие, беззащитные, и что ей было делать?
— Ну что ты на них смотришь? — перехватил ее взгляд Туманов.— Чем они тебе помогут? Это ты обязана им помогать. Да, вот еще одна мысль,— глядя на те же портреты, сказал он. — Постарайся объяснить ей...— он щелкнул пальцами,— впрочем, это трудно... хотя, может быть, она и поймет, она же понятливая, объясни ей,— повторил он и кивнул на портреты,— что человек ее нынешнего положения, облаченный в одеяние благородной дамы, ну, словом, ты понимаешь, что я хочу сказать...
— Нет, — призналась Оля.
— Очень просто, объясни ей популярно гипотезу ролевого поведения человека: раз она в роли дамы, значит, ей недозволено писать нечто, хотя бы отдаленно напоминающее кляузу. Пусть Олимпиада это усвоит. Даму украшает покорное следование собственной участи, дама может и пострадать. Ты способна донести до нее эту деликатную мысль? Главное сейчас в ее положении — до конца осознать свою роль, не только внешнюю, но и самую трудную ее сторону — внутреннюю.
— Ты считаешь, стоит попросить ее больше на меня не писать? — переспросила Оля.
У него дернулся глаз.
— Ну что с тобой разговаривать? Болван я, ты ничего не поняла. Но имей в виду, Олимпиада может причинить тебе массу неприятностей.
Прошло минут десять после явления Олимпиады. Внизу по-прежнему было тихо, и никто не приходил. Посетитель, должно быть, ушел, оставив старушку на растерзание Олимпиаде. Теперь директор обязана спуститься вниз и принять свои меры. Оля прислушалась: кто-то поспешно поднимался по крутой лестнице.
— Евгеньевна, Надежде Васильевне «скорую» вызвали! — выдохнула тетя Поля.
5
Надежда Васильевна лежала на музейной софе. Под ноги ей кто-то сунул газету, голова покоилась на свернутой кожаной куртке. Глаза были закрыты, одна рука беспомощно свешивалась вниз, другая лежала на груди. «Как у покойницы»,— с ужасом подумала, подходя, Оля. Рядом с софой стояли и громко шептались Олимпиада и давешний посетитель. «О господи! — подумала Оля.— Час от часу не легче!»
Он оглянулся на ее шаги, покраснел, опустил голову, потом посмотрел Оле в глаза.
— Что случилось? — чужим голосом спросила Оля.
Кажется, он двигался ей навстречу.
Она протянула ему руку. Рука у него была большая, с бугорками мозолей на ладонях, рука не пожала ее руку, а согнула ладонь и вобрала в себя ее кулак. «Не волнуйтесь»,— сказала ей его рука. Кулачок ее, жалуясь, дрогнул. Руки их договаривались независимо от них, но глаза его смотрели на Олю сердито.
— Что случилось? — еще раз переспросила Оля, глядя на Надежду Васильевну. Лицо старушки было бледно. Тонкие ножки в белых носках казались совсем детскими, должно быть, потому, что лежали на газете, как это бывает в детстве, когда ноги мыть лень, а с грязными ложиться не положено. Сама Надежда Васильевна, по малости роста, в зеленых сумерках комнаты казалась заснувшей девчонкой: напрыгалась, наскакалась и заснула в неудобной позе.
Посетитель поднял упавшую руку Надежды Васильевны.
— И все же так разговаривать нельзя! — продолжал он, обращаясь к Олимпиаде Петровне.—Так нельзя разговаривать с людьми! — повторил он сердито.
— Инструкция! — ответила Олимпиада и угрожающе выдвинула челюсть. — Откуда я знала, что ей станет плохо?
— А вы думали, ей станет после ваших слов хорошо? Какое вам дело до того, о чем мы говорили? Вы подслушивали. Я и в первый приход это заметил.
— Инструкция! — повторила Олимпиада и взглянула на Олю.—Инструкция директора.
— Наплевать мне на ваши инструкции! — громко сказал посетитель, и слова его были услышаны в соседнем зале, где собрались смотрительницы и бушевала тетя Поля.—Вы разговаривали недопустимым тоном! — продолжал он.
— Именно что недопустимым! — подтвердил соседний зал голосом тети Поли.— Хулиганка!
Олимпиада Петровна, как за якорь спасения, схватилась за нитку жемчуга на шее.
— Ольга Евгеньевна, прошу вас объяснить товарищу посетителю правила поведения в музее! — обратилась Олимпиада к директору и вытянулась во фрунт. И, тощая, в черном костюме-балахоне, сразу стала похожа на старого верного лакея. Седые стриженые волосы не разрушили сходства — лакей, ввиду чрезвычайных обстоятельств не успевший надеть парик.
— Вы свободны, Олимпиада Петровна! — ответила Оля.— Свои извинения Надежде Васильевне вы принесете позже.
— Но правила! — рванулась Олимпиада.
— Правилами своими в гроб уложить хочет! — прокомментировала тетя Поля.— Вредительница!
Но в соседний зал, раздвигая толпу, уже входили люди в белых халатах. Молоденький бородатый доктор в красных башмаках тащил переносной электрокардиограф, за ним еле поспевала пожилая полная сестра с квадратным чемоданчиком и в открытых босоножках.
— Без тапочек вошли! — проскрипела Олимпиада.
— Дура! — аукнула тетя Поля.
— Прошу очистить помещение! — высоким голосом закричал доктор.— Что за духота! Немедленно открыть все окна!
Тополиный пух ворвался в залы, заплясал на полу, закружился по воздуху, по углам тут же начали нарастать снежные сугробы.
— Красота-то какая! — тихо сказала Надежда Васильевна.— Природа!
6
Оказалось: у Надежды Васильевны приступ стенокардии, но в больницу класть не обязательно, можно лежать дома. В соседнем зале быстро посовещались, тетя Поля вызвалась носить продукты, смотрительницы обещали заходить по очереди. Постановили: в больницу не отдавать.
Посетитель подошел к тете Поле и куда-то с ней исчез. Худенький доктор, пыхтя, протащил обратно свой кардиограф, медсестра, шедшая за ним вперевалку, с любопытством оглядывалась по сторонам. Олимпиада Петровна восседала за конторкой и что-то писала.
«Вот подойду сейчас к ней и скажу: «Подавайте заявление об уходе»,— подумала Оля.— А за что ее увольнять? За соблюдение буквы закона не увольняют. Иногда увольняют за плохую работу. Попробуй уволь за избыток служебного рвения!»
...Оля прошла к Надежде Васильевне. Та лежала на диване в той же позе, но куртка под головой была подоткнута удобнее и ноги прикрыты тети Полиным старым платком. Надежда Васильевна улыбнулась ей застенчивой кроткой улыбкой. Оля присела на край дивана.
— Простите меня! — прошелестела Надежда Васильевна. — Хлопоты всем доставляю. Я...— Она подумала и, борясь с собой, пообещала торжественно, как клятву давала: — Я больше не буду разговаривать с посетителями. Сегодня последний раз.— Она снова улыбнулась и попыталась приподняться.
— Лежите, лежите! — остановила ее Оля.— Надежда Васильевна, милая, не обращайте внимания на Олимпиаду Петровну, хорошо?
— Хорошо! — сомневающимся голосом ответила Надежда Васильевна.
— И еще...— Оля помедлила,— если у вас возникнут вопросы, приходите прямо ко мне, хорошо?
— Хорошо! — с еще большим сомнением отозвалась Надежда Васильевна, воспринявшая приглашение директора как выговор.
Когда Оля была уже у выхода из зала, Надежда Васильевна добавила:
— Дмитрию Ивановичу привет.
— Кому? — не поняла Оля.
— Дмитрию Ивановичу, посетителю! Батюшки, да вот же его куртка! — забеспокоилась Надежда Васильевна.— Он меня подхватил, когда я падать стала, и сразу куртку под голову подложил. Это я помню. Возьмите, возьмите, передайте! — засуетилась она.
С курткой в руках Оля прошла по залам, где угнездились на своих стульях смотрительницы и болталось человек пять посетителей-одиночек. Она прошла было и мимо конторки Олимпиады Петровны, но внезапно вернулась и сказала:
— Еще раз советую извиниться перед Надеждой Васильевной.
Олимпиада подняла на директора угольно-черные глаза.
— Я вас саму привлеку за нарушение дисциплины,— громко, так, чтобы все слышали, пообещала она.
Оля повернула к себе наверх, но тут дверь хлопнула и вошли посетитель и тетя Поля. Оказалось, что продуктов куплено на восемь рублей с копейками. Когда Оля попыталась расплатиться, посетитель взять деньги отказался. Тетя Поля скосила на него глаза и прошептала:
— Совестливый какой гражданин!
Совестливый гражданин снова исчез и, когда появился, объявил, что такси вызвано и сейчас они с директором повезут Надежду Васильевну домой.
7
Через час Надежда Васильевна уже лежала в постели и пила чай, приготовленный Дмитрием Ивановичем. Они с Олей тоже выпили по чашке.
Все происходило быстро и ловко. От Оли ничего не требовалось, просто удивительно. Двигался, действовал, легко ориентируясь в новой обстановке, новый человек — Дмитрий Иванович. Надежда Васильевна болтала без умолку, как это бывает со старыми, намолчавшимися людьми. А русоволосый человек в кожаной куртке легко ходил по дому, хлопотал по хозяйству, улыбался. Оля разглядывала комнату. Ветхий довоенный шкаф-шифоньер, металлическая кровать с шишечками, квадратный стол, покрытый белой скатертью, на подоконнике в стеклянной банке давно распустившиеся ветки, на стене увеличенная фотография мужа — гимнастерка, бритая голова. Солдат, выживший на войне. А под фотографией прикрепленные кнопками маленькие портреты, вырезанные из каких-то журналов,— Пушкин, Лунин, Бестужев Николай и две жены — Никиты Муравьева и Фонвизина. А на полке стояли книги. Не надо было вставать с места, чтобы узнать тома протоколов «Восстания декабристов».
— Приобрела! — застенчиво сообщила Надежда Васильевна, поймав Олин взгляд.— С большими трудностями. По открытке. На Арбате, в Доме книги. А двух томов не хватает. Третьего и пятого,— добавила она.— Я им в подарок чехлы за их внимание сшила.
— Кому чехлы? — рассеянно спросила Оля.
— Для витрин, для книжек! — окончательно смутившись, ответила Надежда Васильевна.
— У нас же есть в библиотеке эти книги, — сказала Оля.
— Есть,— грустно подтвердила Надежда Васильевна.—Я свои книги хочу иметь.—И снова смутилась.
Появился Дмитрий Иванович, сообщил, что продукты спрятаны в холодильник, курица поставлена вариться и через час ее выключит соседская девочка.
Оля поднялась.
— Когда вас можно навестить? — спросил Дмитрий Иванович, будто они с Надеждой Васильевной давние знакомые.
Надежда Васильевна со счастливым лицом приподнялась и быстро-быстро закивала:
— В любое время.
8
На лестнице они пробежали пролет, остановились и посмотрели друг на друга. Он подошел к ней чуть поближе, чем следовало бы. Она ниже, чем следовало бы, склонила голову. Он погладил эту с клоненную черноволосую голову. Потом прижал Олю к себе, они так постояли. Потом з асмеялись, посмотрели друг другу в глаза, взялись за руки. И снова побежали. Между третьим и вторым этажами была лавочка и балкон. Они сели. Снизу поднимался лифт. Наверху хлопнула дверь. Послышались шаги.
— Устала? — спросил он.
— Ужасно! — ответила Оля.
Он снова осторожно погладил ее по голове и расправил
спутанные волосы.
— Надо же! — сказал он.
Улыбка у него была открытая, не предвещавшая подвоха.
— Проводить домой?
Она засмеялась.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





