ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


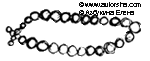
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Башкирова Галина
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
— Наконец-то я тебя застал! Куда ты исчезла, лапонька? Я так вчера переволновался... Весь вечер обрывал тебе телефон.
— Занята была.
— Что же ты меня не предупредила? И Сережа ничего не знал. Ездила на Фурманный? Кстати, ты ей что-нибудь сказала?
— У Надежды Васильевны был приступ стенокардии. Из-за Олимпиады.
— У кого? Ах, у этой... Оля, прошу тебя, избавься наконец от этой чудаковатой старухи. Ты ей сделала замечание?
— Олимпиаде сделала.
— Оля, что ты творишь! Сама раздуваешь пожар!
— Ты о чем?
— О том, что любое зло, коль скоро от этого зла невозможно избавиться, следует употребить во благо. Это закон жизни. А ты что делаешь? Ты еще и керосинчику в огонь подливаешь! Если бы я так же воевал со своей Дороховой...
— Что ты сравниваешь!
— А что? Копни нашу старуху поглубже, окажется такой же халдой, как ваша Олимпиада. И тоже, как твоя, больше всех болеет за общее дело. Расстанься с Надеждой Васильевной, не создавай конфликтной ситуации. И вообще... о чем мы разговариваем? Сердечница, пенсионерка! Пусть дома сидит!
— Это значит ее убить...
— Ты неисправима, всякий раз забываю об этом.
— Старые люди от этого умирают...
— От чего?
— От перемены образа жизни...
Туманов молчал, дышал в трубку.
— Да, забыл тебе сказать, на днях отбываю в Питер.
— Разве ты собирался?
— Ну как же! У меня там лекции, забыла?
— Конечно, поезжай, как раз на белые ночи.
— Почему ты так нехорошо со мной говоришь?
— Я? Я хорошо.
— Поеду дней на пять, может, еще задержусь.
— Конечно, задержись.
— Нет, но почему ты со мной так разговариваешь?
— Да хорошо я разговариваю.
— Мне придется много работать! Впрочем, если хочешь, Питер я могу отложить, пожалуй, не стоит тебя бросать, у тебя сейчас трудные времена. Ты что-нибудь решила наконец с Фурменным?
— Да нет, поезжай непременно!
— Почему у тебя такой равнодушный голос? Рада от меня отдохнуть? Если ты вздумала от меня отдыхать, я остаюсь в Москве.
— Не придумывай.
— Нет, я не понимаю. Уезжаю в сумасшедший город, переполненный туристами, на белые ночи, когда ни один нормальный человек не может заснуть, а тебе хоть бы что, тебе меня не жалко.
— Мне тебя жалко.
— Как знаешь. Ты сегодня не заглянешь на Пресню?
— Вряд ли.
—
Смотри, дело
твое.
Танька Колесникова звонила и сказала, что можно выкупать путевку. Да, в Крым, в тот самый санаторий. Оперативный человек Татьяна, Ивану, конечно, повезло... Когда-то у них с Танькой искрило при каждой встрече — в разговорах, намеках, танцах, некая шутейная возможность, которую оба вроде бы откладывали за недосугом. Появилась Лариса, и как отрезало. Перегорело давно, а на донышке плещется. Горчит. У Таньки нет детей, и у него нет. Оба вольные птицы. Зачем она нужна, Таньке, эта воля? Что с ней делать? Морока одна. Татьяне бы внуков тетешкать, а она все в девочках прыгает. Обездолила Ивана, и он же, по ее логике, виноват. Да, а свои путевочные ходы Танька ему так и не открыла, в следующий раз снова придется в ножки кланяться: всю жизнь держит его на коротком поводке.
Надо сегодня же рвануть в поликлинику получать медицинскую карту. Делать анализы времени нет. Ничего, он пройдет прямо к заведующей отделением, хорошо, что припрятал для нее сборник французских детективов, она ему сразу подпишет все, что требуется. Она бы и так ему подписала, но с подарком как-то сподручнее. И к Ивану надо записаться на прием. Чудны дела твои, господи! Записываться заранее, за несколько дней, чтобы поговорить со старым другом. Иван обронил в тот вечер: «Есть разговор!» Нет, ничего не скажешь, Иван встретил его тогда хорошо. Наверное, из-за Таньки. Выпил, расчувствовался, начал вспоминать студенческие времена, память у него бешеная, помнит то, что все забыли давно. Начал нудить, что вот, мол, приближается старость, надо держаться друг за друга, за верных, испытанных друзей, надо помогать... И с чего это его повело? Танькино влияние, Татьяна баба не престижная, так и не вписалась в новую среду, все взбрыкивает, комсомольские демократические замашки. Ивану с ней тяжело, да куда теперь деваться?.. Вот только Ларису Татьяна на дух не принимает. Невзлюбила с первого взгляда. Думал вначале, что это ревность. Похоже, тут другое. Другое, а что? Сколько времени упущено из-за того, что они не общаются домами! Татьяна его одного на семейные праздники не зовет, не хочет обижать Ларису, а видеть ее тоже не желает. Хотя что значит не зовет, пришел бы без приглашения, никто бы не удивился, свой человек, домашний. Но штука в том, что они ведь и без повода собираются, в узком кругу, вот тогда, тогда уж никак не попадешь. Тут Татьяна о нем и не вспоминает, по чистой, кстати, глупости. Не зовет... Вот Олю... Олю бы она звала, зазывала, с Олей семейные контакты наладились бы мгновенно. И Иван был бы доволен. Иван — коллекционер человеческих душ, есть у него такая слабость, гордился бы даже: дескать, вот какой он широкий, дескать, вот как он дружит со скромными работниками культуры, дескать, и музеям подбрасывает кое-что от щедрот своего интеллекта. Да, появление с Олей на Кутузовском многое бы изменило. Ольгу Татьяна бы ему простила... Интересно, что собирается Иван предложить? Посмотрим. Вообще все идет вроде бы ничего.
Вот только Оля... нет, надо уматывать в Ленинград, иначе он просто рухнет. Все равно Оля дуется, выдерживает характер, бедняга. Очередная демонстрация протеста. Это мы уже проходили. В Ленинграде он хоть отоспится, по крайней мере, и никто не будет его терзать. Нет, подумать только! Люди едут в июне в Питер, чтобы гулять, смотреть по ночам, как разводят мосты, смеяться, пить шампанское, крутить романы, а он, как затравленный заяц, убегает, чтобы отоспаться! Хорошо еще, если в гостинице не будут жить за стеной финны, те вообще спать не дадут. Он бы взял с собой Олю... но ведь снова начнется мучительство, пытка молчанием, война колючих недомолвок. Нет, надо искать детектив (куда же он его заложил) и ехать в поликлинику за справкой. Спасение в том, чтобы все делать по пунктам, механически-покорно, не думая, и чтобы жизнь двигалась как бы сама собой.
Нет, и все-таки любопытно, для чего вызывает его к себе Иван?
2
С Дмитрием Ивановичем Оля виделась теперь каждый день. Обычно он поджидал ее на бульваре недалеко от музея, и они сразу куда-то, как им казалось, деловито направлялись. Никуда они не направлялись, просто шли куда глаза глядят, бродили час, два, три, пока не усаживались на лавочку возле ее дома, то есть возле Гоголя. Он не приглашал ее ни в рестораны, ни в кафе, это были какие-то детские робкие прогулки, когда оба боятся остановиться, не зная, что будет дальше. Ильин мало рассказывал о себе, больше слушал, сказал только, что он биолог, жил в Новосибирске, сейчас на Дальнем Востоке. В разговорах о своей работе он слегка валял дурака, так, во всяком случае, ей казалось. «Сусликов я ловлю, Оленька, сусликов»,— посмеивался Ильин.
— Что, всю жизнь?
— Нет, до этого я мух тряс.
— То есть как тряс?
— А это, чтобы отобрать девочек от мальчиков...
В Москве у Ильина было много разных мелких и крупных дел. В Москве он встречался с большим числом людей: устраивал институтские заграничные командировки, ходил по лабораториям, общался со знакомыми, обсуждал с ними совместные работы на дальневосточном материале, добывал у друзей реактивы. Он не обременял ее своими проблемами, и получалось так, что в присутствии Ильина Олю оставляли заботы жизни.
...Вечерами они не могли расстаться, сидели на лавочке, выбирая обычно самую темную, у Гоголя за спиной. Гоголь их заслонял. Гоголь их заслонял и сам ничего не видел. Они сидели обнявшись и целовались. Ближе к полуночи он отрывался от Оли, гладил ей руки, привыкая к разлуке. Оля снова забиралась к нему под куртку, он снова ее оттуда, из уютной надежности, извлекал. «Пора»,—уговаривала она его. Потом он ее уговаривал. Так они уговаривали друг друга часов до одиннадцати. И так продолжалось уже несколько вечеров подряд. Возвращаясь домой, Оля быстро, как виноватая мышка, ныряла в свою комнату. Сережка выдерживал характер и к ней не заходил. Потом постепенно оттаивал, и снова начинались бесконечные разговоры за полночь. Где была мать, Сережа не спрашивал.
3
Одним неистовым голубым утром, когда воробьи на кусте престарелых чирикали особенно громко, когда тетя Поля особенно шумно доказывала что-то Олимпиаде, когда тополиный пух как оголтелый летел во все щели,— таким вот утром в музее появилась комиссия. В кабинет директора вошли гуськом три человека, и у первого в руках была красная папка, а в папке пухлая пачка бумаг, а в бумагах подробное изложение (по пунктам) незаконно совершавшихся в музее действий, включающих циклевку полов и другие преобразования. И лица у членов комиссии были полны такой сочувственной скорби, будто музей постигла большая беда. Олю смутило, что главного ее врага и начальницы среди членов комиссии не было. Плохо, сразу подумала Оля, значит, Клавдия Петровна затевает что-то хитроумное, иначе бы сама прибежала, не прислала бы других, эти пришли по обязанности, этим неловко.
Ловко ли, неловко, но комиссия забиралась на крышу, пытаясь отыскать место, откуда началась авария, залезала, кряхтя, в подвал, куда стекла вода, внимательно исследовала полы и стены, недоумевала, откуда появились булыжные дорожки, если денег на них отпущено не было, подрабатывала вопрос, на какие средства отремонтирован бывший каретный сарай. Комиссия пыталась выяснить, с каких пор в уборной появились новые сушилки для рук, не зафиксированные в смете, и почему перекрашен и полностью обновлен вестибюль с вешалкой.
Комиссия задавала вопросы, на которые директор и Нина Михайловна единодушно отвечали: «Так и было!» — «Не было! — вставляла Олимпиада Петровна, выглядывая из-за спин членов комиссии.— Раньше вот здесь текло, там прорывало, тут ржавело!» — «Не текло, не прорывало, не ржавело!»—отвечала директор. Не могла же Ольга Евгеньевна подвести веселого человека Мишу, который два часа ходил однажды по музею, составляя список неполадок.
«Молоток! — одобрил поведение соседки Виктор Викторович. — Смотри не расколись! В твоем случае даже десять Олимпиад, объединившись, не сумеют ничего доказать».
Комиссия проверяла документацию, вызывая сотрудников по одному. Коллектив во главе с Ниной Михайловной предложил провести общее тайное собрание с целью выработать единую линию поведения. Директор отказалась. Нина Михайловна устроила директору истерику в том смысле, что именно Ольга Евгеньевна переманила ее с прекрасной работы в Изофондах, а теперь, если не сговориться, того и гляди попадешь в неприятную историю. Директор и после ее истерики с последующим приемом валерьяновых капель собрание проводить запретила.
«Молоток! — одобрил сосед Виктор.—И запомни навсегда: никаких тайных сборищ!»
Комиссия вынесла решение войти с ходатайством в Моссовет с просьбой спилить тополь, находящийся на территории музея, в целях противопожарной безопасности.
Директор обжаловала решение комиссии встречной запиской.
«Глупо! — не одобрил сосед Виктор.— Плюешь против ветра».
И наконец, комиссия предложила разъяснить в письменном виде, что означает приказ, вывешенный по недосмотру так, что с ним могли ознакомиться и посетители: «СТОРОЖАМ ПО НОЧАМ НА РОЯЛЕ НЕ ИГРАТЬ». Означает ли это, что музейные сторожа устраивали по ночам:
1) пьяные дебоши,
2) дружеские вечеринки,
3) музицировали,
4) просто хулиганили, мешая спать жильцам соседних домов.
Директор в письменном виде разъяснила, что случаи игры на рояле по ночам были действительно зафиксированы, но исполнитель, готовящийся к поступлению в Гне-синский институт, узнав о распоряжении дирекции, с работы по собственному желанию уволился.
«Раскололась! — не одобрил соседку Виктор Викторович.— Первая заповедь: соглашаясь с начальством, никогда ни в чем не признаваться. Может, ты приказ «во избежание» вывесила!»
...Срочно был нужен Туманов и его советы, но Туманов сидел в Ленинграде, и Оля ничего не рассказывала ему по телефону. Получалось так, что все свои соображения директор излагала лишь одному человеку — Дмитрию Ивановичу. Дмитрий Иванович ее консультировал.
4
В тот вечер Оля вернулась домой часов в десять. Странно, Сережи дома не было. Оля позвонила Любови Ивановне, телефон не ответил. Спать легла, решила Оля. Позвонила матери, тоже никто не подошел. Гуляют, подумала Оля. И тут же раздался звонок. Звонила Лидия Николаевна, сказала, что звонит из клиники, Любови Ивановне стало плохо с сердцем, пришлось госпитализировать. Они все тут собрались, даже Евгения Антоновича прихватили на всякий случай, но Оле приезжать не надо, пусть приходит завтра к восьми. Сережу они отправляют домой.
Оля положила
трубку и посмотрела на себя в зеркало,
висевшее над телефоном. Глаза еще больше
ввалились и блестели лихорадочным
зеленым блеском. «К восьми». Дмитрий
Иванович сказал, что позвонит завтра в
восемь. В десять в музей придет комиссия,
опаздывать нельзя. Слава богу, что у
Любови Ивановны нет инфаркта. Если
обойдется, надо брать отпуск и увозить
ее на дачу. Но как же сейчас оставить
музей? И как же Дмитрий Иванович?
С матерью Оля столкнулась в больничном коридоре, возле лифта, Лидия Николаевна на ходу разговаривала с нянечкой:
— Вот тебе пятерка, Мария Петровна, купи молока, творогу и на углу в палатке яблоки, если будут. Сдачи не надо. Ты, Маша, к девяти в магазин подойди, когда свежий товар привезут, да не учу я тебя, иди, иди.— Лидия Николаевна повернулась к дочери: — Ничего, не волнуйсь, ночь прошла спокойно.
— Почему это случилось? — спросила Оля.
— Ах, Оля, нипочему ничего не бывает, именно что почему! Вечером мне позвонил Олег и сказал, что мать умирает. Я тут же помчалась туда и вызвала нашу перевозку. Олег и Сереженьку взбаламутил, велел приехать в больницу попрощаться с бабушкой. Он и тебе звонил каждые пять минут — совсем обезумел. Все очень просто, Оля, вчера Любовь Ивановна объявила ему свою волю, ну... сама понимаешь, относительно чего. Ну и он... он мне признался, когда я приехала. Он и Сереженьке покаялся... Ребенку, ребенка посвящать, варвар, печенег, форменный печенег.
— А Любовь Ивановна тебе объяснила, почему ей стало плохо?
— Что ты задаешь дурацкие вопросы? — раздражилась мать,— без конца подъезжал лифт, выходили сотрудники, и Лидии Николаевне приходилось все время улыбаться.— Ты знаешь свою свекровь. Она будет молчать из гордости. Она только сказала, и, заметь, в присутствии Олега, что из Ленинграда прибыл контейнер и вещи оттуда необходимо срочно переправить к тебе на Мерзляковский.
— А что Олег?
— Что Олег, что Олег... Пойдем посидим в пустом кабинете у Михаила Степановича, что мы здесь торчим у всех на виду! Олег тут же обещал все сделать. Не предупреди он меня, я бы и не догадалась, что между ними что-то произошло. Вот семейка! Извини, Оля, нехорошо говорить, но я всегда знала, все они фарисеи! Садись! — сказала Лидия Николаевна, когда они вошли в профессорский кабинет.— Только не в его кресло.
— Не возьму я этот контейнер!
— Нет, Ольга, ты возьмешь! Хватит с меня этой мороки, хватит.
— Не хочу я связываться с Олегом, не буду. И еще комиссия в музее. Не хочу...
— Комиссии приходят и уходят, а материальные ценности остаются! Хочешь чаю? Я попрошу, нам принесут. Не хочешь? Вот что, Оленька, ты пойдешь сейчас сменять Олега... Скажи Любови Ивановне что-нибудь утешительное, ну, понимаешь, насчет чего... А, Оля?
Лидия Николаевна замолчала и рассеянно посмотрела на стену, потом перевела взгляд на окно. За окном собирался дождь. Дождь — это плохо, забеспокоилась Лидия Николаевна, это перемена давления, Любови Ивановне это ни к чему.
— Что ты решила с переездом, Оленька? — не удержавшись, спросила она заискивающим, не своим голосом.
— Ничего я пока не решила.
Лидия
Николаевна вздохнула. Дочь сидела nbsp;
всех напротив нее в глубоком кресле.
Клен за окном шумел свое. Она еще раз
внимательно поглядела на Олю. К своему
великому удивлению, Лидия Николаевна
заметила, что у Оли счастливое лицо.
...Любовь Ивановна дремала на высоких подушках, большое лицо ее казалось помолодевшим, ушел второй подбородок, разгладились морщины, и седой, забавный хохолок, распушившись, казался величественной короной.
Олег поднял голову, услышав Олины шаги, осторожно встал со стула, показал глазами на дверь. Они вышли из палаты, тут же попав под любопытные перекрестные взгляды: Олю помнили в клинике с рожденья.
— Дай посмотрю на тебя, Олечка, — запричитала медсестра тетя Тоня, — совсем ты не меняешься! Ты, доченька, не сомневайся, мы за свекровью твоей приглядим бескорыстно, мы по старым законам живем, мантульничать не любим...
Олег только морщился от потока слов, неудержимо лившихся им навстречу. Он и не догадывался, что тетя Тоня давно разучилась разговаривать иначе: сорок лет подряд она что-то втыкала, вводила, вталкивала в измученное человеческое тело, все время уговаривая больных потерпеть. И сейчас по инерции она на всякий случай уговаривала Олю. Конечно, для нее было развлечением появление в клинике Оленьки. Плохо только, что Оля с мужем развелась. Беда! Размеры беды тетя Тоня знала изнутри, потому что вдосталь насмотрелась на одиноких женщин. Когда женщина любого возраста оказывается в больнице, тут-то главное и открывается. Пусть стоят цветы на тумбочке, всякие там гвоздики, пусть приходят друзья и подруги, все это не то, не то... Почему это так, почему уверенные в себе, самостоятельные гордые женщины так болезненно относятся к тому, что к другим приходят мужья, а к ним нет, тетя Тоня никак не могла уразуметь и, вырастив самостоятельно двух детей и ни разу в жизни не болев, не совсем понимала, в чем тут дело. Сколько на ее глазах сломалось смешливых и стойких женщин! И потому тетя Тоня г лядела на Олю с тайным, опасливым состраданием, и Оля догадывалась, о чем она думает: о том, чтобы они с Олегом помирились.
— А Олег изменился, — запела было тетя Тоня.
— Извините, — перебил ее Олег, взял Олю под руку и увлек в другой конец коридора, на кресла, в угол, где Оля любила сидеть в детстве, поджидая мать.
— Оля, — начал Олег, как всегда в трудные минуты бледнея,—Оля...
По длинному белому коридору катили каталку с больной.
— Вчера вечером я предлагал вызвать Кирку, она попросила тебя. Тебя не было,— Олег нервно усмехнулся.— И что мне прикажешь делать? Хоть разводись! —
неожиданно добавил он.— С матерью надо кому-то жить, это ясно. Спрашивается, кому? Тебе? Но почему тебе? С какой стати?
— Мы сейчас ничего не решим.
Каталку, слава богу, закатили не к Любови Ивановне, а в соседнюю палату.
— Вот что, Оля, давай договоримся, когда я привезу тебе контейнер...
— Я ничего не возьму, — быстро проговорила Оля.
— Снова начинаются твои штучки? Не выйдет, милочка! — сказал Олег громко.
— Тише!
— Почему тише? Снова в праведницу играть вздумала? У края могилы... Я, значит, злодей и вор, а ты, выходит, святая? Рядом с болезнью игры свои продолжаешь? Креста на тебе нет!
— Не кричи, с ума сошел!
—
Я, значит, в
дерьме, а ты ангел? Случись что с мамой,
Сережка мне этот контейнер запомнит
на всю жизнь! Нет, милочка, хватит надо
мной издеваться!
Что же это
получается? Как бы он ни отдалялся от
них, как бы ни ломал свою жизнь, две
женщины, мать и бывшая жена, имели над
ним несокрушимую власть. Что бы ни
случалось, он оказывался лишь игрушкой
в их руках. Они всегда добивались от
него всего, чего хотели. И все, что они
хотели, бывало, как правило, абсурдно,
смешно и неприлично. Нелепо было
завещать фамильные вещи Ольге, еще
нелепее — со стороны Оли — от них
отказываться. И ведь не расскажешь
никому, потому что никто не поверит.
Как объяснить, почему мать хочет жить
не с ним, а с бывшей невесткой, почему
ей, а не сыну родному отдает последние
старушечьи гроши. Черт с ней, с этой
развалюшной, трухлявой мебелью! Кирка
его, правда, загрызет, если пронюхает.
А как она пронюхает-то? Никто с ней не
общается... Наплевать на всех, наплевать
на Кирку. Кирка со своими беличьими
зубками разгрызет любые тысячи так,
что и скорлупок не останется. И как
он не заметил, когда женился, эти
мелкие, твердые, желтоватые, как
речной жемчуг, зубки. Какая она белка,
типичный хорек! Кирка тайно мечтает
успеть съехаться с его матерью: их
нынешний кооператив плюс Фурманный
можно обменять на огромную квартиру
плюс дворец в Сочи. Ну нет, дворец в
Сочи он не предоставит. Какие Сочи, тут
в Москве поджариваешься, как на
сковородке! А с этой святошей как быть?
Хватит ему отдуваться, пусть сама
повертится! Пусть утрется с этой
паршивой мебелью.
— Сегодня я заказываю машину, завтра еду на вокзал и доставляю контейнер к тебе.
— Олег,— жалобно попросила Оля,— не затевай скандала.
— До чего ты мне надоела, свихнуться с тобой можно. Слушай, Оля, давай помиримся, а? Давай сейчас зайдем к маме, разбудим, пусть она увидит нас вместе. А хочешь...—он помедлил, посмотрел на Лидию Николаевну, мелькавшую возле ординаторской, — хочешь, я давно собираюсь тебе сказать... хочешь, помиримся совсем?
— Как совсем? — не поняла Ольга.
— Совсем, — повторил Олег и покраснел. — Давай помиримся. Мама болеет, Сереже идти в десятый класс...
Из глубины
коридора слышался голос матери, что-то
пылко рассказывающей обступившим ее
докторам.
Оля вспомнила Митины глаза, вспомнила его утренний звонок, он спрашивал, можно ли вечером появиться на Мерзляковском. Можно, ответила она. Через неделю он улетает во Владивосток.
Тетя Тоня прошла по коридору с капельницей в руках и издали им улыбнулась.
Через неделю Митя уедет.
Туманов скоро
вернется из Ленинграда, звонил сегодня
спозаранок, сказал, что гуляет по городу,
«как хорош Питер, когда он пустынен, как
жаль, что ты не со мной». Оля ответила,
что торопится в больницу. «Вот видишь,—
заметил Туманов,— мы волнуемся,
предполагаем, строим планы, а судьба
распоряжается по-своему. Видишь, Оля,
ничего не надо менять и планировать
заранее, грешно подталкивать жизнь».—
«Я опаздываю в больницу»,— напомнила
Оля. «Почему ты так неласково со мной
говоришь?» — «Я? Я нормально».— «Ты
совсем не рада моему звонку. Что ты
молчишь?»— «Я опаздываю».— «Своими
новостями ты сорвала мне такое
прекрасное утро!» — «Прости»,—извинилась
Оля совершенно серьезно. «Ну что ты!
— столь же серьезно ответил он.—Это ты
меня прости, что я не с тобой».
...Тетя Тоня несла капельницу. Маша по просьбе Лидии Николаевны бежала на угол в магазин. Лидия Николаевна обличала бывшего зятя, собирая нектар сочувствия к дочери. Митя излагал очередному начальству планы строительства на ближайшие годы. Туманов медленно шел вдоль синей, тяжелой под июньским солнцем Невы, и навстречу ему толпились бестолковые стайки туристов. Он рассердился, ускорил шаг, элегантный, сухощавый, отрешенный.
Олег предложил бывшей жене снова идти за него замуж.
— Ты вроде бы женат? — напомнила Оля.
— Могу и разжениться, — в тон ответил Олег.
— Зачем? Я ведь и так буду за ней ухаживать.
— О господи! Вот идиотку бог послал.
— Пойдем к ней! — Оля встала с кресла.
— Это знак согласия? — спросил, поднимаясь, Олег.
— Нет,— ответила Оля.
— Оля, быстрей, быстрей, тебя профессор приглашает! — закричала от ординаторской Лидия Николаевна.
6
— Вы похорошели, мой друг, — сказал профессор, жестом приглашая Олю садиться,— мила, очень мила, — продолжил он собирательной цитатой из с очинений классиков XIX века,—и румянец каков, каков блеск глаз!
Профессор продолжал говорить, и, странное дело, жизнь с каждым его словом облегчалась, опадала, как бы теряла в весе.
— Хотите послушать музыку? У меня здесь оборудована стереофоника. Немного музыки, хороший кофе, беседы с интересной молодой дамой... интеллектуалкой, начальницей... шучу, шучу...—Профессор подошел к стене, обшитой светлым деревом, открыл незаметную дверцу, начал перебирать пленки.—Что бы вы хотели послушать? Нет, нет, я вас пощажу, разумеется, не тот грохот, которым увлекается нынче молодежь,— старые добрые мелодии моей юности, шестидесятые годы... Узнаете мелодию? — спросил он.— Вспоминайте, вспоминайте!
Профессор снова сел в кресло, посмотрел на часы.
— Ну вот, сейчас нам принесут кофе. У меня здесь оборудовано целое кофейное хозяйство. — Михаил Степанович покачал в такт музыке головой, серыми глазами в мохнатых ресницах добродушно взглянул на Олю, — дорогая игрушка, но сколько удовольствия.
В дверь профессорского кабинета постучали.
— Милости просим, Мария Петровна! — громко позвал Михаил Степанович.
Вошла все та же Маша с подносом в руках. На подносе помещался целый сервиз из Гжели: чайник, медовница, кружки, на тарелке — тонкие, интеллигентные бутерброды.
— Чудесно, чудесно, скатерть, пожалуйста, Мария Петровна, сегодня у нас в гостях дама. Спасибо, вы свободны. Нуте-с, приступим. Сахар? Джем? Вам со сливками? Слаб, слаб, мой друг, обзавожусь привычками. Человек с привычками уже старик. Вкусно?
— Очень! — искренне ответила Оля.
— В последнее время, мой друг, я пристрастился к охоте. Раз в месяц вырываюсь непременно. Зайцы, кабаны... Я, мой друг, разных там вышек, чтобы кабан не задел, не признаю, я за натуральность. В прошлую субботу убил вечером сразу двух лосей.
— Как это сразу?
— Так! Стояли рядом, то есть для меня, охотника, параллельно. Хорошо, что мы поехали большой компанией, у нас было две лицензии. А то пришлось бы удержаться. Но какой выстрел! Прямое попадание в сердце, сначала в одно навылет, потом в другое.
— Навылет? Сразу в два сердца?
— Да, мой друг, при нынешней технике это не хитрость. У меня ружье с инфракрасным прицелом: я вижу, а меня нет... Хотите, я вас приглашу, когда будут присутствовать дамы? Моя жена очень любит. Надо, надо изучать жизнь, мой друг... Да, я уже посмотрел вашу свекровь, — перевел разговор Михаил Степанович, — что вам сказать? Я специально занимаюсь разработкой проблем прогноза, ну, вы понимаете, о чем я говорю, так вот, мой друг, если мне позволено быть откровенным с вами и давать советы, рекомендую срочно заняться обменом квартиры. На всякий случай, разумеется. Но все же... Я бы даже резче сказал,— добавил он,— переезжать надо немедленно! — И Михаил Степанович грустно заглянул Оле в лицо.— Я лично менялся бы, не раздумывая. Будьте благоразумны, дитя мое. Я смею вам советовать, потому что у вас удивительно простодушные глаза. Но какие были лоси! Вы бы их видели! Красавцы!
...Нет, вырваться из круга отношений, предлагаемых в этом кабинете, было невозможно. Мягко, неназойливо, незаметно посетителя превращали здесь в существо зависимое и заранее признательное хозяину за какие-то будущие неуловимые, но чрезвычайно важные услуги. За то, что все под богом ходим, видно, за это.
— Кстати, мой друг, — снова грустно улыбнулся Михаил Степанович, — до меня дошли слухи, что от ленинградской тетушки вам достались кое-какие акварельки. Очень-очень за вас рад! — голос профессора приобрел почти родственную бархатистость.— У меня к вам маленькая просьба. Если вам вздумается расстаться с какой-нибудь вещью, не сочтите за труд, чур, я первый.— Он снова мягко улыбнулся.— Конечно, я коллекционер начинающий, но все же... Хотите, покажу одну вещицу?
Михаил Степанович встал, легкой, пружинистой походкой подошел к стенке.
— Жаль, что сегодня скверная погода, темно, это надо смотреть при солнце. Александр Бенуа, из его версальской серии... чудом досталась!
На стене напротив стенки, что таила в себе столько сокровищ, висели портреты предшественников Михаила Степановича. Кареев, Чуйкин, Корнилова... Михаил Степанович был четвертым руководителем клиники на памяти Оли.
7
Был величественный старик Иван Феоктистович Кареев, в годы правления которого клиника считалась едва ли не лучшей в стране. Кареев был чопорный человек и великий ученый. По существу, он не переносил всего двух вещей — невежества и плебейства. Заменил его тем не менее шумливый и чрезмерно демократичный человек по фамилии Чуйкин. Чуйкин появился в клинике еще при жизни Кареева. И сейчас, сближенные смертью, они висели рядом, голый, скульптурно вылепленный череп и буйная, нечесаная шевелюра. Чуйкин был возвращен с глухого севера в самом конце войны. Некто начал умирать от сердечной болезни и вспомнил о докторе Чуйкине, когда-то его пользовавшем, человеке с буйной растительностью на голове и с буйным, невоздержанным языком. Чуйкин был разыскан, Чуйкин был обласкан... Чуйкин забился в клинику своего учителя профессора Кареева и упорно отказывался от лестных назначений. После смерти Ивана Феоктистовича он возглавил его клинику. Постепенно Чуйкин отошел, заметны стали огромные брови, два седых куста, окреп голос.
Во времена Чуйкина клинику наводнила техника. Образовалась лучшая лаборатория в Москве. Чуйкин обожал цифры и свято верил высчитанному числу. Он перекрашивал стены, занимался проблемой освещения и радиофицировал клинику. Он правил девятнадцать лет. В годы правления Чуйкина всем сотрудникам пришлось капитально заняться наукой. Все торопились, потому что их поторапливали, все писали статьи, потому что заставлял Чуйкин. Почти все, то есть те, кому не удавалось этого избегнуть, защищали диссертации. Лидия Николаевна, пользовавшаяся на профессора неограниченным влиянием, сумела от защиты увильнуть. Ей было уже за тридцать, блондинка, предрасположенная к полноте, она начинала стареть, необходимо было заниматься собой, своим телом — массаж, лыжи, портнихи, и дочь сначала подрастала, потом заканчивала школу. У Лидии Николаевны хватало своих забот...
Оля разглядывала старую фотографию — пышная шевелюра, бешеные глаза... Чуйкин обожал ее мать. Она помнила, как Чуйкин приезжал к ним в гости, пил с отцом коньяк, похохатывал, погрохатывал и боялся смотреть в сторону Оли. Быстрый, шумный, громкий, он терялся в материнском фарфорово-хрустальном доме.
Чуйкин и умер азартно. Привезли какую-то новую машину, машина отказалась работать. Чуйкин схватил ее в охапку, повернул и потряс. Его умоляли не поднимать тяжести («не те годы!»), он засмеялся и схватился за сердце. Через два дня его не стало.
После смерти Чуйкина Лидия Николаевна сильно сдала и уехала лечить нервы в Кисловодск.
— Прелестная работа, не правда ли? — спрашивал между тем Михаил Степанович.— Последнее время охочусь за Добужинским, но там хотят только меняться, просят взамен акварель Петрова-Водкина...
Оля и заметить не успела, как это призошло, как она попала под власть пахучего, крепкого кофе, успокоительной музыки, и большое, строгое лицо Любови Ивановны уже не стояло перед глазами. «Почему я здесь сижу? Зачем слушаю чужую музыку? Зачем пью этот кофе? Мое место только у постели Любови Ивановны. Но нет, как же уйти, он здесь профессор. Все равно, зачем я здесь, если я помню хозяев этого кабинета — Корнилову, Чуйкина? Зачем, зачем я пью его кофе?»
Зачем Оля пила его кофе, если она помнила Корнилову?
...Играла музыка, и Михаил Степанович, заперев Бенуа на ключ, кажется, что-то говорил. Он говорил и добродушно улыбался, ах да, он говорил о ярком даровании Петрова-Водкина, о его акварелях, которые, разумеется, намного слабее масла, но все же... и о том, что, если Любови Ивановне станет хуже, потребуется отдельная палата, болезнь затяжная и лучше пережить ее в клинике, он со своей стороны будет споспешествовать. «Все ясно, цена назначена, — сообразила Оля, — Петров-Водкин. Но откуда я возьму Петрова-Водкина, на что он намекает? Хочет, чтоб я тоже с кем-то обменялась? Что же мне менять? Почему, зачем?..»
Могли ли Корнилова или Чуйкин вступать в торги, запивая сговор ароматным кофе? Представить себе это было невозможно. «Может, я предвзята? — думала Оля,— Может, не старики были такими, а время было таким,— думала она, — в те времена, в ту суровую жизнь не до кофейных церемоний под звуки японской техники было. Но ведь и японской техники не было? А что же было и почему далекие времена? Шесть, нет, восемь лет назад проводили на пенсию Корнилову, и она вскоре скончалась».
И теперь этот уютный, лоснящийся натуральным деревом кабинет и приятные, совсем не медицинские запахи. От старых времен лишь портреты на стенах, но зато в новеньких, одинаковых деревянных рамах. Это Михаил Степанович распорядился заключить их в одинаковые рамы, сравнял, обезличил, поставил в ряд... предшественником больше, предшественником меньше, какая разница, если это предметы интерьера.
Какая разница, если реален лишь он, хозяин кабинета! И все равно еще совсем недавно, всего восемь лет назад, на старой чугунной вешалке висело в углу, откуда теперь слышится музыка, потрепанное пальтецо профессора Варвары Никитичны Корниловой.
Вот и Корнилова уже тоже вестник из прошлого, призыв, напоминание, укор...
Как же получилось, что Корнилову так быстро забыли? Ведь помнили и почитали при Варваре Никитичне Чуйкина? Как Михаил Степанович это сумел — отбить у людей память? Нет, как он сумел заставить себя полюбить? Почему всем мила эта легкая походка теннисиста, эта постоянная ласковость, эта игра в милосердие? Знаменитая клиника первоклассных врачей с радостью работает только на него, и Лидия Николаевна в первых рядах, если не самая первая. Как это могло случиться и можно ли все списывать на время, которое полюбило удобную мебель, вкусный кофе, легкую музыку и легкие карьеры.
Можно ли все списывать на время? Этот гибкий человек со спортивной фигурой идеально совпал со временем и его заботами, вот в чем, наверное, дело! У нынешнего профессора есть то, что хочется многим, желание и умение наладить удобную жизнь. «Михаил Степанович — современный человек!» — беспрестанно повторяет Лидия Николаевна...
Оля задумалась, глядя на портрет Корниловой, на ее короткие, седые, плохо постриженные волосы, на нос пуговкой и круглые близорукие глаза. У Варвары Никитичны всегда был растерянный и чуть виноватый вид, особенно когда руководитель клиники шла по белоснежному, блестящему чуду дизайна, коридору, доставшемуся ей в наследство от Чуйкина, и в руках у нее болтались допотопные авоськи, сквозь дыры которых просвечивали банки, бидончики, кульки, яблоки, свертки... Профессор Корнилова, руководитель клиники, стесняясь и таясь посторонних глаз, носила одиноким больным продукты. В эпоху Корниловой Оля лежала однажды в клинике с тяжелой пневмонией, лежала в коридоре, несмотря на всемогущество Лидии Николаевны, и волей-неволей наблюдала утренние приходы профессора. «Хочешь яблоко, Оля? Свежее, с рынка, уже мытое»,— вспомнился ей хрипловатый, задыхающийся голос.
«Да, так было, было! — напоминала себе Оля.— Я тому свидетель, я помню. Я даже вкус яблока помню. Так было! Огромное, янтарное яблоко. Так бывает! — поправила она себя, бросив взгляд на Михаила Степановича.— Да, так бывает!»
8
Быстро, с взволнованным лицом вошла мать.
— Любовь Ивановна без сознания! — закричала она и выбежала из кабинета.
И сразу все пришло в движение. Михаил Степанович тут же начал нажимать на какие-то кнопки, разговаривал с кем-то по селектору, вошла и, о чем-то пошептавшись с профессором, вышла, с любопытством оглянувшись на Олю, новая заведующая отделением.
Вскоре вбежала Л идия Николаевна, размахивая на бегу рулоном кардиограммы. Михаил Степанович и мать склонились над узкими розовыми лентами. Кажется, ни Кареев, ни Корнилова полностью не доверяли этим жалким розовым ленточкам, черные зубцы которых, по мнению современной медицины, определяют прогноз жизни и смерти человека. Поверить в то, что эти розовые ленты могли открыть тайну болезни Любови Ивановны, было так же невозможно, как невозможно поверить, что наука с помощью приборов способна рассказать о том, как Любовь Ивановна смеется, как любит собирать грибы, как плачет за машинкой, перепечатывая какой-нибудь трогательный, с ее точки зрения, текст.
А Лидия Николаевна тем временем что-то уверенно требовала, и Михаил Степанович с высоко поднятыми к ранним залысинам бровями с ней соглашался. А забытая, невыключенная музыка звала к простым радостям жизни.
От напряжения
Оля на секунду задремала, потом проснулась
и очумело огляделась вокруг. Она все
забыла в сегодняшнем утре, она помнила
лишь минуту, когда они вдвоем с Олегом
вошли в палату, Олег схватил ее за руку
и больно сдавил, и так, стоя рядышком,
они лживо смотрели на Любовь Ивановну.
Та молча глядела на них с высокой подушки,
как с трона, и Оля почувствовала: даже
под прикрытием подушечного трона
Любовь Ивановна не может заговорить,
потому что не желает знать правду —
хочет поверить в невозможное.
...Посовещавшись, мать с профессором вышли. Грозовое утреннее небо раздвинулось, и за окном появилось солнце, солнце добралось до Оли, ослепило и вмиг стерло призрачный кабинетный уют. И у Оли стало так нехорошо на душе, так тяжко. Неужели все кончено и ничего уже нельзя исправить? Сжавшись в комочек в кресле, подобрав под себя ноги, она сидела и наливалась отчаянием. Поверила ли Любовь Ивановна в то, что они помирились? Была бы здорова, не поверила бы никогда. Может, все же поверила? Ведь сын, сын же он ей... такая простая мысль, а прежде не приходила в голову.
9
Олег был сын, на которого положили всю жизнь, единственный поздний ребенок. Оля появилась в доме, когда сын уже закончил институт, и дом этот показался ей обаятельным старым архивом ресницах. Стены комнат были увешаны старинными фотографиями в кожаных рамках и выглядели неправдоподобно в общей квартире, где кухня была строго разделена на две части, а по вечерам соседи запрещали пользоваться ванной. Любовь Ивановна между тем, проводя с юной невесткой первую экскурсию по дому, с дрожью в голосе поясняла Оле: «А вот Блок! Я здесь совсем крошка, всегда была дурнушкой, верно? А вот редкая фотография Толстого! А это моя бабушка в молодости. А это мой двоюродный дедушка в старости. Ну, как тебе моя родня? Красивые были люди, верно?» Оля в ответ вежливо мычала и старалась ничему не удивляться. Уже много позже она узнала, что день рождения Пушкина праздновался на Фурменном как семейный праздник.
Александр Георгиевич служил в министерстве, Любовь Ивановна числилась машинисткой в техническом издательстве, но работала дома, воспитывая сына, воспитывая самозабвенно, до одури, не отпуская от себя ни на шаг, и нет ничего удивительного в том, что к концу школы Олег взбунтовался: мать годилась ему по возрасту в бабушки — приставучая бабушка, от которой не отвязаться. Он стеснялся ее и не любил бывать вместе на людях. В ту первую экскурсию в историю семьи Любовь Ивановна долго показывала Оле снимки гидростанций, которые проектировал муж, его треугольники с фронта, южные курортные фотографии. На свет было извлечено и множество дореволюционных открыток — от старших братьев и сестер Любови Ивановны. Там были и письма сестры Сони, изучавшей живопись, и рано умершего брата, завершавшего медицинскую стажировку, и младшей сестры, лечившейся от туберкулеза в горах. В письмах жила история большой семьи, где подрастали и оперялись дети; на просторной подмосковной террасе улыбалась фотографу смешливая девочка, превратившаяся теперь в одинокую рыхлую старуху.
Рыхлая старуха с белым смешным хохолком на затылке умирала в соседней палате... Нет, нет, не может быть! Неужели Олег не успел попросить прощения? И Оля не успела... «Почему ты мало занимаешься научной работой, деточка? — слышался Оле ее голос, и голос казнил пыткой.—Я тебе буду перепечатывать, я же с радостью, ты знаешь». «У тебя нет зимнего пальто, пойдем в магазин, я присмотрела материал. Не подходит? Не модный, говоришь? Зато теплый. Все равно, давай сошьем, на каждый день сойдет. Это тебе подарок на Новый год. Не хочешь возиться? Ах, Оля, какое легкомыслие!»
Под аккомпанемент ее уютного ворчания катилась Олина жизнь, и казалось, ворчание это вечно, дано навсегда, само собой. И летом, за городом, эти бесконечные приставания: «Ты не поела! Ты похудела! Сними мокрый купальник! Выпей на ночь молоко. Умойся простоквашей!»
Оля выбежала из кабинета, постучала в палату Любови Ивановны, никто не ответил. Тогда она рывком открыла дверь. В палате никого не было, только брошенная второпях, разворошенная белая постель и капельница с каплей крови на конце стеклянной, чуть покачивающейся трубки...
— Оленька, доченька, — вошла тетя Тоня, — увезли, в реанимацию увезли. Бог милостив, доченька.
Оля молча выслушала тетю Тоню, повернулась и побрела обратно в кабинет.
— Выпей чайку, Оленька, вот, крепкого тебе принесла, — сказала, войдя, тетя Тоня.
— А где мама? — спросила Оля.
— Там мама, там! — махнула куда-то рукой тетя Тоня.— И профессор там. Не смотри, что молодой, он старокожий, Оленька, он спасет! Ты пей, пей чай, и от солнца отсядь, голова заболит. Ишь, лето разоряется, сосуды дергает. То гроза, то солнце. Вот сюда в уголок сядь, доченька. Пристройся, поспи, лица на тебе нет. Ты о чем это думаешь? Жива она, жива!
Добужинский, Бенуа, Петров-Водкин... какие красивые лоси, один к одному, прямо в сердце, редкая удача!.. Где же достать картину, которую он хочет? Позвоню Туманову в Ленинград, пусть достанет! Но это целое состояние! Надо срочно раздобыть деньги. Почему я не приняла сберкнижку? Но кто же знал? Любовь Ивановна знала. У кого взять в долг? Жизнь прожила, а нет богатых друзей... Да, надо бежать доставать деньги. Так просто! Акварель Бенуа, и он спасет. Все перепутала, не Бенуа! Кого же? Забыла! Если захочет, он спасет. Нет, поздно. Надо позвонить Олегу, вызвать... подожду немного. А Сережа? Сережу все равно не пустят...
Сережка, ремонт, потом комиссия... Чем занималась Любовь Ивановна эти последние дни? Пачки писем, перевязанные ленточками, кипы открыток, ящик корреспонденции покойной сестры Сони — этой весной она разобрала свой архив по годам, разложила по папкам. Для кого, для чего? Кому нужны теперь эти бумаги?
Оля сидела и в смятении вспоминала.
На Новый год Любовь Ивановна обычно уезжала к сестре в Ленинград, а летом непременно на неделю в Смоленск, на родину мужа, где продолжали жить какие-то дальние родственники. Этим же родственникам она каждую зиму посылала посылки. И ни разу не попросила, чтобы помогли донести до почты. А мы с Сережей ни разу не предложили...
Далекий предок Олега погиб в 1812 году в битве под Смоленском, так что стела в Смоленском кремле, золоченый орел на ее шпиле — все это принадлежало отчасти родовой памяти семьи, ее давно минувшим печалям. Семье принадлежали и могилы возле церкви в деревне неподалеку от Смоленска. Церковь давно не действовала, кладбище исчезло, три уцелевших чудом плиты свидетельствовали, что Олегов предок скончался от ран, сын его умер в Санкт-Петербурге, но был похоронен в родовом поместье рядом с отцом и матерью. И сын сына тоже лежал рядом. Цифры на желтоватом мраморе, который безутешная вдова героя смоленской битвы выписала из Италии в таком количестве, что мрамора хватило на все семейство, на весь девятнадцатый век, цифры, разумеется, не сообщали ни о тяжести ран героя первой Отечественной войны, ни о том, что делал в своем имении перед лицом нашествия французов его престарелый отец, чья могила не сохранилась, успел ли бежать или, подобно старому князю Болконскому Льва Толстого, внезапно умер от горя. Даты жизни не рассказывали также подробностей о прадеде Олега, который открывал по линии земства школы в своем уезде, но вместе с тем был известен в семье своим вздорным и неуживчивым характером.
Надгробные семейные плиты были выворочены из земли, словно кто-то тащил их, тащил куда-то, потом передумал и бросил... Сын старика умер от туберкулеза, полученного в японском плену, но перед смертью перевез семью в Москву, купив флигель в Хамовниках. Старший сын его Александр Георгиевич вырос, и его единственный сын, Олег, родился в свой черед, когда Александру Георгиевичу было уже под пятьдесят. Дом в Хамовниках после революции перешел в ЖЭК, мать и обе сестры Александра Георгиевича умерли рано, уплотнение почти не успело отложить отпечаток на их жизни. А Александр Георгиевич женился и переехал на Фурманный к Любови Ивановне, в дом ее отца. И вот теперь произрастал в Мерзляковском переулке последний отпрыск рода — Сережа.
Оля ездила в Смоленск несколько раз: в Смоленской губернии были имения нескольких декабристов, в том числе тех, чья судьба особенно волновала Олю, — Каховского и Якушкина. Вообще это был беспокойный край, разоренный нашествием Наполеона, край надежд, в Смоленске намечалось создать собственную управу. Именно в Смоленской губернии во время голода М. Фонвизин и И. Якушкин развернули сбор пожертвований в пользу голодающих, так напугавший царя Александра I. Это тогда он сказал о будущих декабристах: «Эти люди могут кого хотят возвысить или уронить в общем мнении, к тому же они имеют огромные средства, во время неурожая в Смоленской губернии они кормили целые уезды»... Оля мало что нашла — часть Смоленского архива сгорела в последнюю войну, зато по просьбе местного руководства прочитала лекции — в райкоме комсомола, в краеведческом музее, в центральной юношеской библиотеке. Она познакомилась со множеством замечательных людей, энтузиастов истории края. Когда она звонила в Москву из одной из башен кремля, приспособленной под переговорный пункт, и, сидя в кабинке, взглянула в узкую щель бойницы и увидела большой зеленый город с куполами церквей, садами, крутыми оврагами, она вдруг удивилась: как же так, жила и не знала, что есть в России такой дивной красоты город. Секретарь горкома комсомола, полный человек, мягким овалом лица похожий на Твардовского, подарил Оле стопку книг о смоленском крае и два часа энергично убеждал ее написать книгу об истории Смоленска, а потом еще часа два рассказывал о местах, которые намечено реставрировать в ближайшие годы. Из его рассказа Оля узнала о скорой реставрации церкви, построенной в середине XVIII века предками Олега, о том, что сохранившиеся могилы вокруг церкви будут приведены в порядок,— установлено, что там похоронены уважаемые люди. Таким образом Оля случайно выяснила и привезла в Москву важные семейные новости.
Оля прислушалась. Бодрая беготня ординаторов, шаркающая походка больных, оживленные голоса. Она выглянула из кабинета. Развозили обед, ходячие тянулись в столовую со своими ложками. Врачей видно не было. Почему сейчас, как осколки в сердце, поворачиваются в ее памяти картины их общей жизни на Фурманном? Почему вдруг край письма неизменными лиловыми чернилами от сестры Сони, фотография террасы дома, где некогда гостил Блок, разобранной во время последней войны на дрова? Почему Александр Георгиевич в гробу с важным, открывшим наконец свою значительность лицом? И Смоленск, и тонкая березка, выросшая в проломе церковной стены, прошелестевшая Оле, что история продолжается, несмотря на срам разбитых могильных плит. И широкий милый толстяк с лицом Твардовского, неожиданно это кружевное шелестенье подтвердивший. «Она же так хотела в Смоленск,—вспомнила Оля,—все говорила, в последний раз, боялась ехать одна. Возьму отпуск и повезу ее в Смоленск, обязательно! И Сережа с нами поедет! Я его уговорю! Только бы осталась жива!»
10
Был большой и шумный, несмотря на лютых соседей, дом, был веселый стрекот машинки: втайне от мужа Любовь Ивановна вечно на что-нибудь подрабатывала; то на туфли, то на плащ, то на новый костюмчик Сереже, то дарила Оле нитку гранатов. И вот дом затих, обезлюдел, и приехала неотложка...
Вместе жили, вместе купали маленького Сережку, вместе раскладывали пасьянсы по вечерам, когда Сережа засыпал. Почему все ушло, не оставив следа? Почему, когда жили вместе, в тесноте, за ширмами, когда боялись лишний раз выйти на кухню, чтобы не нарваться на соседей, почему тогда все было ладно, весело и никто никому не мешал? Почему, когда Лидия Николаевна, получив ордер на новое жилье, сумела, поколдовав, выкроить две квартиры из одной бумажки, и они с Олегом зажили наконец своим домом, все начало стремительно рассыпаться? Они протянули с Олегом на Мерзляковском пять лет. Тянули, тянули, а своей семьи не получалось. Семья была лишь в те годы, когда они тесно жили на Фурманном, это Любовь Ивановна открыла Оле, что такое семья.
В жаркий полдень Оля стала мокрой, как промокашка. За стеной послышались чьи-то громкие, грубые голоса, топанье ног... Нет, нет, это ходячие больные возвращались с обеда.
Сколько раз бросала Оля маленького Сережку на попечение Любови Ивановны, а сама уезжала в командировки, резвая, глупая девица, будто собиралась нарожать еще сто детей и рассчитывала успеть ими насладиться. Она вспомнила одно свое возвращение — от крыльца бежит маленький мальчик, матовые глаза слепые от счастья, щеки круглые и русая, почти белая челка. «Мой сын»,— изумилась Оля. Это было в то лето, когда появилось невиданное множество божьих коровок и гулять с Сережей стало невозможно: он останавливался на каждом шагу, наклонялся над каждой букашкой, не хотел идти дальше, ревел, получалась пытка, а не гулянье, Оля раздражалась, дергала его за руку, тащила силком, и они с Сережкой ссорились. Оба вы маленькие, говорила Любовь Ивановна и уводила Сережу с собой, и они часами ползали по земле, наслаждаясь без помех — без судорожного торопливого бега неизвестно куда и неизвестно зачем.
Все ушло, улетело, исчезло, как ушло то лето в красную крапинку божьих коровок, как ушли в свое время все те, кто строили церкви, защищали Смоленск, писали длинные письма из блокадного Ленинграда. Все ушло, уходит, исчезает. А жизнь продолжается, отчего, зачем? Зачем жить, если память так коротка и неблагодарна? Зачем так достойно и мужественно жил Александр Георгиевич? Что Оля знает о своем покойном свекре? Чем он жил в старости? О чем он думал? А Любовь Ивановна? Оля вдруг увидела ясно: большие, захламленные комнаты на Фурманном, вечер, в кресле сидит малоподвижная, рыхлая старуха... одна. Что она делает? Смотрит телевизор? Да нет, никогда особенно не любила. Читает? Но сколько можно читать? И телефон молчит. И все подруги умерли. И скоро восемьдесят. Сидит. Ждет звонка. От сына. От внука, который звонками не балует. От Оли, у которой часто и минуты нет, чтобы спокойно позвонить. И еще эти окна с видом на больницу...
Да это же я, я во всем виновата! Я, одна я, больше у нее никого не земле нет. Есть только все эти папки, альбомы, письма, за которые она держится, как за живое. И сестра умерла. Мой, мой грех! Но как же я не догадывалась раньше?
Бесконечная суета была Олина жизнь, и в этой жизни самое трудное — невозможность понять, что же главное. То ли само собой так сложилось, то ли Оля так сложила? Или это городская жизнь, которая несет вместе со всеми, и нельзя сбавить шаг, потому что иначе — собьют? И тебя несет в общем потоке, как несет всех. И все почему-то твердо знают в каждую данную минуту, куда бегут и за чем, и это кажется им страшно важным, значительным, жизненно необходимым, словно не исполнить нельзя, словно от этого бега зависит ближайшее счастье. Это поражало Олю в последнее время все сильнее и горше — трата сил на то, на что человеку преступно их тратить... Правда, есть неизбежное. Суп, который надо сварить, неотмытые кастрюли, ворох непостиранного белья. А все остальное? Новые экспозиции, экскурсии, лекции, срочно написать каталог, успеть сдать тезисы... Нет, вроде ничего нельзя отложить, все необходимо, и необходимо срочно. Отложить можно только свое, домашнее, тех, кто рядом, кто не обидится, от кого ты и твои дела вроде бы непосредственно не зависят. Почему в жизни получается так, что откладывается самое близкое, дорогое, любимое? Почему мы, не сомневаясь, уверены — все впереди, успеется, свидимся, посидим. Догадываемся, что это неправда, но гоним прочь темные мысли — глупости, успеется! Но ведь можно жить иначе, без этой жалкой присказки — «успеется!». Можно, необходимо! Откуда эта дозволенность себе, это тайное грешное разрешение пренебречь, отмахнуться, забыть о близких как бы случайно, на бегу, впопыхах, ненароком? Сколько лет изучает Оля материалы о декабристах и всякий раз заново поражается их любовному, братскому отношению друг к другу. Она занималась этим вопросом специально — «человеческим» аспектом декабристской традиции в русской культуре, то есть традицией определенного типа поведения. Все было расклассифицировано, разобрано, разнесено по карточкам, все получалось поучительно и трогательно — бытовое поведение декабриста с домашними, детьми, друзьями, с простым народом составляет одно из вершинных проявлений русской культуры. Вывод, к которому приходят многие исследователи и который без всяких исследований так хорошо знал Толстой. В этом простом выводе заключалась одна из социологических отгадок того, почему так интересуют современного читателя отношения людей той далекой эпохи. Дело не только во внешней красивости той жизни, корни интереса гораздо глубже: читатель хочет узнать для себя лично, как хорошие люди могут, могли бы, должны были бы общаться между собой... Оля так долго жила в атмосфере семейной декабристской переписки, так хорошо ее знала и, казалось бы, чувствовала. Но что она усвоила из этих уроков терпения, добра и любви? Что, скажи? — терзала Оля свое сердце. Если некогда бывало ездить на Фурманный, соображала она, могла бы писать письма, короткие, веселые письма. А Любовь Ивановна спускалась бы по утрам вниз, к почтовому ящику, доставала конверт... Сколько маленьких радостей могла бы я ей доставлять, если бы хоть что-то понимала, сколько способов показать, что мы с Сережей ее любим, тревожимся за нее, готовы помочь... А какие есть способы? Не знаю, растерялась Оля, не знаю, не умею, не приучена... Нет, это даже не черствость, это какая-то глупость души, отсутствие привычки, навыка, традиции. Нет, нет, это просто другой век, другой стиль общения, все другnbsp; на бегу рулономое... Да нет, это мы сами делаем век другим, ведь от нас тоже кое-что зависит, судьба пяти-шести близких, родных людей, которых мы можем обогреть, обласкать, защитить от холода одиночества своим теплом и вниманием. Почему вовсе не у всех это получается? Почему можно так складно писать о непрерывности традиции, о том, что ничего не пропадает, как не пропал тот идеал, который они принесли в нашу бытовую культуру... и вместе с тем... одновременно мучила себя Оля, вместе с тем оправдываться — другой век, другие скорости, телефон есть! Нет, нет, раньше у нас с Любовью Ивановной так не было, раньше она у нас жила месяцами, а сейчас... Нет, но почему все так сложилось в последнее время?
Почему? Потому!
Сколько у Оли домов, куда она несется, задыхаясь, заранее прикидывая, когда убежит и оттуда? Домов, куда тащит сумки, наводит порядок? Три... свой дом на Мерзляковском, музей и комната на Пресне. Разве может у женщины быть три дома? Разве можно разрубить сердце на три части? В каком веке какое женское сердце это бы выдержало? Зачем, зачем ей эта комната на Пресне? «Все у них как у людей,— ядовито заметила однажды Нина Михайловна об одном тайном романе, — встречаются по вторникам и пятницам». Оля потом прикинула. Ну да, они с Тумановым виделись чаще всего именно по этим дням, сообразила потом Оля, оптимальный вариант для женатого мужчины. Как все, оказывается, предсказуемо! Какие грустные схемы вырабатывает жизнь! «Я уйду в восемь».— «Послушай, Оля, это смешно, он же взрослый мальчик»,— «Ну, в девять. Крайний срок».— «Он что, сам не ляжет спать, балбес в шестнадцать лет?»— «Не ляжет, я побежала». Она вскакивала и убегала, а в коридоре ее подкарауливала скрюченная старушонка соседка, в выцветших глазах которой тускло поблескивало стальное торжество. По вторникам и пятницам... И постараться пронырнуть так, чтобы не полоснуло стальной обоймой из кухни... да разве это дом?
В самом деле, сколько времени в Олиной жизни оставалось на долю Любови Ивановны? Вторник и пятница — Туманов, в среду кружок, в остальные вечера неотвязные дела. Вечера сразу находились, когда у Оли бывало совсем уж худо на душе... Но ведь раньше Любовь Ивановна к ним сама приезжала, и приезжала очень часто. Оля возвращается домой, а на плите обед, а в квартире чисто. Любовь Ивановна чувствовала, что нужна, что по-прежнему здесь хозяйка, кормилица, глава дома, хранительница очага. Почему это внезапно прервалось? Постарела? Стало трудно ездить? Постарела, разумеется; бывает теперь только после настойчивых приглашений, в гостях. Бывает в гостях там, где был прежде ее дом. И тут Оля догадалась: господи, да это же Туманов! Его появление! Любовь Ивановна стеснялась, боясь застать, страшась помешать, терпеливо дожидаясь, когда образуется Олина жизнь. Не дождалась! Оля лишила старуху единственного дома. Потому что в этом доме все ложь, тупик, молчание там, где давно пора что-то решить. «Все! — забормотала вслух Оля. — Все решено! Все решено, я ей все скажу, мы обо всем договоримся. Лишь бы была жива!»
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





