ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
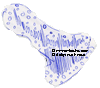


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Катасонова Елена
Всем собакам — маленьким и большим,
породистым и беспородным, живущим вместе
с нами и от нас независимо —
с любовью и уважением посвящается
Брем — черный лохматый пес. Глаза у него круглые и веселые, брюшко с белой подпалиной, лапки косматые, словно Брем ходит в бурках. Интересно, что сказал бы великий зоолог, если б знал, что именем его назовут пса неопределенной породы? Образованная соседка порицала Наташу, называла это кощунством, но за Наташу вступилась бабушка, Мария Тихоновна.
— Брем был бы рад,— взяла она внучку под всегдашнюю свою защиту. — Он был бы счастлив, что его до сих пор помнят и любят. И он не считал животных хуже нас с вами...
Соседка
захлебнулась от негодования, но Мария
Тихоновна повернулась и ушла к себе:
врачи не велели ей волноваться.
Легкомысленная собака Булька родила Брема в знойный июньский полдень, укрывшись от людей в подвале старого дома. Хозяева Бульки удивились невероятно.
— Как же так? — недоумевали они. — Ее же водили на поводке! Как мы ничего не заметили?
Булька, чувствуя смуту и общее недовольство, от щенков не отходила, ничего не пила, не ела и к себе никого не попускала. Но соседская девчонка Света пошепталась с Наташей, и они вдвоем проникли в подвал. Света прижимала к животу здоровенную миску с супом, а Наташа несла банку с водой. Она присела на корточки на почтительном расстоянии и, вытянув далеко руку, осторожно поставила перед Булькой воду. Булька, не переставая ворчать, чуть шевельнулась: пить хотелось давно.
— Булечка, милая, покажи щенка, хоть одного, — протяжно попросила Наташа.
Булька перевела взгляд с банки на девочку и, поколебавшись, медленно убрала лапу, ею укрывала от мира, прижимала к себе бесценное свое сокровище — крошечный, слабо шевелящийся и попискивающий комочек.
— Ма-а-аленький,— растроганно пропела Наташа.— Ой, Светка, я его выпрошу!
— А чего просить-то? — резонно возразила Света.— Подумаешь, щенок, да еще беспородный... Они и так не знают, куда их девать.
—
Правда? —
обрадовалась Наташа и метнулась к двери.
— Булечка, никого не пускай, я мигом!
Бабушка Наташу любила и баловала: их было двое на белом свете. Мама умерла, когда Наташе исполнилось три года. В таинственных тайниках памяти сохранились светлые волосы, теплые руки, запах сирени... Вот и все, так мало! Остальное восполняли бабушкины рассказы.
— Баб, ты послушай, только не перебивай,— запыхавшись от бега, тараторила Наташа.— У Бульки щенки, такие маленькие, совсем слепые, давай возьмем одного, самого черненького? У тебя ведь сердце, тебе велели гулять. Помнишь, тетя Настя еще уговаривала, а ты смеялась: «Чего это я на старости лет гулять потащусь?» А теперь будет щенок, ты с ним будешь дышать свежим воздухом... Бабуль, мне так хочется живое существо!
— Тебе, значит, существо, а как гулять — так мне? — Прищурилась бабушка, и добрые морщинки разбежались по ее лицу.
— Ура-а-а!..— завопила Наташа.— Наша взяла! Баб, я буду все сама, вот увидишь — и кормить, и купать, все-все!
— Ну-ну, тащи своего зверя, так и быть,— сказала бабушка.— Только заруби на носу, Натка, впереди восьмой класс. Будешь валять дурака, прогоню щенка на все четыре стороны...
— А я его догоню, и мы уйдем вдвоем, далеко-далеко, — мечтательно сказала Наташа.— Ты будешь плакать и махать нам платочком вслед. — Она любила сочинять истории.— А потом тебе станет грустно, так грустно, что ты возьмешь в руки железный посох, обуешься в железные башмаки и пойдешь искать нас на край света. И пока не износишь ты три пары железных башмаков, и пока не сотрешь три железных посоха...
— И пока ты болтаешь тут, Натка, кто-нибудь выпросит щенка себе и останешься ты, матушка моя, с носом, — сказала бабушка, и Наташа ахнула и побежала к хозяевам Бульки.
Никого как назло дома не было. Она звонили, звонила и звонила, но поняла, что все на работе, и печальная вернулась домой.
— Не горюй,— утешала ее бабушка.— Потерпим до вечера. Гляди-ка, что я шью... Угадай, для кого это?
Бабушка покойно сидела за зингеровской, инкрустированной перламутром машинкой и прострачивала половичок. Наташа тут же пристроилась рядом: она любили смотреть, как бабушка шьет.
— Ой, подстилка,— догадалась она.— Это щенку?!
— Конечно,— кивнула бабушка — старинный гребень не давал разлететься ее тонким серебряным волосам... Ты к нему теперь заходи, корми Бульку, только очень не надоедай. Вот увидишь, она поймет что к чему, поймет и доверит тебе щенка.
— А они согласятся? — Наташа побаивалась толстых хозяев Бульки.
— Хозяева? Ну, я думаю, возражать не станут. Только главное — Булька. Надо, чтоб она согласилась.
— Я отнесу ей торт, ладно? — рванулась к холодильнику Наташа.— Я, баб, сладкое уже не люблю!
Мария Тихоновна засмеялась.
— Разлюбила, значит? Отнеси-ка ей лучше мяса, вылови из супа. Да сбегай в библиотеку, посмотри, что там есть о собаках.
Так у Наташи появился Брем и по мере своих слабых сил начал старательно исправлять злую неправоту природы. Сначала его держали в кухне: он пачкал, пачкал и пачкал, хотя трижды в день Наташа выносила его во двор и приучала гулять. К осени Брем усвоил, что хотят от него люди, и в кухне стало чисто.
— Ну-с, молодой человек,— сказала однажды Мария Тихоновна, — пора выходить в свет. Прошу вас...— И она открыла дверь в комнату.
Брем постоял в нерешительности, покачиваясь со сна на коротких лапках, и медленно, с опаской вышел из кухни. Старательно обнюхивая пол, он потрусил по знакомому коридорчику и замер: перед ним зияло ничто, пустота. Но бабушка с Наташей стояли рядом, и это его подбадривало.
— Ну, зверь, не робей,— сказала бабушка.— Не робей, заяц!
Щенок ринулся в распахнутое настежь пространство, и его храбрость и безрассудство были вознаграждены. Какой новый, какой великолепный мир открылся ему! Черный комочек носился по ковру, отчаянно тявкал, пугая солнечный зайчик, пробовал на зуб открытую дверь балкона, рычал на телевизор и шкаф и наконец поднял, самоутверждаясь, лапу у полированной ножки стола. Ну, это ему простили: люди понимали его волнение.
Усталый
от всего виденного, потрясенный чудесами,
населявшими комнату, Брем рухнул на
ковер и мгновенно заснул, подняв все
четыре лапы кверху. Лапы во сне падали,
Брем тихонько на них ворчал, а бабушка
и Наташа сидели рядом на диване и смотрели
на него, очень довольные.
Пришел сентябрь, золотой и прозрачный, с синим высоким небом и паутинками по утрам. Наташа теперь ходила школу, и Брем провожал ее до дверей.
— Смотри не балуйся, — говорила она на прощанье, — я скоро вернусь.
— Да иди ты, иди, — торопила Наташу бабушка, — а то опоздаешь...
Проводив Наташу, Брем возвращался в комнату и, склонив голову набок, молча смотрел на Марию Тихоновну: ждал своей законной прогулки.
— Не спеши, егоза, успеешь,— ворчала бабушка.— Дай чаю попить.
Брем нервничал, широко зевал, вилял хвостом, гипнотизировал хозяйку молящим взглядом, и она сдавалась.
— Ладно, пойдем...
Пушистый комок приходил в неистовое движение: мотался, натыкаясь на мебель, по комнатам, бежал в коридор к бабушкиным башмакам, тащил, волоча по полу, длинный коричневый поводок. Они собирались и выходили. Брем хорошо знал этот путь: они отправлялись к деревянным домикам, на собачью площадку. Здесь росли старые липы и тополя, пахло цветами, осенними пожухлыми травами, и здесь было общество.
Высокие поджарые доги, побрякивая медалями и брелоками, бегали на просторе, разминая в вольном шаге мощные мышцы. Они нарочно не замечали всякую собачью мелочь и рычали только на себе подобных. Деликатные, обидчивые болонки держались поближе к хозяйкам, чистеньким аккуратным старушкам, огромная, всеми любимая за кроткий нрав ньюфаундлендша Альма снисходительно рассматривала пестрое общество. Брем, как и положено уважающему себя щенку, бросался в атаку сразу. Он хватал за ноги догов, дыбил шерсть на толстого и ленивого мопса, подпрыгнув, повисал на шее у терпеливой Альмы. Взрослые собаки все Брему прощали. Иногда, если очень надоедал, отводили щенка лапой, и тогда он летел кувырком, a вскочив на ноги, тонко визжал и бросался, жалуясь, к Марии Тихоновне.
Она сидела на толстом стволе поваленной бурей липы и грелась на нещедром осеннем солнце.
— А ты не задирайся,— отвечала она на Бремовы вопли.— Не приставай. Пойди вон к Альме, видишь, она тебя ищет.
Альма любила неугомонного Брема. Своих щенков у нее давно не было, и этот напоминал ей что-то давно ушедшее, молодое. Она ложилась на бок и подставляла щенку косматую морду — Брем, если встать на задние лапы, вполне до нее доставал. Он стоял так, положив передние лапы на теплую шею Альмы, а она закрывала глаза и блаженствовали, ощущая эти прикосновения. Но Брема не хватало надолго. Скоро он снова лез в драку, тявкая отчаянно и тонко: он только недавно научился лаять. Он рвался в бой с главным соперником — Шуркой.
Шурка был однолеток Брема с судьбой довольно трагичной: его, еще слепого, беспомощного, топили в поганом ведре, бездонном и черном. Топил со знанием дела хозяин дачи, которую снимала на лето Нина Сергеевна, худенькая, слабая легкими женщина из восьмого подъезда. На человеческий крик Шуркиной матери — привязанная, она металась и кричала страшно — выскочил на крыльцо Гена, сын Нины Сергеевны. Он выхватил из ведра мокрый комочек, подскочил к хозяину, угрюмому, бородатому мужику с руками-лопатами, и наорал такое, что с дачи пришлось срочно съехать, потеряв отданные вперед деньги — мужик не вернул ни копейки.
— Ну и ладно,— храбро сказала Нина Сергееина, всего-то август остался, да, говорят, дожди идут, пусть подавится, мироед!
Денег было, конечно, жаль.
Но зато Шурка, подлец, был хорош! Глаза черные и блестящие и черным обведены, на умной рыжей мордочке такой же черный угольный нос, сам не пушист, но и не совсем гладок: на спине колечки, хвост венчиком и задирист.
Вечерами Гена выводит своего Шурика на прогулку, учит приносить палку («Фас, Шурик, фас!»), брать след, прыгать через узенькие ложбинки. Гена учит старательно, но Шурка через канавы не прыгает, на палку вякает и ее грызет, след, игнорируя грозные приказы, не берет, хотя что-то нюхает и куда-то рвется. Гена вздыхает и, махнув рукой, садится на бревнышко, чтобы здесь, вдали от материнских глаз, всласть покурить. Нины Сергеевны он не боится, но знает, что мать нельзя расстраивать, и потому скрывает от нее драки, двойки, конфликты в школе и другие мелкие и крупные неприятности.
Предоставленный самому себе, Шурка пристает к собакам, валяется на холодной от осенних рос траве, встает на задние лапы, пытаясь разглядеть что-то вдали, и вдруг — одновременно — они с Бремом видят друг друга: Наташа идет на площадку и Брем бежит рядом с ней.
— Брем, не сметь!
— Шурка, фу!
Но Брем с Шуркой в восторге и бешенстве мчатся друг к другу. Смешиваются черная и рыжая шерсть — вопли, тявканье, неумелое, но грозное рычание... Хозяева разнимают, хватают, тянут щенков к себе, а те заливаются пронзительным молодым лаем, грозятся куснуть хозяйские руки, скалят клыки — а клыки-то уже есть! — поднятые высоко в воздухе, извиваются и визжат.
— И чего вы не поделили?
— Ну что вам надо?
Никто не знает, никто. Ясно одно — Шурка и Брем враги навсегда. Бабушка с Гениной матерью первыми понимают это, полушутя-полусерьезно договариваются о «челночных» прогулках.
— Вы, Ниночка, гуляете в семь, перед работой? Тогда я буду в восемь...
В те редкие дни, когда случаются неувязки, Мария Тихоновна, завидя дальнозоркими глазами Нину Сергеевну, поднимает высоко руки, машет варежками, как моряк-сигнальщик: «Не подходите, не подходите...» Маленькая легкая Нина Сергеевна (даже не верится, что мать взрослого сына) тут же поворачивает в другую сторону. Но не дай бог Шурке первым увидеть Брема! Марии Тихоновне приходится тогда тяжело: надо хватать Брема и держать изо всех сил. Шурку выгуливают без поводка, и он быстро и метко летит на врага, прыгает высоко и точно, пытаясь допрыгнуть до Брема, зажатого в бабушкиных еще крепких руках.
Вечерами сложнее: Гене нравится Наташа, ему хочется ее видеть и с ней говорить, и потому, поглядывая в окно, он ждет, когда же она появится. Наташа выходит и синих джинсах и кедах, в хипповой, из мешковины, куртке — уже конец октября, — и Брем шагает с ней рядом, с удовольствием прислушиваясь к позвякиванию новой шлейки.
Гена
мгновенно набрасывает на Шурку купленный
на днях поводок и выходит следом, крепко
зажав конец поводка в руке. Сутулясь от
смущения, он приближается к
великолепно-небрежной Наташе, хочет
что-то сказать, но чертовы псы тут же
кидаются друг на друга, поводки
перекручиваются намертво, свирепое
рычание оглашает окрестности. Наташа
поднимает Брема высоко в воздух, Шурка
прыгает, как кенгуру, и хватает Брема
за хвост, Брем отбрыкивается задними
лапами... Какая уж тут беседа!
Зима, весна, лето прошли незаметно: Брем рос, рос и poс и чувствовал только это — как он растет и меняется. Ко второй зиме он был уже не щенком, а юным и сильный псом. Тут-то и случилась история, которая сразу сделала его взрослым.
Однажды утром Мария Тихоновна, легонько потрепав Брема за уши, сказала:
— Ну, Брем, сейчас ты снова увидишь снег, да ты его небось и не помнишь.
Брем сразу насторожился: он и сам чувствовал — что-то случилось, неуловимое что-то произошло в природе. Всю ночь за окном тихо шептало и падало, только чуткий собачий слух мог уловить этот шепот. Сквозь сон Брем слушал и слушал, и уши его нервно вздрагивали.
Он дождался, пока оделась Мария Тихоновна, нетерпеливо натягивая поводок, вышел из парадной во двор, и в глаза ему ударило светом: сияло солнце, белым сверкала земля. Это белое жгло холодом лапы, оно манило, пугало, пахло свежестью, новизной. Брем прищурился, задышал, зафыркал, сунул в снег черный, пуговкой, нос и вдруг рванул поводок и ринулся вперед, на волю, туда, где расстилалось ковром это белое и блестящее.
Он ворвался на жгучий снежный ковер и полетел по нему, прижав уши, дрожа от неведомого доселе восторга. Зимнее солнце слепило глаза, ветер пронизывал мягкую шерсть, горели от снега лапы. Он знал, что ему попадет, но ничего не мог поделать с тем великим чувством свободы, которое затопило его, как огромное и блаженное ледяное море, потребовало от него рывка, бега.
Наказание было чудесным продолжением счастья. Когда, набегавшись, он стал нарочно вертеться вокруг хозяйки и она словила его, он получил такую снежную ванну, о которой и не мечтал.
— Вот я тебе покажу, как бегать,— посмеиваясь, проворчала Мария Тихоновна, подняла Брема высоко в воздух и бросила его с размаху в рыхлый молодой снег, собранный в кучу старательным дворником.
Визжа от восторга, Брем вылез, отряхиваясь, и залился возмущенным лаем: «Так нечестно, нечестно! Так с собаками не поступают!» Мария Тихоновна, как всегда, отлично его поняла:
— Да будет тебе, притвора, сам небось рад до смерти... Ну пошли, что-то я устала сегодня... Тяжелым ты стал, однако...
И они, довольные снегом, прогулкой, друг другом, отправились восвояси. Они медленно поднимались на свой невысокий третий этаж, и вдруг Мария Тихоновна остановилась и схватилась обеими руками за перила: «Погоди, Бремушка, передохнем...» Что-то в ее шепоте напугало Брема, и он, с тревогой на нее поглядывая, тихонечко заскулил. Мария Тихоновна смотрела прямо перед собой, лицо ее было белым и строгим, и тогда Брем заплакал громко и жалобно: не хотел он такого лица!
Открылась дверь, выглянул сосед по площадке: «Что с вами, Мария Тихоновна?» Выскочили еще какие-то люди, стало шумно и беспокойно: пахло незнакомым и странным, звенели ключи, хлопали двери, ходили женщины в белых, как этот первый снег, халатах, плескалась вода в стакане. Мария Тихоновна лежала смирно и отстраненно, а Брем забился под диван, в самый дальний угол, чтобы на всякий случай быть рядом.
Когда все ушли, он выбрался из-под дивана, поставил на постель передние лапы и заглянул хозяйке в лицо. И она, уже в полудреме после укола, приоткрыла глаза и ответила на его преданный взгляд: «Все в порядке, Брем, я буду спать...»
Она заснула спокойно, потому что возле нее был Брем, и он лег на коврик и стал ждать Наташу, прислушиваюсь к дыханию Марии Тихоновны. Иногда он поднимался, ставил на постель мохнатые лапы, смотрел, как она спит, и тихо возвращался на место. В три часа он молча и быстро выбежал в коридор навстречу Наташе и так же молча и быстро повел ее к Марии Тихоновне...
Почти два месяца хозяйка пролежала в постели, и Брем нес бессменную вахту: дремал, когда спала она, смирно сидел в ногах, когда она читала, помахивал хвостом, повизгивал и ворчал, отвечая на всевозможные ее рассуждения, слушал вместе с ней радио, а по вечерам смотрел телевизор. Нельзя сказать, что все это ему нравилось, что он полюбил, например, телевизор, как некоторые другие собаки. Ничего подобного! Ему по-прежнему хотелось бегать по собачьей площадке, знакомиться, ссориться и мириться с другими псами, нюхать снег и чужие следы, а главное — драться с Шуркой, но Мария Тихоновна попала в беду, и он оставался с нею. Никто его этому не учил, никто ни к чему не призывал, откуда-то Брем сам знал это, он это почувствовал в тот страшный миг, когда хозяйка застыла на лестнице и он завыл и залаял, призывая на помощь.
Он болел вместе с Марией Тихоновной, уставая ужасно. Так же, как она, неподвижно и тихо лежал он в спальне и отлучался лишь для того, чтобы попить воды из своей белой мисочки. Зато когда появлялась Наташа, Брем начинил носиться по комнате, нервно лаять и хватать ее за ноги, он тащил к ней свою любимую игрушку — голубого резинового зайца — и требовал немедленно с ним играть, вне себя от радости он прыгал выше и выше, еще выше, отрываясь от пола мгновенно и без разбега, сразу, как вертолетик,— лапы и хвост лихо взлетали над покрытым клеенкой столом. Сдав дежурство, Брем снова становился молодым сильным псом, обуреваемым жаждой жизни. Он буквально волочил Наташу к собачьей площадке, поскуливая от нетерпения, ждал, когда отцепит она поводок, и тогда кидался в бой, и яростную потасовку.
Потом они возвращались домой. Наташа, подвязав лентой длинные волосы, гремела ложками и кастрюлями: готовился ужин. Брем получал мозговую косточку, самое вкусное, что есть на свете, тут же тащил добычу к дивану — там, рядом с бабушкой, уже сидела Наташа,— и они втроем ужинали. На него ворчали лишь для порядка: «Ну зачем ты ее принес?» На самом деле они любили провести вечер вместе. Перед тем, как сесть за уроки, Наташа ласкала Брема.
— Откуда ты у нас такой умный? — спрашивала она, поставив его перед собой на задние лапы.— Такой красивый, великолепный, такой великий пес — самый умный на всей земле, в Галактике и системе Галактик...— Наташа просто жила астрономией, верила, что скоро будет изучать звездное небо всерьез, в университете.
— Ну уж, даже в системе,— сомневалась Мария Тихоновна.
А Брем деликатно от Наташи высвобождался: что за глупости, в самом деле, стоять на двух лапах, когда у него есть четыре?
— Нет, бабуль, вот скажи, ведь правда, он очень умный?
— Правда, правда,— посмеивалась бабушка.— Все дворняги такие: в сто раз умнее породистых...
В душе Мария Тихоновна тоже гордилась Бремом, тоже считала его и красивым, и умным.
— Он не дворняга,— возражала Наташа.— Его мать наполовину болонка...
Брем
лежал у ее ног в классической собачьей
позе — вытянув передние лапы, высоко и
гордо держа голову, лежал и слушал себе
похвалы.
Настала весна, и Мария Тихоновна наконец выздоровела. Купили плитку, чтобы не дышать газом, в доме снова запахло вкусным. Днем Мария Тихоновна, сидя на табурете, чистила лук и картошку, а Брем лежал на солнечном горячем пятне и благодушно за ней наблюдал, сделав маленькие, сонные глазки.
— Вот придет Наташа, и будем обедать,— говорила Мария Тихоновна,— а уж потом вы отправитесь погулять. А вечером, молодой человек, придется вам искупаться: ничего не поделаешь, братец, весна, грязно на улице.
Брем слушал знакомый голос и щурился от удовольствия, оттого что в голосе том нет уже печали и слабости. Против купания он, в общем, не возражал, но любил принимать обиженный вид, когда Наташа мылила его шерстку, быстро и ловко окатывала теплой водой из душа, вытирала махровым полотенцем. Брем тогда вырывался и на нее рычал, а вырвавшись, начинал крутиться на месте, гоняясь за пушистым после купания хвостом, давая понять, что недоволен.
В апреле Мария Тихоновна стала сама гулять с Бремом. Он шагал рядом с ней степенно и важно, аккуратно переступая лапками-бурочками, он и поводок не тянул, чтобы не утомлять Марию Тихоновну. Но все его понимание, весь ум и такт улетучивались мгновенно, как только он видел Шурку. Мария Тихоновна тут же выпускала поводок: все равно Брема было не удержать. Гена, если успевал, хватал Шурку на руки и высоко поднимал над землей. Но он успевал не всегда: враги летели навстречу друг другу как одержимые, подлетали и схватывались в жарком сражении равных.
Однажды между Наташей и Геной состоялся диспут: отчего собаки враждуют? Наташа возвращалась из магазина и встретила Гену (последнее время что-то он без конца попадался навстречу). Худой, длинный, подкашливающий, он пошел рядом с ней, и они заспорили о собаках.
— Что-то же они доказывают друг другу? — горячился Гена.— В чем-то друг друга они обвиняют?
Наташа задумалась. Наверное, доказывают, наверное, обвиняют, что-то между ними произошло, чего никто из людей не заметил или не понял. Иначе как объяснить их вражду?
Впрочем, Брем этой весной вообще стал сердитым и раздражительным. Временами на него нападала хандра, и тогда он забирался под книжный шкаф и сидел там часами, тоскливо поглядывая оттуда на мир. В такие дни он ничего не ел, только пил и пил воду, а потом прятался под шкаф, в выбранное им самим убежище. Он по-прежнему любил и Наташу, и Марию Тихоновну, справедливо считал себя полноправным членом семьи, но чего-то необходимого, без чего и жизнь не мила, у него все-таки не было.
И настал день, когда Брем не выдержал. Черная, как он, собака без поводка и без шлейки забежала на собачью площадку, покрутилась около Брема, а потом потрусила куда-то, лукаво и маняще на него оглядываясь. Брем, забыв обо всем на свете, бросился вслед за ней, и они побежали.
— Брем, Брем! — отчаянно закричала Наташа, но он даже не оглянулся, не услышал ее, ничего он теперь не слышал.
Наташа попыталась догнать Брема, но не смогла. Так он убежал, так и пропал куда-то.
Целую неделю Наташа и бабушка ждали Брема: прислушивались к лаю на улице, приглядывались к пробегавшим мимо собакам. Мария Тихоновна даже ночью вставала, осторожно, чтоб не разбудить внучку, открывала дверь: ей все казалось, что Брем вернулся и не может войти в собственный дом. Через неделю она спрятала его мисочку, вздыхая, свернула подстилку, но выбросить не решилась: тогда бы они расстались с последней надеждой.
Часами они говорили о Бреме, вспоминали, как он болел вместе с хозяйкой, как, выкупанный, старательно вытирал о ковер мокрую шерстку, как жевал молодую весеннюю траву и радовался первому снегу. Обе неожиданно для себя привязались к Шурке, хотя он их не очень-то привечал, ворчал, как на лучших друзей заклятого своего врага. А Гена говорил, что Шурка о Бреме тоже тоскует.
— Вот честное слово! Выходим — и он ищет, ищет его, я же вижу...
Летом Наташа уехала в лагерь для старшеклассников, а бабушка в санаторий, а осенью объявился Брем.
Мария Тихоновна возвращалась из магазина, и вдруг черный лохматый пес чуть не сбил ее с ног. Пес был крепким и сильным, он был совсем взрослым, но он визжал, как щенок, прыгал выше и выше, еще выше, и по этим прыжкам, по этому визгу, еще не разглядев пса как следует, Мария Тихоновна узнала Брема. Она охнула и прижала руку к трепетавшему сердцу.
— Брем, милый, вот Натка-то будет рада! Где ж ты пропадал, разбойник?
Брем вилял хвостом, слушал знакомый голос и умильно смотрел на Марию Тихоновну. Успокоившись, он побежал как ни в чем не бывало к дому и сам повернул к их подъезду.
Наташа чуть не задушила Брема в объятьях. Уж как она купала, как ласкала, как кормила его — об этом и не расскажешь! Вечером она вышла с ним на прогулку, и радостный вопль разрезал вечернюю тишину: лихим аллюром, со всех четырех лап, к ним мчался Шурка. Брем ринулся навстречу — что тут началось! Взаимное соперничество вспыхнуло и разгорелось ярким огнем, будто псы и не ставались.
—
Откуда ты,
прелестное дитя? — мимоходом изумился
Гена и стал привычно разнимать вредных
зверюг.
И пошла, и поехала старая жизнь. Наташа училась, Мария Тихоновна вела хозяйство, а Брем сторожил дом, чутко прислушиваясь к звукам на улице, отвечая рычанием на подозрительные шумы.
Он ходил с хозяевами в магазины и на прогулки, заводил знакомства, ссорился и мирился на собачьей площадке, а главное — сражался с Шуркой. Их драки давно всем надоели, каждую из сторон стыдили и уговаривали, никто не мог понять истоков бесконечной войны. Наконец все смирились и на врагов махнули рукой: пусть дерутся, раз уж им так хочется!
Весной прибежала откуда-то прошлогодняя подруга Брема и снова увела его за собой. На этот раз и бабушка, и Наташа, стараясь не волноваться, терпеливо ждали.
— Имеет он право на личную жизнь? — говорила Мария Тихоновна.— Такой уж нам пес попался: любит свободу.
— А нас? — огорчалась Наташа.
— И нас любит, потому возвращается. А тебе, Наталья, экзамены сдавать надо, в институт поступать. Так что давай занимайся, сбрось меланхолию...
И Наташа садилась к столу. Она занималась истово, с утра до позднего вечера, сама, без всяких там репетиторов. Небывалая жара стояла в то лето в Москве: двадцать восемь, тридцать, тридцать два, даже тридцать четыре в тени... Мария Тихоновна, несмотря на призывы врачей и уговоры Наташи, никуда из города не уехала. Она кормила внучку салатами и поила соками, вешала на окна мокрые простыни, чтобы они впитывали в себя сухой жар раскаленной улицы, втайне она молилась, когда Наташа шла сдавать очередной экзамен.
— Господи, если ты есть,— шептала она,— сделай так, чтобы проходной балл был пониже! Ну чего они все ринулись на физфак? Помоги ей, господи, она так мечтает!
Такие молитвы возносила Мария Тихоновна небесам, но скорее всего помогли не они, а прошлогодняя олимпиада, на которой Наташа поразила преподавателей МГУ оригинальным решением сложных задач. Ее запомнили уже тогда, ее на физфаке ждали. Она сдала все блестяще и поступила.
Вот какие огромные перемены произошли во время второго отсутствия Брема. На сей раз он явился прямо домой, кто-то открыл ему парадную дверь, он легко вбежал на третий этаж, на свою лестничную площадку, гавкнул с достоинством и негромко: «Отворяйте, это я!» Ему отворили, и он вбежал извиняющейся походкой, чуть смущенно глядя на Наташу.
— Еще улыбается! — возмутилась Наташа.— Нет, баб, ты смотри, ведь он улыбается!
Мария Тихоновна с удовольствием смотрела на Брема.
— Он просто запыхался от бега,— заступилась она за него.— Налей-ка ему напиться, а потом — в ванную.
Брем пил долго и с наслаждением. «Раз-два-три, раз-два-три...» — считала Наташа, как он лакает. А бабушка принесла большую оранжевую простыню и пустила в ванной теплую воду.
Вечером, вычесывая разомлевшего от купания Брема, Наташа вела с ним беседу.
— Бродяга ты, бродяга,— укоряла она его.— Посмотри, как ты отощал, какой ты усталый, измученный... Ну зачем убегать, скажи? Разве дома тебе плохо?
Брем
открыл один глаз, взглянул на склоненное
к нему лицо, хотел лизнуть Наташу в щеку,
но голова его упала на лапы, и он заснул
крепким сном.
Училась в университете Наташа, хозяйничала в доме бабушка, убегал-прибегал Брем, резвилось новое поколение на собачьей площадке. Все менялось, все двигалось в этом мире, и только вражда двух, уже взрослых, псов оставалась неизменной и страстной. Шурка и Брем сражались с незатухающей яростью — сверкали клыки, летела шерсть в разные стороны, тяжелые от злости звери извивались в руках людей, и казалось, так будет вечно.
Но вот весной в доме у Брема снова остро запахло лекарствами, заходили чужие люди в тревожно-белых халатах, и Наташа перестала ездить в университет. Было хуже, чем в тот раз, Брем это сразу почувствовал. Марии Тихоновна лежала недвижно, не читала, радио не включала и с Бремом не разговаривала. Она только чуть-чуть ему улыбалась, когда ставил он на постель лапы и заглядывал ей в лицо. Но и улыбка пугала Брема: была она слабая, неуверенная. Брем волновался очень, от дивана не отходил, караулил Марию Тихоновну, и напрасно манила Брема вольная его подруга: он не мог покинуть своих в беде.
Той страшной ночью, когда кто-то невидимый и могучий ударил Марию Тихоновну железным кулаком в самое сердце, именно Брем разбудил измученную Наташу, стащив с нее одеяло. Наташа вскочила с расшатанной раскладушки. При тусклом свете ночника она увидела белый заострившийся подбородок на высокой подушке и рванула телефонную трубку. А потом был долгий кошмар: какие-то люди с тяжелыми сундучками в руках, провода по всей комнате, красная кислородная маска на чужом, изменившемся лице, тоже чужой, не Наташин крик в черной ночи.
Так они остались вдвоем — Наташа и Брем — в пустом доме, без хозяйки, одинокие и несчастные. По утрам, выгуляв Брема, Наташа уезжала на занятия, а он ложился у порога и лежал без сил, как старенький черный половичок, до ее прихода. Иногда он вздрагивал, вставал, повинуясь смутной надежде, и ходил по комнатам, обнюхивая каждый угол, каждый квадрат паркета. Его чуткий нюх схватывал едва уловимые, недоступные человеку запахи, и тогда снова вставала перед ним темная ночь и чужие люди, не сумевшие помочь Марии Тихоновне. Надежда покидала его, и он снова ложился у порога ждать Наташу. Она приходила усталая и печальная, гладила Брема по голове и шла в кухню, к его мисочке.
— Опять ничего не ел? — говорила она.— А я мясо вареное тебе купила...
Чтобы не обидеть ее, Брем съедал кусочек, хотя ему не хотелось, и они вдвоем выходили на вечернюю улицу.
Как-то раз, когда шли они, думая об одном и том же, одно и то же — одиночество — чувствуя, вихрем вылетел из-за угла Шурка и с победным рыком подскочил к врагу. Брем остановился и посмотрел на него задумчиво и серьезно, не понимая, чего от него хотят. Он смотрел на старого соперника, как на несмышленыша, на щенка, как смотрели когда-то на него самого взрослые псы, и Шурка растерялся. «Ты, что ли, не хочешь драться?» — уставился он на Брема, а тот повернулся и пошел равнодушно своею дорогой.
Слух
о том, что Брем перестал драться, мигом
разнесся по собачьей площадке. Но,
странное дело, никого конец этой долгой
вражды не обрадовал. «Тоскует собака»,—
говорили друг другу соседи Наташи и
вздыхали, каждый о своем.
Шло время, и в доме стали появляться люди. Они были разные — веселые и не очень, шумные и тихони, и к каждому у Брема было свое отношение. Одних он полюбил и признал, других принимал сдержанно, а некоторых буквально выживал из дома. Так выжил он противного типа, который повадился таскаться к ним чуть ли не каждый вечер. Брем его ненавидел, потому что от типа едва уловимо пахло вином, а пьяных Брем не любил и боялся.
Ни кусочки сахара, ни лесть, ни протянутая для ласки рука не могли смягчить Брема. Он тревожился, злился, резко и оглушительно лаял, он подбирался к врагу под столом и трепал ему брюки, хмуро ворчал на Наташу, а когда она, рассердившись, закрывала Брема в соседней комнате, поднимал такой ор, что приходилось тут же его выпускать.
— Ну смотри у меня,— грозила Наташа, отворяя дверь спальни, за которой истошно вопил арестованный.
Упрямо пригнув голову, Брем молча устремлялся к столу и, презирая грядущее наказание, цапал ненавистного человека за брюки.
— Глупый какой он у вас,— сказал, потеряв терпение, тип и разразился раздраженной речью о том, что держать собак в доме — чушь и баловство, что маленьких собак он не любит, а беспородных — тем более.
В тот вечер они с Наташей впервые поссорились, а потом и вовсе расстались.
— Ты невежливый, невоспитанный,— укоряла Наташа Брема.— Ты совсем не умеешь себя вести.
Брем смирно лежал у ее ног, покорно внимая упрекам, хотя Наташа была не права, и это он доказал.
Однажды, когда Брем, как всегда перед приходом хозяйки, улегся поближе к двери, он услышал не только ее шаги — там, внизу, на лестнице. Зазвенел ключ и замке, отворилась дверь.
— Ну, Брем, знакомься,— сказала Наташа. — Это вот Саша.
Брем подошел и сдержанно понюхал большие ботинки.
— Привет, зверь,— сказал Саша.— Наслышан о тебе, наслышан. Говорят, ты тут самый главный? Пошли, что ли, пройдемся?
И они втроем вышли на весеннюю улицу. Удивительно приятно было бежать с ними рядом, слышать голоса, обращенные друг к другу, отлучаться по многочисленным и неотложным собачьим делам, а потом догонять Наташу со всех четырех лап.
— Независимый пес,— уважительно сказал Саша. — Хозяин...
— Ничего подобного,— засмеялась Наташа,— мы с ним на равных. Чувствуешь, как пахнет сирень? На всю жизнь любимый мой запах... А ты, кажется, ему понравился.
— Так я стараюсь!
Саша приходил-уходил, гулял с Бремом, не признавая никаких поводков («Да не попадет твой зверь под машину,— уверял он Наташу.— Брем — парень умный!»), втроем они ездили в лес на грохочущей, разболтанной электричке, и Брем воевал до изнеможения с проснувшимися от спячки ежами, а потом горько жаловался на исколотый нос. Пришло лето, и они вдоволь наплавались в озере, на берегу которого в деревянном домике жили родители Саши. Брем полюбил, прижав уши, плыть рядом с Наташей голова к голове, охраняя хозяйку. А Саша в охране не нуждался: он был сильным, Брем это сразу понял. Сильным и добрым.
Август Брем прожил в деревянном домике: Наташа куда-то уехала, и Саша исчез вместе с ней. Брем немного на них рассердился, но жилось ему славно, бегал он где хотел, у озера собиралось интересное общество, и он своих великодушно простил. Осенью в их с Наташей жилище началась радостная суматоха: хлопали двери, в комнату вносили столы и стулья, входили и выходили люди. От шума, пения, плясок Брем укрылся в надежном убежище, в спальне, — залез под диван и не выходил, пока в доме не стало тихо. Все наконец ушли, а Саша остался. Так снова их стало трое.
Прошел год, и опять стали что-то передвигать и переставлять в комнатах, высвобождая место для высокой кроватки, в которой поселилось маленькое крикливое существо. Брему велено было к кроватке не подходить, хотя разрешалось сидеть в углу и смотреть, как Наташа на низеньком столике пеленает дочку, делает с ней гимнастику, сгибая и разгибая крошечные ручки и ножки. Брем быстро усвоил, что лаять в комнатах теперь нельзя, нельзя, как прежде, требовать от Наташи ласки, потому что Наташе не до него: улыбнется мимоходом и опять спешит к кроватке, стоящей в самом теплом и светлом углу. IИ Саша не обращал на Брема внимания: приезжал с занятий и тут же бежал куда-то с бутылочками, а по вечерам вместе с Наташей купал и баюкал дочку.
Брем лежал под диваном, и ревность терзала его сердце. Никому он теперь не был нужен, никому! Но вот однажды Наташа, совсем как прежде, поставила его перед собой на задние лапы и сказала:
— Совсем я зашилась, дорогая моя собака. И гулять, и стирать, и готовить надо. Да еще магазины! Пошли-ка вместе, а? Покараулишь Танюшку?
Брем, склонив голову набок, внимательно слушал. Он понимал, что его просят о чем-то, что «собака» — это он и есть, а Танюшка — то существо, из-за которого так резко изменилась его жизнь. Он вообще, как все собаки, живущие рядом с людьми, знал много слов.
Он шагал рядом с Наташей серьезно и молча, остро чувствуя собственную необходимость. У магазина Наташа поставила коляску, сказала: «Сидеть, Брем» — и еще: «Ну, пес, я на тебя надеюсь» — и ушла. Брем уселся перед коляской и стал караулить, зорко поглядывая по сторонам. Он и не заметил, как обида и ревность покинули его сердце и в нем поселилась забота о маленькой девочке, сладко спавшей под надежной защитой. А забота ведь очень скоро переходит в любовь.
И когда это случилось, Брем снова почувствовал себя сильным и молодым, как тогда, до той черной ночи, когда ушла из дома Мария Тихоновна. Течение жизни властно подхватило и понесло его в своем вечном и мудром круговороте. И через несколько дней, когда ничего не подозревавший Шурка вышел на улицу с Ниной Сергеевной и мирно потрусил куда-то, на него с радостным воплем налетел Брем и цапнул за заднюю лапу. Шурка взвизгнул от неожиданности и восторга, развернулся и бросился на врага. Изумленный Саша тщетно пытался остановить Брема:
— Брем, Брем! Да ты что, белены объелся?
— Он
у вас просто выздоровел,— сказала Нина
Сергеевна.— Очнулся ваш Брем от тоски.
Давайте, Саша, договоримся: вы когда
выходите на прогулку? — И добавила,
улыбаясь: — Теперь опять начнет убегать,
ах ты, бродяга...
1983
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





