ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


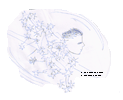
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Кожевникова Надежда
1
Это было давно, в конце сороковых годов. Город пополнился тогда одинокими женщинами, девушками, приехавшими из послевоенных деревень: многие из них устремились на заводы, на стройки, ну а некоторые шли устраиваться в дома, нянчить чужих детей, варить обед, убирать чужие квартиры.
Шуре, можно сказать, повезло. Она сразу попала к хорошим людям, супругам, еще молодым, у которых была трехлетняя дочка.
Муж — обычный муж — все больше отсутствовал, обращался к Шуре с неизменным «пожалуйста» и «спасибо», и лицо у него было постоянно усталое, а глаза с красноватой воспаленной каймой: он, как и многие в те годы, работал ночами.
Жена его, Шурина хозяйка, насиделась дома с ребенком и теперь рвалась служить, а потому так счастлива была появлению Шуры — будет наконец с кем оставить дочку Настеньку.
А Настенька была маленькая, тощая, хотя родители ее жили хорошо, дополнительные пайки получали. И всегда из носу у нее текло, и губы в лихорадке, вообще заморыш: Шура ее жалела.
Но вот удивительно — кроха, а характер такой, что и не подступишься. С хозяйкой, Еленой Дмитриевной, Шура сразу поладила, с хозяином — ну с тем и вовсе просто: что дадут, то и ест, улыбается рассеянно, кивает; но зато трехлетняя Настенька ни в отца и ни в мать, видно, пошла. Насупленная: сидит молча и глядит в угол. Шура с ней заговаривать пробовала— молчит. Выйдут гулять — Шура Настеньку крепко держит, но сквозь варежку розовую никакого к ней в руку точно и не идет тепла: будто не девочку живую ведет, а куклу.
Дети в сквере играют все вместе, а Настенька опять насуплена, опять одна. Шуре и обидно за нее, и готова уже вот-вот рассердиться: шлепнула бы пару раз — иди, играй, да если бы была своя...
Ну а так... Шура Настеньку купала, кормила, одевала, целыми днями они были вдвоем. Родители придут, перед сном поцелуют дочку, а иной раз и вообще появляются, когда Настенька уже давно спит.
Так и жили, дни, месяцы. Шура с каждой получки обновку себе покупала: из деревни приехала, совсем, можно сказать, голая была. А теперь, как выходной, ходила по магазинам, облюбовывала, высматривала, а про завтрашний день вроде и думать ничего не хотела. Была она, тогда говорили, темная, хотя от природы, наверно, и не глупа.
И с чудесными густыми золотистыми волосами. Хозяйка, женщина понимающая, восхищалась: «Ах, Шура, какие у вас волосы!..» А та только отмахивалась: заплетет их туго-туго в косу и под платок запихнет. Круглолица, с ямочками на щеках, со вздернутым носом — известный русский тип. И смешлива, и вроде вполне всем довольна, а одна-одинешенька на свете. Только тетка осталась, сквалыга: комнату в Москве имела, а племянницу вот родную не пустила к себе.
Шуре в то время пошел уже двадцать третий год, и должна была бы она, казалось, о будущем своем подумать. Но нет, не думала. Удовлетворилась, получалось, вполне существованием при чужом доме, с чужим ребенком, радуясь, что сыта и в тепле, — и, чтобы это понять, надо знать, чего она, Шура, перед тем натерпелась, как наголодалась и намерзлась, и время, конечно, должно было пройти, чтобы она отошла, — и немалое время.
Впрочем, восстанавливалась Шура быстро. Что и говорить, молодой организм. И ей нравилась чистота, она прямо-таки удовольствие получала, выдраивая, блеск наводя на чужие вещи; а, собственно, она и не задумывалась, что все это — не ее.
Убиралась и пела песни. Настенька, немного подросшая, слушала, не сводя с Шуры зеленоватых, не по возрасту серьезных глаз. От вечных простуд и лихорадок Шура ее выходила. Родители, конечно, были довольны. Ну а Настенька — она теперь сама вцеплялась Шуре в руку, когда они выходили гулять.
На улице, да уже и в доме ощущалась ранняя мартовская весна. И в щель раскрытой форточки проникал ее запах и солнечный трепещущий свет, и Шура говорила: «Дыши, Настенька» — и сама втягивала ноздрями этот удивительно свежий, острый, странно тревожащий весенний дух.
У Шуры были теперь шнурованные ботинки с серой, под мех, опушкой — парадные, и солидное зимнее пальто с воротником «кролик под котик», и такая же шапочка, а не как раньше — грубый серый платок.
Шла во всех этих обновках, жмурясь на солнце, по мартовской весенней Москве, улыбаясь чему-то полными, слегка, казалось, расплющенными губами, а рядом, вцепившись ей в руку, семенила Настенька.
Однажды какой-то мужчина, которого, впрочем, Шура встречала у сквера уже не раз, сказал: «Какая милая у вас дочка». И Шура, не замедляя шага, не останавливаясь ни на мгновение, ему улыбнулась. Но хотя они очень быстро прошли, Настенька успела обернуться, выдернулась из-под Шуриной руки и крикнула мужчине вдогонку: «Я не дочка!» А Шура, сама не сознавая, что делает, вдруг больно дернула девочку и шлепнула ее со злостью — это было настолько неожиданно, что Настенька даже забыла заплакать и худенькое ее личико еще больше, казалось, вытянулось от удивления.
Но и сама Шура была не меньше удивлена. Пожалуй, даже слово «удивление» не очень тут и подходит. Она была ошарашена, она была в отчаянии! Она сама не понимала, что на нее нашло. Но смутная догадка, что произошло это не случайно, что что-то подспудное, тайное нагнетается в ней, о чем она еще сама не имеет представления, мешало этот эпизод забыть. Наверно, то был какой-то зловеще-таинственный сигнал — предвестник будущих событий. И хотя Шура старалась выбросить это из головы, забыть, тем не менее она теперь чего-то ждала и не могла скрыть от себя свое ожидание...
2
Ей исполнилось двадцать четыре, как вдруг неожиданно умерла тетка. А ведь еще с неделю назад двадцатку пожадничала Шуре одолжить — вот она, жизнь!.. Но Шура плакала совершенно искренне над теткиным гробом, плакала, как плачут простые люди над покойником, каким бы он ни был при жизни, когда слезы вызваны и страхом перед смертью, и своеобразным уважением к ней, и причитанья, вздохи эти приносят почему-то облегчение: может, оттого, что считаешь выполненным свой долг...
Словом, Шура оплакивала свою тетку так, что опухла. И до ее сознания даже не сразу дошло перешептывание соседей, что комнату свою покойница оставила племяннице, что теперь она, Шура, единственная наследница тут.
И она зарыдала еще громче, когда узнала во всех подробностях о предсмертных хлопотах своей тетки; как вот она, такая, казалось, сквалыга, а позаботилась о родной племяннице, ничего ей о том не говоря.
И вот зачем, значит, понадобился тетке Шурин паспорт! Вот зачем узнавала она телефон хозяйки, Елены Дмитриевны,— вела, оказывается, с ней тайные переговоры, чтобы преподнести Шуре сюрприз, дорогой подарок — только в ту пору, когда самой дарительницы уже не будет в живых.
А Шура, глупая, и не думала, не подозревала!
Зажав ладонью рот, она уходила рыдать на кухню. И не слышала, как входила к ней Настенька, пыталась слабыми пальчиками отнять руки Шуры от распухшего лица — ничего она не слышала и не видела, не хотела тогда видеть.
Но прошло время, и она успокоилась. Состоялся у нее с хозяйкой разговор. «Вы, Елена Дмитриевна, не беспокойтесь,— сказала она, глядя в лицо хозяйке.— Пусть у меня теперь и комната, но я от вас не уйду. Совсем ведь одинокая осталась... В выходной буду туда, на Плющиху, ездить, а так у вас, хорошо?» И, не дожидаясь ответа, пошла на кухню к кипящим кастрюлям.
Она как-то вдруг посерьезнела, повзрослела. Будто смерть тетки, недоброй при жизни, неласковой, отразилась в ее душе глубже, резче, чем прежние, казалось бы, куда более тяжелые потери. А может, просто пришел час осознать все, что она, Шура, вообще пережила, настало время о прошлом и о будущем задуматься — и вот она, рослая, статная, взглянула на самое себя, и меж светлых бровей залегла у нее на переносье морщинка...
Она словно к чему-то готовилась — так вела себя, так глядела, выжидательно, строго. Но не допускала в себе нетерпения, суеты. Ей казалось: у каждого человека своя судьба — и, когда надо, оно придет, дозовется. Ни убежать, ни спрятаться от этого нельзя.
И вот дождалась... И хотя считала себя вполне готовой, испугалась, смутилась — куда легче, выходило, просто ждать и оттягивать срок свершения, решения всей жизни. Но страшно было и упустить, выронить уже из своих рук возможное счастье — ведь когда еще раз придет твой черед, разве знаешь?
И еще испытание: признаться вслух о случившемся как о реальном конкретном факте, хотя самой-то все пока кажется даже несбыточным.
...Шура все выбирала момент. И вот, когда хозяина не было дома, а хозяйка собиралась ванну принять, она, спросив, как обычно, что готовить на завтрак, помедлила в дверях: «Елена Дмитриевна, а я выхожу замуж».
И так просто, легко это получилось, что она улыбнулась с облегчением, увидев себя как бы со стороны: молодую, здоровую, любящую и любимую, и впереди столько радостей — свой дом, своя семья, свои дети...
Неожиданно она осознала разницу: чужое — свое. И что прошлая ее жизнь была только лишь подготовкой: в ней все тогда лишь дремало, хотя она думала, что жила. Все прожитые двадцать пять лет спрессовались точно в одно мгновение, и вот только теперь она начинает дышать, видеть, что вокруг.
Елена Дмитриевна, ее хозяйка, почти что сверстница, но уже жена, мать, уже нашедшая свою женскую судьбу и в ней определившаяся, смотрела на Шуру, как смотрят те, кто уже любил, на новую зарождающуюся любовь,— с неосознанной даже, может быть, завистью, вспоминая себя в ту пору и завидуя уже отчетливо той, прежней, себе.
Но, впрочем, все это проходит мгновением, и быстро восстанавливаешься ты нынешняя и нынешний твой жизненный опыт, дающий тебе, как ты думаешь, преимущества, и спрашиваешь уже не без снисходительности:
— Ну и кто же он, Шура, ваш будущий муж?
— Он...
Шура присела сбоку на валик дивана, взглянула серыми глазами куда-то вдаль:
— Он нженер... Но временно не работает. У него нет пока в Москве прописки. Когда мы поженимся и будем жить на Плющихе, он станет подыскивать работу. Зачем спешить — не в дворники же ему идти с высшим-то образованием! — И гордо: — У меня сбережения есть, протянем. И пусть найдет себе работу по сердцу. — Помолчала. — Он знаете какой...
— Он фронтовик? — спросила хозяйка.
— Наверно, — несмело ответила Шура. И тверже: — Конечно, фронтовик — ему тридцать шесть лет.
— И не был женат? Или разведен? Или...
— Да не знаю я, не знаю! — сердито и весело одновременно отмахнулась Шура. — Он! — воскликнула она громко и снова, почти шепотом: — Он...
Хозяйка молча на нее смотрела.
— Ну что же,— сказала наконец, — что ж, Шура. Раз вы решили...
— Да! — не дав ей закончить, Шура вскочила, обхватила себя руками за плечи.—Да!..
3
Может, прошли только месяцы, а может, и год, и годы — неважно сколько, потому что иной раз жизнь так ровно, плавно движется и так бедна событиями, что получается как в поезде, когда в окнах все тот же пейзаж, ощущение, что стоишь на месте. А бывает, то то, то другое, и все сразу, и вот уже захлебываешься в этой лавине и чувствуешь — нет больше сил, только бы дали передохнуть — иначе не выжить.
Словом, для одних то же самое время так воспринимается, а для других совсем иначе.
Для семьи, где раньше жила в домработницах Шура, показателем прошедших лет была дочь Настенька, взрослевшая, умневшая, превратившаяся теперь в подростка. И она сидела, как часто бывало, одна дома, читала книжки, когда в передней раздался звонок, пробудивший ее от мечтаний к реальности.
Настенька сползла с дивана, нехотя пошла в коридор, забыв опять, как велела мама, спросить: «Кто там?» Открыла дверь и увидела на пороге незнакомую женщину.
— Настенька,— сказала женщина, — здравствуй...
— Здравствуйте,— ответила Настенька.— А ни мамы, ни папы нет.— Но так как женщина молча продолжала на нее смотреть, предложила: — Заходите?..
Женщина вошла, сняла тяжелое, какого-то мужского покроя пальто, размотала платок, под которым оказалась еще полотняная в синий горошек косыночка, плотно облегавшая голову и низко спущенная на лоб.
А лицо у женщины было широкое, и не поймешь, старое или молодое, безбровое, безресничное, и все в каких-то красных вмятинах, точно в шрамах.
Она все так же непонятно-пристально разглядывала Настеньку. Потом вздохнула, улыбнулась безгубым ртом:
— Ну что, Настенька, не узнаешь?
И, не дождавшись ответа, присела на низкую табуретку у вешалки и вдруг заплакала, да так отчаянно, горько, что Настенька отшатнулась, отпрянула и захотелось ей куда-то убежать.
— Да Шура я, Шура!
Женщина отняла от лица руки, но оно по-прежнему оставалось чужим, не знакомым для Настеньки. Настенька пробормотала:
— Скоро мама должна прийти...
4
Разговор между мамой и Шурой состоялся, конечно, наедине. О завершении его Настенька узнала по Шуриным уже усталым всхлипываниям, по приближаюшимся голосам, а потом мама вошла к ней в комнату и сказала, что Шура опять будет с ними жить, но что пока она неважно себя чувствует, сильное потрясение пережила, и теперь у нее иногда бывает... Мама замялась, подыскивая слова. «Но это ничего,— шепотом успокоила она Настеньку, — не опасно...»
Настенька умела подавлять в себе любопытство и решила дождаться, когда Шура заговорит с ней сама — и ей не пришлось долго томиться.
Без вступлений, будто продолжая начатую фразу, наливая Настеньке в тарелку борщ, Шура внезапно произнесла:
— А он меня толкнул под трамвай.
Потом села за стол напротив и, не спуская взгляда с Настенькиного лица:
— Он, когда понял, что я все знаю, решил меня со свету сжить. Но я тоже смекнула, бросилась вон из комнаты — лифт занят, я по лестнице, а он за мной. Осень, холодно, а я в одном платье — на улицу. А он за мной. Бегу, задыхаюсь, хочу крикнуть: «Помогите, люди!» — а голос пропал, ничего не могу. А он за мной. Трамвай, вижу, подходит. На подножку уже вскочила, а он уже нагоняет. Вот еще шаг, да вдруг нога оскользнулась — и он рядом. А потом... Потом уже в больнице очнулась. Профессор «чудом» меня называл, из кусочков, говорит, сшивать пришлось. И выжила. И живу. Только все теперь не мое, видишь, тело, руки, ноги, лицо — все теперь не мое, из кусочков сшитое. Но живу. Видишь, Настенька, живу. А ему, злодею, ничего не сделалось. Гад, вывернулся. Сумел доказать, что его у трамвая будто бы и не было, — ну ты представляешь! Будто я ненормальная стала и все это придумала сама. Будто он еще раньше со мной расстался и жил в другом месте. А я, говорит, все это со зла, оттого, что он, мол, сказал, что жить со мной больше не будет. Ну представляешь! А ничего он не говорил, я сама дозналась. Ему комната моя была нужна, а чтоб меня со свету сжить... Ах, ду-ура-а я!
Она вдруг застонала, схватилась руками за голову, плотно обвязанную косынкой в горошек.
— А помнишь, Настенька, какие у меня волосы-то были? Мама твоя все хвалила... Так нет у меня теперь их! Все обрили, одни шрамы остались.
И опять она застонала, точно у нее уже не находилось слов.
— Настенька,— она вдруг улыбнулась, покорно, страдальчески,— а ведь я его любила... Любила — ах как...— И мрачно, мстительно: — А ему комната, оказывается, была моя нужна, комната...— И снова другим тоном, наставительно: —Ты вот, Настенька, говорю тебе, не люби, не делай себя несчастной. Пусть тебя любят — ведь так тоже бывает! Давай себя любить, но сама...
5
А дальше годы понеслись и вовсе, казалось, неприметно. Теперь они жили все вместе — хозяин, хозяйка, Шура, Настенька — и не замечали друг в друге особых перемен. А посторонние разве скажут: «Как вы постарели, Елена Дмитриевна!» Хотя о Настеньке, правда, говорили: «Как она у вас выросла!»
Да и сама Настенька замечала в себе перемены. Происходили они как-то скачками. Вот взглянет в зеркало и удивится: другая. Еще раз взглянет: опять не та, что раньше была. Будто кто-то ее поторапливал: давай, давай, взрослей, меняйся. А она не хотела, она упиралась, ей, как и раньше, прежней своей привычной жизнью хотелось жить.
Она, вообще-то говоря, сама не знала, чего боится. Может, просто для некоторых переход во взрослую жизнь проходит незаметно и безболезненно, а для других, по тем или иным причинам, оказывается испытанием, ломает и закаляет и привносит уже то, что остается навсегда.
Одни спешат стать взрослыми, ждут для себя неведомых раньше радостей, новизны, а другие, напротив, начинают чувствовать почти физически какие-то странные на себе путы — и вот почему они, молодые, бывают так раздражительно-застенчивы, так тяжко-неловки — до жара, до рези в глазах — и, кажется, ненавидят всех взрослых, которые свыклись уже с окружающей жизнью, и не представляется им вовсе, что она так сложна.
А может, дело тут не в возрасте. Может, просто существуют разные породы людей, и одни живут, не подозревая о смерти, считая ее нормальной, естественной, а другие столь же естественным воспринимают свой перед жизнью страх.
Но вопрос, кто из них может оказаться счастливей, вероятно, все же остается открытым. Да и что подразумевать под счастьем? Ровное ли благополучие, приветливое спокойствие, с которым встречаешь каждый новый день? Привычную ли уверенность, что жестокая в своей непредвиденности случайность тебя минует? Или... Или то ожидание, что не дает ни отвлечься, ни успокоиться и что взрывается вдруг событием, требующим всех без остатка сил,— это ли счастье, когда уже нет выбора и ты в подчинении, во власти той силы, которая и была заранее, кажется, тебе определена?..
Но дело еще в том, что, если ярко вспыхнувшая радость, преображающая жизнь человека и изнутри и извне, может показаться соблазнительной для многих, то совсем немногие, отнюдь не все, испытывают готовность расплатиться. Не все знают, что такая готовность как бы вексель, добровольно врученный судьбе, и только взамен его даруется способность понять, ощутить, всецело вобрать эту свою особую радость. С осмотрительностью, бережливостью она не сочетается никак. Осмотрительным, бережливым, осторожным дано испытать лишь то, что они заслужили: каковы затраты, таков и результат. Но зато и меньший у них риск рухнуть, разбиться о землю, искалечиться так, что и не узнать, превратиться в обритую наголо сумасшедшую Шуру, шепчущую в забывчивости: «Я его так любила...»
6
Шура, надо сказать, в обычной жизни была вполне нормальной. Занималась хозяйством и в хлопоты ее никто и не влезал, она делала что хотела. И была очень домовита, экономна, чистоплотна, не домработница — мечта! И только временами случались у нее вспышки подозрительности, ей казалось, что он опять ее преследует. Шептала Настеньке: «Знаешь, иду вчера по Пятницкой, чувствую, кто-то крадется за спиной. Оглянулась — никого нет... Опять он за меня взялся! Со свету сжить хочет. Комната ему моя нужна».
— Ну, Шура, — пытались ее убедить.— Не может он теперь претендовать на вашу комнату, вы же развелись.
— Нет, — твердила она упорно. — Он не из тех, он никогда так просто не отступит. Ведь как он меня заманил, как я ему поверила!.. Ведь будто зельем опоил! Нет. Он меня все равно настигнет, непременно со свету сживет.
...Ей было уже за сорок. Она стала грузной, с размятым шрамами лицом и маленькими, в запавших веках глазами. Столько лет прошло, а она не могла его забыть — единственного мужчину, которого любила. Которого боялась и ненавидела с той же силой, что охватила ее вдруг так же, как и любовь, и это чувство страха, ненависти и любви впечаталось в ее больное сознание с той же резкостью и так же прочно, как застывает в бетоне чей-нибудь случайный след. И то, что она верила в его преследования, было искаженным представлением больного мозга о былой любви. Не мог же он совсем ее забыть! — такого в сумасшествии своем она не допускала.
...А Настеньке девятнадцатый год. И давно прошло время вечных ее простуд, лихорадок, диковатой ребячьей мрачности. Она росла в уюте, тепле, в любви и внимании своих родных и надоедливых, порой, заботах Шуры. Ходила на лекции с легким портфельчиком. Перекусывала в кафетерии на углу. Одевалась в то, что покупала мама на деньги, заработанные папой,— была, можно сказать, обычной дочкой в обычной интеллигентной семье. У нее имелось, в общем, все, что должна иметь девушка ее возраста, воспитанная достаточно скромно, с умеренными потреб-ностями, и у которой, как говорили взрослые, все еще впереди.
Впереди... Это, с одной стороны, обнадеживало, а с другой — рождало нетерпение и ревнивую требовательность: так что ты мне предложишь, судьба?.. Точно оставляя за собой право протянуть руку или отказаться: мол, я еще подожду, еще молода...
Да, Настенька не спешила, чувствуя подсознательно, что нынешнее ее состояние не повторится никогда больше. А незнание, неопытность и вправду неповторимы, как неповторимо и то ощущение своенравной свободы, которое в юности только и дано испытать. Потому что потом человек понимает... Потом уж никто не может, хотя, бывает, и пробует, от себя самого убежать. Потом человек так тесно привязывается к тому, что пережил, — помнит, что есть у него и что было, — и куда ему свободно распоряжаться собой! А может, оно и хорошо...
Ну, а в юности другое дело. Еще сам себя не знаешь, сам себе незнакомец, и никаких обязательств ни перед собой, ни перед другими вроде и нет. Ведь, говорите, впереди все?.. Значит, надо спешить туда, вперед: выяснять скорее — что там... Не понравится, так можно ведь и вернуться! Или он потом уже закрыт, обратный путь?..
Настенька теперь храбрилась. Шла, вскинув лицам людей навстречу зеленоватые, чуть оттянутые к вискам глаза. Иной раз только закусывала с досады губы, когда чересчур уж пристально ее разглядывали, но, дав себе слово, первой не опускала взгляд.
А папа и мама видели все ту же прежнюю свою дочку, милую молчаливую Настеньку, для которой все интересы в книжках — все мечты, все развлечения,— и мама уже начинала с беспокойством думать: «Ведь я в ее годы...»
Зато Шура, хозяйственная, хлопотливая, кристально честная и только с некоторыми, как говорили окружающие, сдвигами, оставаясь с Настенькой наедине, наливая ей борщ или накладывая котлеты, спрашивала вдруг строго: «Ты что?..» И, помолчав, после паузы: «Ты смотри, Настасья...»
А Настенька почему-то смущалась и перед Шурой опускала глаза, пыталась скрыть свое смущение улыбкой, доедала поскорее обед, но вслед ей слышалось опять: «Смотри, Настасья...»
7
— ...Ты, Настенька, ешь...
Шура сидела за столом напротив, подперев по привычке щеку кулаком, и глядела на Настеньку с таким проникновенным сочувствием, что невозможно было долго выдержать под таким взглядом.
И Настенька, сплюнув косточки от компота, поспешила встать, «спасибо» сказала Шуре. Но в дверях почему-то помедлила, оглянулась, посмотрела на Шуру, все так же в прежней позе сидевшую за столом.
— Ну ничего,— сказала зачем-то.— Все обойдется...
Шура, не отвечая, глядела на нее. И Настенька рассердилась вдруг за это скорбное понимание, открыто выраженное на широком Шурином лице. «Тоже, вещунья! Ведь ничего же она не знает! Никто не знает, не могут знать...» Настенька повернулась, хлопнула дверью.
А в своей комнате, по виду совсем еще детской, где на шкафу сидели куклы, а на диване большой плюшевый медведь и на обоях скакали белым контуром обведенные лошадки, она бросилась ничком на диван, лицом в подушки, и сдавленные хриплые ее рыдания никто не должен был услышать, никто.
Она плакала, но ей не становилось легче, потому что нельзя было в один раз выплакать весь этот свалившийся на нее груз взрослого, страшного, с чем не было у нее ни сил, ни опыта справиться.
И она не понимала — за что? Она не понимала, зачем и как можно было так лгать, так притворяться или — еще хуже — так сразу перемениться, и все забыть, и уйти, оставив ее одну в толпе, уйти спокойно, прямо, сунув руки в карманы брюк и еще — она не видела, но ей показалось — насвистывая.
Он взрослый. У него, наверно, такое не раз уже было, и, когда она бежала, летела к нему на свидания, он просто спокойно глядел на часы, чтобы к назначенному часу не опоздать. Она шла рядом, никого и ничего вокруг не замечая, полуослепшая и полуоглохшая, так громко пело, звенело у нее внутри,— а он рассеянно смотрел по сторонам: «Слушай, не зайти ли нам перекусить? Я что-то проголодался...»
Но тогда она не замечала несоответствия их состояний, считая, что так и должно быть, что это — мужская его сдержанность и взрослость, и, собственно, этим он и был ей особенно мил.
А может, понадеясь, что он и так все понимает, она не сумела достаточно ясно сказать ему о своей любви? Ведь она так счастлива была, что молчала и шла послушно, куда он решал ее вести, и, может, он так легко с ней расстался, потому что и представить не мог, чем стал для нее за это время? Ведь правда, она все время молчала...
Но, значит, ему самому совсем легко было уйти? Значит, она-то ничем для него не стала! Пустое знакомство, которое можно в любой момент оборвать...
Нет, он не так глуп. Он, конечно, многое успел заметить. И каким было там, в сквере, ее лицо, и голос, конечно, тоже ее выдал. И он только вид сделал, что ничего не замечает, когда взял ее руки в свои, — и вот это его дружелюбие, приветливость — вот это она никогда ему не простит, никогда не забудет!
Что он тогда говорил?.. Что-то о жене, что она снова решила к нему почему-то вернуться, а почему — он и сам вроде не понимал. И не понимал, не вдумывался даже, что сам-то хочет, мямлил, что, мол, так сложилась жизнь и что тут так сразу не объяснишь, когда вот она сама повзрослеет, то тоже... Что тоже? Не будет знать, что хочет и почему? Не сможет почувствовать в себе любовь и не сумеет за нее бороться? Или просто ей тоже станет на все наплевать, все ни к чему, и все заменит слепая, ленивая привычка, когда достаточно будет сказать: «Мой муж, моя жена» — и все замкнется, все уляжется, как в подернутом тиной болоте?..
Да, он взрослый. А взрослые люди жестоки, каменны в своем спокойствии и трудно решаются порвать с привычным. Но в то же время им легко ни разу не оглянувшись, уйти обычной своей походкой стройно, прямо, потому что у таких и вправду «все впереди», и то, что остается позади, за спиной, они уже не помнят.
— ...И правильно, — вдруг громко вслух выговорила Настенька. — Все правильно! Только я все равно под трамвай не брошусь. Все образуется, все будет как надо, муж, дети, дом... Только...
Она замолчала, оглянулась на дверь, в проеме которой стояла, и, верно, уже давно, Шура. Молча они смотрела друг на друга. Шура вошла, присела на край дивана.
— Но я сама под трамвай, Настенька, не бросалась, он меня толкнул, — произнесла она, как обычно, точно продолжая начатую фразу.— Сама бы никогда, и грех, и в мыслях не было. Я, наоборот, бежала от него, чтобы спастись, — мне жить хотелось! Ведь не бывает, чтоб человеку не хотелось жить, если кто и говорит так, значит, сам себе врет. Я вот какая калека, а рада, что живу, что не убилась тогда насмерть, и профессор, дай ему бог здоровья, из кусочков меня наново сшил. Жизнь, она знаешь...— Безгубый рот ее изобразил подобие улыбки.— А то, что плачешь теперь, плачь! — Выражение ее лица изменилось, она улыбалась снисходительно, но без сочувствия, жестко.— Плачь. От слез еще никому худо не было. Больше выплачешь, скорей забудешь. А что помнить-то? Подумай — что! Родного кого потеряла? Так нет же, не был он тебе родным. Так, почудилось... И еще много раз чудиться будет, пока не найдешь, не встретишь того, кто сразу и намертво. И не ты одна за него цепляться будешь, а он сам тебя обхватит и крепко станет держать — всегда, всю жизнь! И вот такого терять — да, больно. Сердца не хватит, все болью изойдет. Уж поверь. Хотя и не дано мне было это испытать, злодей попался, а знаю... Каждая женщина про это знает, про настоящую-то любовь. Только не у всех терпения хватает ждать, не все верят, что придет она. Да и не ко всем приходит. Тут уж не стану тебя уговаривать, кому как повезет... Но уж жизни радоваться — это всем дано. Даже мне, калеке. И тут ни сочувствия, ни прощения быть не может, когда жизнь свою, одну-единственную, человек не ценит, не бережет.
Она встала, озабоченно осмотрелась:
— Окна пора мыть... Компота хочешь, еще налью? Отец с матерью ко-о-гда-а придут! —успеешь нареветься. А лучше сразу решить и забыть. Когда ноги-руки в целости, когда молодость и здоровье, — легко снова веселой стать. Но если хочешь, поплачь.— Она почти равнодушно посмотрела на Настеньку.— Эх, сколько бед на свете бывает, столько бед, а ты вот...— отвела глаза. — А вообще-то плачь, если надо...
Вышла,
прикрыв за собой дверь. А Настенька
осталась лежать на диване, в комнате,
по виду совсем еще детской, где на шкафу
сидели куклы, а надиване в углу плюшевый
большой медведь, на обоях скакали лошадки
с притупленными мордами в уздечках,—
сидела, глядела в угол. И лицо у нее было
задумчивое, а может быть, даже чуть-чуть
смущенное.
— ...Да, знаешь,— услышала она снова голос Шуры, и тут Шура сама появилась в дверях.— Забыла тебе рассказать. Шла, значит, утром из магазина, вдруг слышу, кто-то меня зовет. Слабо совсем, потом громче. Оглядываюсь, и что же ты думаешь? Он! Господи... Я аж за стену схватилась. Стоит, грустно так глядит на меня. И я стою: сил нет идти. И подумай, такой же, как был, ничуточки не изменился. Ах, думаю, злодей. А у самой — ну поверишь!— жар какой-то внутри разлился, а сердце вроде перестало стучать совсем. А потом вдруг застлало глаза и ничего не вижу! Опомнилась — одна стою, держусь за стену, и люди на меня уже смотрят... Да что ты, Настенька! Что ты, что ты... Не надо, милая, не плачь... А я, старая дура! Глупости это, пройдет, уж поверь... Все забудется...
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





