ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
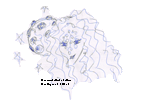
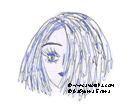

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Триус Ирина 1989
У МОРЯ
Я впервые у моря. И переживаю здесь свое первое большое чувство. Были мы с Валерием совсем разные — у него позади опыт трудовой жизни, военных дорог, я только начинала жить. Я была веселой, много смеялась, откровенно наслаждаясь счастьем. Он внешне сдержан, немножко медлителен, спокоен. Мое чувство к нему было всепоглощающим — я жила только теми минутами, когда он был рядом. Валерий заполнил собой всю мою жизнь, такой счастливой я не была никогда... Что-то удерживало нас обоих от последнего шага. Меня, наверное, моя нетронутая молодость. Его, по-видимому, уважение к этой молодости и, как он сказал мне позднее, через много лет, ответственность за мое будущее. (Разве мог он знать, какое будущее ждет меня?) Он был связан семьей, которую не посмел разрушить, хотя что-то раскололось в нем самом задолго до встречи со мной. Он сказал мне:
— Всю жизнь я мечтал встретить тебя. Но за ошибки родителей не должны расплачиваться дети.
Нет, семью он оставить не мог. Нам предстояло расстаться навсегда. Это было чужое счастье... И не дано было знать, что он придет ко мне и скрасит самые трудные годы моей жизни, ну а я буду последней его любовью, последней радостью.
Моя студенческая практика приближалась к концу. Его отпуск, который он проводил здесь, тоже кончался. Уезжали мы вместе — нам хотелось быть вместе до тех пор, пока это было возможно...
Моя встреча с Валерием в дни студенческой практики оказалась не последней. Мы расстались не навсегда. Через годы разлуки Валерий спросил в письме, как сложилась мня судьба и счастлива ли я. Тогда я была счастлива и ответила ему: да. А потом было еще несколько писем, когда мне было уже плохо, но писать об этом не хотелось. Он так и не узнал ничего о моей болезни. Снова прошли годы, и он повторил свой вопрос. На этот раз и ответила: нет. И он пришел, когда его жизнь была уже почти прожита, хотя ему не было еще и пятидесяти лет, ну а моя так и не удалась. И некого было винить в этом. Через всю свою оставшуюся жизнь, через все свои, а потом и мои испытания пронес он любовь ко мне — пронес и сохранил до самой смерти. Но чудо было даже не в этом. Чудо заключалось в том, что он знал и полюбил меня здоровой и молодой, а встретил вновь и продолжал любить такой, какая я теперь. Он пришел и не увидел ни неподвижности, ни всего того, что сделала со мной болезнь.
...Он сидит возле моей постели и, на минуту прикрыв глаза, говорит мне:
— Ты передо мной такая, какой я встретил тебя на берегу моря, в пестром платье, такая юная и красивая!..
И мне на одну минуту делается страшно оттого, что вот сейчас он откроет глаза, увидит и поймет наконец, что той, прежней, Иры давно уже нет. Но он открывает глаза, и по тому, какой нежностью и любовью они светятся, я верю — он никогда не прозреет....
В тот вечер он надел на мой палец обручальное кольцо, хотя не было в нашей жизни ни свадебных тостов, ни белого платья.
Были только цветы. На моем столике у окна пламенели алые тюльпаны, и это казалось невероятным среди зимы, на фоне заснеженной крыши соседнего дома. От того, быть может, все в тот вечер походило на сказку. Он умел становиться волшебником. Иногда нам обоим хотелось сказать друг другу «прости» — мы угадывали это по глазам. Ему — за то, что не был в самом трудном со мной рядом. Мне — за то, что молодость свою и все первое в жизни я отдала другому, который так ничего и не сумел сберечь. Но не было ни в чем вины нашей, и, наверное, поэтому в такие минуты мы оба просто молчали.
Во мне все было хорошо для него: и что действительно хорошо, и что он сам выдумал. Он сказал мне как-то, что со мной легко и спокойно и что я вхожу в его жизнь каждый раз как праздник. Вот в чем заключалось чудо! Ведь у меня не было в жизни ни одной легкой и спокойной минуты, а праздники всегда казались мне самыми тяжелыми буднями. И любил он меня не за мужество. Я была для него просто женщиной и, как всякая обыкновенная женщина для кого-то одного, — лучшей на свете. А он был для меня неиссякаемым источником радости и жизни. И сам очень любил жизнь. Не то чтобы он был особенно веселым — был он скорее тихим и молчаливым. С самого детства что-нибудь мастерил, изобретал. Вырос и стал конструктором. Увлекся садоводством — даже любовь к природе была в нем действенной. Он растил свой сад с такой же страстью к созиданию, с какой создавал машины. На лето я уезжала, и мы виделись редко. Зато осенние цветы были мои...
Мы были вместе три года, до самой его смерти, и оба недолюбили. Ведь все у нас было только началом. Он мечтал свезти меня к морю, туда, где много лет назад впервые встретил меня. Да и мало ли о чем еще мы мечтали... Разве могла я думать, что он так скоро уйдет из моей жизни, и теперь уже навсегда...
Умер он скоропостижно, не болел и ни на что не жаловался. Да он и не умел жаловаться. Очень страшно умирать весной, когда все вокруг пробуждается к жизни. В ту весну осиротел его сад. И — ослепительно сияло солнце, не согревая души... Чудо ушло из моей жизни и оставило после себя большую печаль. Но он оставил не только печаль: он завещал мне жить. Человек не может жить прошлым, но прошлое всегда живет в нем. Счастлив тот, чье прошлое делает его богатым и сильным.
...Еще через годы мне все же удалось побывать у моря, там, где мы впервые встретились.
Я лежала, опьяненная медовым запахом цветущих акаций, завороженная шумом морского прибоя, и смотрела в синюю-пресинюю даль, туда, где море сливается с небом. Когда-то мы с ним, смеясь, гнались в лодке за этой далью, а она все ускользала от нас, как синяя птица... Все здесь, как и прежде, дышало жизнью, словно утверждая бессмертие человеческой любви. Нет, это не была встреча со смертью. Я приехала к нему, как к живому, зарядиться силами еще на годы вперед! Оживал его образ, и мне чудилось, что он разговаривает со мной языком моря и выплескивает к моим ногам вместе с волнами всю нерастраченную нежность...
Вот так я и живу. Без него. И больше не мучаю себя вопросами, как жить дальше. Жизнь сделала меня мудрой. Только иногда становится трудно видеть солнце — от его света болят не глаза, болит душа...
Более
тридцати лет я лежу в постели. И теперь
уже нет надежды на исцеление. Но я
перестала считать, чего в моей жизни
нет. Считаю только то, что в ней есть. И,
оказывается, есть у меня не так уж мало.
ДЕТИ
Если бы люди отреклись от традиций, в нашей жизни стало бы меньше праздников.
Из года в год повторяется в моей жизни вот такой праздник: после выпускного бала приходят мои молодые друзья — вчерашние школьники. Красивые и нарядные, они приносят цветы. И всякий раз возвращают в юность, которую отняла у меня война. А на какое-то мгновение даже одаривают чувством материнства, которое отняла болезнь: ведь каждый из них мог бы уже быть моим сыном или дочерью. Понимают ли они цену своего бесценного дара?
Все добрые слова напутствия им уже сказали учителя и родители. Их прошлое кончилось вчера, будущее начнется завтра. А сегодня, сейчас, они просто утомлены и немного ошалели от этого состояния невесомости — между прошлым и будущим.
...Сколько раз рождается человек? Что родилось в каждом из них сегодня? Что нового в себе и в жизни открылось им за последние сутки? Какие минуты из этих суток будет бережнее всего хранить память? Те, что, прощаясь с детством, они провели в школьном зале? Или у стен Кремля? Или на Ленинских горах?
Ни
о чем этом я не спрошу, конечно. Но верю,
что и минуты, проведенные со мной, у моей
постели, столь незначительные в сравнении
с сегодняшним событием, открыли им не
так уж мало: делить свое счастье с другими
— это значит его множить!
В РОДНОМ ДЕПО
Бывают дни, которых ждешь всю жизнь. А я двадцать лет ждала вот этих минут. Сначала верила, что одолею болезнь и вернусь в депо работать. Потом надеялась окрепнуть хотя бы ненадолго, ровно настолько, чтобы суметь потихонечку пройти по депо. Только пройти по цехам, в которых прошли два счастливых года моей жизни. Ну а потом, когда болезнь отняла и эту надежду, осталось лишь мечтать о том, чтобы когда-нибудь побывать в родном депо, подышать его воздухом хотя бы и не выходя из машины. Но я все откладывала и откладывала эту поездку. Боялась, что после такой встречи с собственной молодостью станет еще труднее.
И вот я в депо. Прекрасный и яростный мир высоких коростей, тревожных гудков, непрестанного движения...
Сколько утрат может выпасть на долю одного человека? По себе знаю — много. А сколько раз в жизни может совершиться чудо? И это по себе знаю — тоже много! Наверное, поэтому вопреки всему считаю себя счастливым человеком.
Чего же все-таки отчаянно боялась я, откладывая свою мечту? Очутиться такой беспомощной среди людей, которые знают и помнят меня по совместной работе. Помнят молодой, здоровой. Но еще больше боялась любопытствующих взглядов чужих людей, особенно молодых: что они поймут в моей беде и в моей радости?
Как счастливо я ошиблась: чужих не было, все — свои!
Мы проезжали по всем цехам, где хоть как-то могла проехать машина. И оттого, наверное, что в каждом цехе знакомые и незнакомые здоровались со мной — кто кивком головы, кто взмахом руки, кто просто ободряющей улыбкой, — мне показалось: все депо остановило из-за меня работу!
Удивительно: я узнавала лица и не узнавала своего депо. До чего же разрослись цехи, сколько понастроено нового, и везде оборудование, которого не было прежде. Машина шелестела по гладким ровным мозаичным плитам, а я вспоминала, как «протаскивала» в стенгазете мастера строительного цеха, бывшего фронтовика, за щели в полу, за течь в потолке, за окна без форточек. Тогда шли первые послевоенные годы, и мы, молодые, были слишком нетерпеливы и поэтому не всегда справедливы к этому израненному, усталому человеку.
Въезжаю в ворота цеха текущего ремонта, а они с тепловой завесой. А мы-то работали на таких сквозняках... И какие же они теперь «не те», смотровые канавы! Когда-то работать приходилось в непромокаемой обуви, подчас вслепую. Сейчас их и канавами-то не назовешь: сухо, светло, уютно.
Все время возле меня был Павел Иванович Богданов, секретарь партийной организации, машинист-инструктор, с которым я когда-то наезжала километры для получения прав управления. Остановились у доски с именами погибших в войну. Потом у Доски почета. И, конечно, у стенгазеты и возле списка лучших рационализаторов. Наверное, Богданов хотел показать, что дело, за которое я когда-то отвечала, в хороших руках.
Приехал в тот же день в депо бывший главный инженер Александр Петрович Городецков. Тот самый, которого все мы, молодые специалисты, побаивались: он был большой любитель задавать каверзные вопросы. Позже я поняла: он учил нас думать. И очень заботился о нас. Это был первый человек, к которому я пришла со своей бедой.
Повидаться со мной приехал и Иван Степанович Щекин, бывший рабочий моторного цеха. В памяти моей он остался одним из самых светлых людей не только в депо — в жизни. Он такой же красивый, как и прежде, только совсем седой.
Друзья-инженеры, с кем я вместе работала, встретили по дороге в депо. Чтобы не заблудилась? Нет, чтобы легче мне было въехать в деповские ворота и преодолеть этот «психологический барьер».
Товарищи угадали мое заветное желание. Машину подогнали к электропоезду. На руках подняли меня в кабину управления, и я... встала за пульт. Встала! Рядом Богданов. Он проверил тормозную магистраль и скомандовал:
— Поднять пантограф!
Пробегаю взглядом по приборной доске. Левая рука автоматически ложится на рукоятку контроллера, правая — на тормозной кран, нога — на педаль звукового сигнала. Автоматически! Вот как, значит, за те два далеких года работы в депо вжилось все это в сознании — навсегда. Даю сигнал отправления, нажимаю на рукоятку контроллера, перевожу ее на ходовую позицию... Поехали!
А что каждое, даже самое ничтожное для здорового человека усилие отзывается острой болью в позвоночнике, что с самого начала уже нет сил стоять — какое все это имеет значение в сравнении с тем всепоглощающим счастьем: едем! Кто знает предел человеческой выносливости? Человек устанавливает его себе сам. И если при всех самых трудных обстоятельствах выпадает возможность полнее «глотнуть» жизнь, стоит ли думать о расплате?
Пятьдесят символических метров остались позади. Богданов командует:
— А ну, останови у предельного столбика!
На мгновение растерялась: надо же рассчитать тормозной путь... И снова спокойный и строгий голос Богданова, уже приготовившегося тормозить за меня:
— Смотри, промажешь предельный столбик, взрежешь стрелку. Тормози!
Останавливаю поезд и возвращаюсь обратно. Самый короткий и счастливый мой в жизни рейс... Осторожно, все так же на руках, вынесли меня из кабины. И тут только я заметила, сколько же вокруг людей. Со всех сторон тянулись ко мне руки с цветами. Под стук колес шли минуты редкого человеческого единения, когда чувствуется и понимается одинаково, без слов.
...Позднее,
уже дома, меня спросили, зачем вопреки
боли и неловкости перед людьми полезла
я в поезд и повела его. Есть вещи, которые
нельзя объяснить, их нужно непременно
пережить самому. Вот так и я не смогла
объяснить радостное чувство владения
машиной, движения, скорости. И если все
беспощадно и безвозвратно отнятое
болезнью удалось вернуть хотя бы на
мгновение — это уже счастье...
ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
Как-то старшеклассники соседней школы пригласили меня на шесть дней зимних каникул в свой туристский лагерь. Они построили его сами. Лагерь расположен на Оке, в хвойном лесу. Увидеть хотя бы еще разок зимний лес было моей давней мечтой. Приглашение ребят было неожиданным и радостным для меня.
И вот я в дороге. Лежу, прикрыв глаза. Дорога кажется дальней. Наслаждаюсь легким покачиванием машины, наслаждаюсь ездой...
Но — стоп! Приехали. Учащенно забилось сердце — сейчас увижу зиму, по которой так истосковалась за годы болезни. Машину сразу окружили ребята, помогли выбраться, хотели перенести в дом. Но нет, все должно быть так, как мечталось: я должна пройти эти несколько шагов сама. И вот я уже стою на земле. Опираюсь на палку и на чью-то руку, но все-таки сама стою на земле!
Морозный воздух обжег лицо, на миг перехватило дыхание, ослепила белизна — такой белизны я не видела даже в больничной палате. И вслед за всем этим непривычное ощущение простора: ух какая ширь! Нестерпимо захотелось нагнуться, приложиться губами к снегу. Ребята словно угадали мое желание — ко мне протянулось сразу несколько рук с горстями снега. Я или не знала до сих пор, или успела забыть, что снег так удивительно пахнет... И всю меня заполнило чувство счастья, беспредельного, как простор вокруг, — оттого что есть на свете такая вот снежная родная земля, и лес, и славные эти ребята, которые так щедро делятся со мной всем, чем богаты. С этой минуты счастье уже не покидало меня все дни, проведенные здесь. Так началась наша лагерная жизнь.
Мы разместились в низком бревенчатом доме, разделенном на три комнаты. В нашей комнате было тепло, койки почти все составлены вместе, девочки спали рядом, вповалку. Мне как гостье дали отдельную кровать, положили под самое теплое одеяло.
За ночь я отдохнула, а утром мальчики вынесли мою койку прямо в лес. Мне повезло: погода стояла теплая, безветренная. Мелкий снежок все сыпал да сыпал на землю, на мою кровать, на лицо. Иногда я ловила снежинки ртом, как когда-то в детстве. Лежала, закутанная в одеяла, зачарованная красотой зимы, отрешенная от всего тяжелого, успокоенная тишиной спящего леса...
И только к обеду внесли мою койку в дом. Незаметно за окном стемнело, наступил вечер. А жизнь в лагере не стихала. Из Москвы ребята привезли магнитофон. Но танцуют они мало, больше поют, зачастую под гитару. Ребята втягивают в хор и меня, разучивают со мной новые песни. Пою я хоть и плохо, но громко, не стесняясь, как не пела уже давно. И так же, не стесняясь, до неприличия громко смеюсь: забыла не только свою болезнь, но и свой возраст! Смех и песни — это запомнится так же навсегда, как и зимний лес...
На следующий день после завтрака ребята снова вынесли мою койку в лес, а сами ушли на лыжах. Снег сегодня падает крупный. И все метет, метет. Скоро моя кровать будет, наверное, похожа на снежный сугроб. Придется сушить одеяла у печи вместе с лыжными куртками ребят. Я по-прежнему наслаждаюсь покоем. Время от времени ко мне подходит кто-нибудь из дежурных, поправляет одеяло, осторожно снимает с лица снег, спрашивает, не надо ли чего.
Вечерами мы подолгу разговариваем с ребятами. В семнадцать лет кажется, что можно и должно совершенно категорически ответить на любой жизненный вопрос. В сорок понимаешь, что далеко не на все вопросы можно ответить «да» или «нет» и кроме белого и черного есть еще множество других цветов и оттенков. Нет, это не были вечера вопросов и ответов. Мы беседовали и даже строили планы, говорили о книгах, стихах, о выборе профессии, о дружбе.
За разговорами, песнями, играми незаметно наступала ночь, и я засыпала крепким здоровым сном, каким не спала уже много лет.
В самый последний день меня не вынесли в лес: стоял такой мороз, что даже пылающие жаром печи не могли обогреть помещение. Накануне отъезда особенно много пели. И снова разговаривали. Шесть дней пролетели как один. Так бывает только тогда, когда живешь очень интересно...
И вот меня опять покачивает в машине. Неотрывно смотрю в запорошенное снегом окно: хочется продлить чудесную зимнюю сказку, подаренную мне ребятами. За окном слегка вьюжит, жаль, что я защищена стеклом от непогоды и свежий ветер не ударяет в лицо.
А
дорога все тянется и тянется. Я увозила
с собой в памяти красоту зимнего леса,
тепло юных сердец. Уезжала какая-то
обновленная, словно помолодевшая. И
думала о неиссякаемых возможностях
человеческой души. Ведь если тридцать
пять ребят смогли сделать меня, прикованную
тяжелой болезнью к постели, на шесть
дней совершенно счастливой, — нет, не
на шесть, а на много дней вперед, —
значит, человек может все!
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА
Сидит на кровати, свесив на пол ноги, моя соседка по палате. Взгляд устремлен в себя. На лице скорбь. Ей девяносто пять лет. О чем она думает? Вспоминает? Готовит себя к уходу в мир иной? Что заботит ее? Чем мучается? Ведь операция прошла прекрасно, и она ходит даже по коридору. Нет, не физические страдания — наверное, так может болеть только душа.
— О чем думаете, Анастасия Ивановна?
— Что? Ах, о чем думаю? Вспоминаю. — Ее лицо озаряется улыбкой. — Плохо вижу, читать не могу. А дел нет. Вот и вспоминаю детство. Мой дед был ссыльным, и выросла я на Крайнем Севере в селе Н-ского уезда. Нас росло десятеро. Было весело. Зимой на санках катались, летом в речке купались. А уж в праздники какие пироги мама пекла! Нас, детей, любили, хоть и не шибко баловали, да и баловать особо было нечем.
Ходила в приходскую школу в соседнее село. А дед нередко посылал меня передавать записки своим товарищам за решеткой. Я была маленькой, и мне это легко удавалось. Да, о революции я знала задолго до нее.
— А что с семьей стало после революции?
— Сначала переехали в Калугу. Там хорошо жили. Отец продолжал водить поезда. А потом его перевели в Москву. Еще лучше стали жить. Дед к тому времени умер. А потом умерли и отец, и мать, и три сестренки. Трех братьев на фронте убили. Две сестры потом умерли. И осталось нас двое — я и младшая сестра: тоже девятый десяток разменяла.
— Неужели? Она на столько не выглядит. И вас каждый день навещает. Правда, видно, что ей это трудно.
Врач прерывает беседу: обход.
— Как себя чувствуете, Анастасия Ивановна?
— Спасибо, хорошо.
— В среду выпишем.
За дверью ждет окончания обхода сестра Анастасии Ивановны. На улице и в палате знойно. И сестра, раскрасневшаяся, распаренная, старается успокоить свое непослушное дыхание, унять биение сердца, чтобы войти после обхода с улыбкой — как ни в чем не бывало.
Она раскладывает скромную передачу. И они долго потихоньку разговаривают, делятся новостями. Собственно, какие там новости? Дочь Анастасии Ивановны тридцать три года лежит в психиатрической больнице. Успела с отличием окончить институт, аспирантуру, защитить диссертацию и — навсегда потеряла рассудок. Когда муж Анастасии Ивановны был жив, брали ее иногда домой. Но муж вскоре умер. И навек одиночество, неизбывное горе. Сестра, хоть и живет отдельно, помогает, единственное ее счастье.
Вечером Анастасия Ивановна уже подсаживается ко мне на стул. Ею заинтересовались? Ну что же, она готова рассказывать о своей длинной жизни.
— Муж у меня был хороший. Прожили вместе пятьдесят пять лет. Видно, сердце не выдержало несчастья с единственной дочерью.
Она долго молчит. Думает. Вспоминает.
— Я зажилась до девяноста пяти ради доченьки. Навешаю ее, она меня узнает. Целует, гладит, обнимает. Это мои праздники. Когда-то праздников было много, теперь остались только эти.
— А домой просится?
— Нет, никогда. И что отец умер, тоже не знает.
Наступают поздние сумерки, но свет зажигать не хочется. Все ходячие разбрелись кто куда. Верно, у телевизора в холле. И мы вдвоем. Боюсь вспугнуть ее мысли и потому молчу. Впрочем, память у нее отличная. Волосы седые, гладко зачесанные назад. Морщин не так уж много. Но главное в ней — глаза, темные и печальные. И этот устремленный в себя взгляд...
Я лежачая и прошу ее зажечь, наконец, свет. Она поднимается со стула, берет палку и, сгорбленная, идет, потом возвращается.
Привезли ее сюда тяжелобольную. Я видела, как неистово сражались за нее врачи, и думала: «Что заставляет их бороться за продление жизни даже таких стариков? Долг? Призвание? Присяга? Это можно назвать как угодно. Но оно есть и да будет!»
А потом пришла победа. Старушка поднялась. Схватила свою палку и пошла. Вот так, сразу, как встала, пошла. Вся палата, врачи, сестры, няни радовались.
Я, наверное, утомила ее. Говорю:
— Вы устали, ложитесь.
Они снова поднимается, идет к своей кровати. Я смотрю на ее сгорбленную спин у и думаю: «Ведь только она выдает возраст».
Больные возвращаются в палату. Укладываемся. Тушим свет. За окном звезды. Наверное, каждая из нас, наугад выбрав одну, считает ее своей надеждой.
На что надеяться старушке? Каждый день жизни для нее подарок. Нет, это подарок доченьке. Что будет с ней, когда мать перестанет навещать ее? Тетю она не узнает и не радуется, когда та приходит.
Старушке не спится.
Вот она после петербургских Бестужевских курсов в первый раз вошла в класс сельской школы. Ребятишки с нескрываемым любопытством разглядывали ее, молодую, в белой блузке и черной юбке. В темноте палаты она улыбается своим воспоминаниям: «Я научу вас, дети, любить книги и познавать жизнь». А сама? Книги любила всегда. Жизнь не познала — так и не смогла понять, почему в ней есть незаслуженные страдания. В бога не верила никогда, но объяснить смысл страдании — а они теперь стали смыслом ее жизни — не умела.
Вот она ждет мужа из очередного рейса. Знает, что он должен тайно перевезти революционера-подпольщика. Окно комнаты освещено коптилкой — пусть издали видит, как она его ждет. Но он не идет. Его арестовали. Суда не дождались — пришла революция. И они опять вместе.
А как он волновался, когда она рожала свою доченьку! Принес цветы и написал такую смешную записку: «Счастлив, родная, поздравляю. Только наша династия машинистов все равно не кончится».
Она так зажилась, что пережила своих учеников.
С этой мыслью под утро она засыпает...
Назавтра ей очень хочется, чтобы я попросила ее продолжить воспоминания. И я, не заставляя долго ждать, зову ее к себе.
— Знаете, а ведь наша династия железнодорожников действительно не кончилась, хотя родила я только дочь. Она окончила транспортный институт и, проработав потом два года в депо, получила права управления. Она и после защиты осталась на транспорте. Ну а уж теперь, тем более со смертью мужа, кончилось все...
И снова молчание. И снова в себя. Я терпеливо жду продолжения и стараюсь угадать, куда память перебросит ее опять.
— Мой муж попадал в крушения. Одно из них я помню особенно хорошо. Он вел состав на полной скорости. Состав пассажирский. И вдруг из-за поворота навстречу — грузовой. По тому же пути. Как все четверо — машинисты и их помощники — самоотверженно спасали людей! Оба машиниста — экстренное торможение, песок на рельсы, мигание прожекторами. Помощникам велели прыгать. Сами остались до конца. Жертв не было. Машинисты получили ранения.
...А дочка, когда в первый раз вела поезд, цыпленка задавила. А может, показалось.
...В последние годы работы я тоже стала железнодорожницей: преподавала литературу в железнодорожной школе.
...С детьми надо разговаривать, как со взрослыми. Тогда они не почувствуют никакой фальши. И откроются тебе, как открывается книга.
Но то все было давно... С болезнью дочери я разучилась смеяться. И — ушла из школы, не могла быть со здоровыми детьми. Это, наверное, плохо...
В день выписки за Анастасией Ивановной приехала сестра. И как-то особенно плохо выглядела. Подошла ко мне и шепнула:
— Дочь сегодня ночью умерла. Не знаю, как подготовить сестру.
Я подумала о том, что, быть может, это к лучшему — обе они перестанут страдать. Но не уйдет ли стимул долголетия матери? Ведь она считала, что живет ради дочери!
А она, моя милая соседка-старушка, одеваясь, все приговаривала:
— Увижу ее, завтра же увижу.
Мы
трогательно и долго прощались. Потом
сестра взяла вещи и пошла впереди. Сзади
с палкой, сгорбившись, шла Анастасия
Ивановна.
НЯНЯ
Я лежала на больничной койке и плакала: рана не заживала. Незаметно подсела ко мне наша уже пожилая няня Мария Сергеевна. Она не просто ухаживала за нами, с ней можно было посоветоваться о жизненных проблемах, отвести душу. Очень полная, она делала все быстро и ловко. Мы, больные, любили ее.
— Ну чего ты плачешь? Лучше посмотри, какая красотища вокруг! Не на больничные стены, а в окно. Все зазеленело, а небо-то какое! Вон какая ветка смотрит на тебя в окно! А ты не видишь. Природу нужно уметь разглядеть, понять, тогда и она утешит тебя.
Няня
поднялась, отошла, а я взглянула в
открытое настежь окно, откуда смотрела
нянина ветка. Что значит моя незаживающая
рана перед этой непосильной красотой,
которую открыла мне няня?! Стало легко.
Нужно было только смотреть в окно, в
больничный парк, где был совсем другой
мир, без слез и страданий, где цвели
черемуха, сирень, жизнь.
НЮРКА
Рядом со мной умирала совсем еще молодая женщина — Анна. В палате все звали ее Нюркой, потому что так называл ее муж. Ему она оставляла годовалого ребенка. До последней минуты Нюрка не знала, что умирает. Дом ее был в Можайске, там она вместе с мужем работала на заводе: он слесарем, она — токарем. Она была очень хороша собой, болезнь почти не изменила ее внешность. Только кожа лица стала очень бледной и глаза горели, как звезды. Когда меня положили в палату, Нюрка еще ходила, чувствовала себя бодро и даже ухаживала за мной. Она была очень отзывчивой и к тому же сильно привязалась ко мне — сама не знаю почему.
Теперь она угасала на наших глазах, и мы понимали, что врачи бессильны продлить ей жизнь. Муж приезжал к ней часто, хотя чувствовалось, как трудно ему метаться между нею, лежавшей в Москве, работой в Можайске и ребенком, которого взяли в ясли. Он привозил ей бутыли морковного сока и черную икру. Кто знает, чего это ему стоило... Приезжал он всегда в одно и то же время, и мы, вся палата, с нетерпением ждали его. Он входил, и мы потихоньку облегченно вздыхали, а потом отворачивались — не хотели мешать их свиданиям. Какие это были свидания! Это были поединки жизни и смерти. Казалось, две жизни — здоровая и почти угасшая — сливались воедино. И пока они были вместе, эта, вторая, продолжала теплиться.
Я давно уже знаю, что человек, которому веришь как себе самой, может оставить женщину в беде. Но даже если бы я пережила это не один, а сто раз, все равно не перестала бы верить в любовь и никогда не забуду любви этого простого рабочего парня из Можайска к своей Нюрке.
Но даже такой любви было мало, чтобы совершиться чудом. Когда врачам стало ясно, что близок конец, они оставили мужа в больнице. Он привез из деревни маленькую сухонькую старушку. Нюрка была ее единственной отрадой...
Когда Нюрке стало совсем плохо, ее увезли из палаты в кабинет врача, чтобы не тревожить остальных больных. Нюрку провозили мимо моей кровати, и я в последний раз увидела ее и тогда еще ясные, как звезды, глаза. Она спросила:
— Ира, почему меня увозят, может быть, я умираю?
Я ответила ей очень спокойно:
— Что ты болтаешь, Нюрка! Тебе сейчас сделают переливание крови, станет легче, а чтобы мы не мешали заснуть, тебя увозят от нас.
Ночью она умерла.
А
утром я увидела Нюркину мать. Она сидела
с каменным лицом, неподвижно уставившись
выцветшими сухими глазами в одну точку.
И мне стало стыдно, что я жива, что пройдут
еще сутки, и моя мать обнимет меня и
отвезет домой, а не на кладбище...
МИМОЗЫ
Сколько же было за последние два десятилетия минут отчаяния, казавшегося мне не совместимым с жизнью? Сколько раз оказывалась на краю пропасти и даже не всегда было желание удержаться? Не помню, не считала. Лишь одну из таких минут запомнила отчетливо — наверное, потому, что она была последней. С тех пор поняла раз и навсегда: как бы плохо ни было тебе сегодня, завтра может стать лучше. Есть выход из любого положения, нет выхода только из «ниоткуда».
Мою комнату залил весенний солнечный свет. Только сейчас он меня уже не раздражал, и я не просила задернуть шторы — мне явно стало лучше. А днем принесли букет мимоз. Оставшись в палате одна, я поставила банку с цветами прямо на свою кровать, зарылась в них лицом и вдохнула сладковатый, полюбившийся издавна запах. Исходил он то ли от мимоз, то ли из моей далекой юности...
Перед самой войной среди приглашенных на день моего рождения пришли три мальчика, и все трое вручили мне общий букет мимоз — первые цветы в моей сознательной жизни. Было радостно и чуть грустно: который же все-таки из трех? Или вовсе никто? Тогда я знать этого не могла, понять не умела, Спросить не смела. Ну а теперь все трое погибли и не у кого спросить. Да уже и не надо: время сравняло их всех в памяти и в сердце.
А
я вот осталась жить. И тогда, в войну. И
много раз после. И когда боролась вместе
с врачами. И когда, уставая, сдавалась.
А надо бы, наверное, почаще вспоминать
тех трех мальчиков, которые очень хотели
жить, да так и остались лежать в земле
на дорогах войны. Тогда не будет минут
отчаяния и всегда будешь ценить жизнь...
НЕБО И ЗЕМЛЯ
Меня лечит молодой доктор Геннадий Федорович Балашов. Увидев его впервые, подумала: спортсмен. Оказалось, в недавнем прошлом — военный летчик. В авиацию влюблен с детства. Отец был летчиком-испытателем, и его гибель в авиационной катастрофе лишь укрепила мечту мальчика. Не помогли ни уговоры, ни слезы матери-врача: она боялась, что небо отнимет у нее еще и сына.
Он успел налетать немного. А дальше тоже несчастный случай. Тяжелая травма — летать запрещено! Любя авиацию, он мог бы работать техником на своем же аэродроме. Но провожать ежедневно самолеты в небо, самому оставаясь на земле, было для него пыткой. Он вернулся в Москву, к матери, и поступил в медицинский институт — теперь уже пошел по ее стопам.
Доктор много рассказывает мне об авиации. Тоскует по небу. Каждый год проводит отпуск в той части, где остались служить его друзья-летчики. Иногда удается с кем-либо из них полетать. А потом снова на работу, к больным — до следующего года, до следующего отпуска. Нет, нет, он любит свою вторую профессию и даже считает, что в них обеих, столь различных, есть много общего.
Во время таких бесед мы посматриваем в окно: он — на небо, я — на землю. Я, конечно, сочувствую ему и очень уважаю его за то, что он не сдался, сумел найти себя снова. Но... понять до конца не могу: моя мечта — хоть бы еще разок в жизни пройтись по земле. Все двадцать лет болезни манит меня земля...
Доктор уходит. Я остаюсь одна со своими мыслями — другие больные в палате ходячие. Закрываю глаза и пытаюсь представить себе: вот я вновь обрела землю! (Так, наверное, взлетает в небо в ночных снах наш доктор.) Как захлестнуло бы меня тогда счастье! И как, наверное, захотелось бы разделить это счастье со всеми, кто столько лет делит со мной мое горе! Разделить счастье с мамой... Впрочем, разве матери делят с детьми их горе? Они его несут—в себе и очень часто за нас.
В голове моей боль и шум. И я уже научилась волей своего воображения придавать этому шуму любое значение. Вот сейчас я слышу свои шаги. Слышу, как под ногами, если лето, шелестит трава. А если осень —шуршат палые листья. А если за окном зима —тогда скрипит снег. Впрочем, зимой можно еще и кататься на коньках...
Если бы мне все-таки удалось когда-нибудь подняться, куда бы отправилась я в свой самый первый «рейс»? Ну конечно же на Патриаршие пруды! Ведь там прошло мое детство, когда вся жизнь еще только задумывалась. Наверное, теперь пруд показался бы мне морем, ветер — бурей, и все было бы удивительным...
Я открываю глаза. В окне палаты яркий мартовский день. Свет весны за окном кажется мне год от года ярче оттого, наверное, что все больше позади несостоявшихся весен. Не увиденных. Не прожитых. Чужих.
А
мама сказала бы: чужих весен не бывает!
МИШКА
Говорят, в поэте непременно должно сохраниться самое удивительное из всего, что присуще детству, — способность изумляться. Может быть, и так, не знаю. Но только что-то от детства остается на всю жизнь в каждом человеке...
Однажды, когда я стала уже взрослой, в одну из горестных минут моей жизни знакомая девчушка, не умея утешить иначе, подарила мне свою любимую игрушку. Мишка был заводной, умел танцевать и даже дразнился — высовывал язык. Девочка подарила мне этого мишку на счастье. И когда он в очередной раз открывал пасть и показывал язык, мне казалось: он учит меня смеяться над судьбой, которая не слишком мягко обошлась со мной.
Кто знает, может быть, счастье, принесенное мне тем заводным мишкой, заключалось в том, что я — наперекор всему! — выжила?.. А потом, спустя годы, в одну из трудных минут жизни другого человека, отдала я ему этого мишку — тоже на счастье. Так устроена жизнь. Изначальная и вечная истина: чувство благодарности лишь в редких случаях оборачивается ответным добром именно для того, кому ты благодарен. Обычно же оно передается совсем другим людям — по связям, чаще случайным. Цепная реакция добра...
Мне так и не удалось узнать, принес ли мой мишка счастье тому человеку. Помню лишь, что сама долго тосковала по глазкам-бусинкам, которые светились как две маленькие звездочки надежды в темноте бессонных ночей.
И
вот я снова получила в подарок мишку.
Только этот не имеет заводного механизма,
не танцует и не показывает язык. Может
быть, потому, что он еще совсем маленький
медвежонок и не умеет научить человека
сопротивляться судьбе смехом? Но я
узнала глазки-бусинки... Нежно поглаживаю
мягкую, пушистую шерстку и, веря, что он
тоже принесет мне счастье, говорю емy,
как старому другу: «Ну здравствуй,
мишка!»
САША
Был конец апреля, в Евпатории все цвело. Мою койку выносили прямо в сад — воздух и солнце были единственным моим лечением. Как-то я попросила у врача разрешения остаться в саду и на ночь — ночи были такие ясные. И море было совсем рядом. Моя койка стояла в кустах сирени, а чуть подальше и повыше гроздья акации. Вся земля была усыпана белыми лепестками.
Вечерами бывало особенно трудно, время тянулось так долго. Томило одиночество. Ночью над головой горели звезды, и все они казались мне счастливыми и... чужими. Когда-то, вот в такую же звездную ночь, мы с ребятами поднимались в горы, чтобы встретить рассвет, тогда над моей головой светила моя звезда. Тогда все было моим...
Неожиданно мое одиночество кончилось. Однажды ко мне подошел высокий рыжий парень из нашего санатория и спросил:
— Вы что же, и ночью тут лежите?
От него слегка попахивало водкой. Мне стало не по себе, и я ответила, что ночью перебираюсь в палату. Назавтра он пришел снова.
— А вы обманули меня! Я ночью специально приходил проверять и увидел, что вы здесь.
Мы оба поняли друг друга, засмеялись и — познакомились. Его звали Сашей, он работал техником на заводе. С того дня Саша часто стал приходить ко мне и проводил у моей постели много часов. Как-то привел нескольких парней из своего корпуса, они подхватили мою кровать и понесли к спортивной площадке — начинались соревнования по волейболу. Потом они решили переносить меня вечерами к летней площадке — в кино или на концерты. Первое время я очень стеснялась, особенно отдыхающих из других санаториев, и ребятам приходилось долго меня уговаривать. А потом привыкла. И к моей койке тоже все привыкли. Теперь я уже не страшилась вечеров — была не одинока. Саша то собирал мне цветы, то приносил «для аппетита» керченскую селедку. Брал для меня из библиотеки книги и доставлял письма.
Он уже знал обо мне все. Знал, что рушится сейчас моя жизнь, рушится любовь. Как-то, увидев меня особенно грустной, сказал:
— Он будет ждать вас, Ира. Когда любишь, можно ждать всю жизнь.
Потом пришло время Сашиного отъезда. Я успела привязаться к нему всей душой и знала, как мне будет его недоставать. Накануне отъезда Саша предложил:
— Давайте, Ира, попробуем добраться разок до моря. Кто знает, когда еще вам придется увидеть его.
Это была моя мечта, только неловко было просить, чтобы помогли дойти.
Я поднялась с постели. Море было близко, но шли мы долго и трудно. Саша нес меня к морю на руках. Нет, он ничуть не стеснялся любопытных взглядов встречных. Он и меня научил не замечать жестокого любопытства посторонних.
Возле воды Саша нагнулся и потрогал рукой песок:
— Попробуйте, Ира, какой горячий!
Вспомнил, что мне не нагнуться, набрал горсть, пересыпал в мою ладонь. Песок действительно был горячий. А море? Море было безмятежно спокойное, и ему не было дела ни до меня, ни до моей беды...
На следующий день мы прощались. Столько хорошего хотелось сказать Саше, но он опередил:
— Спасибо, Ира, мне было очень хорошо с вами. И домой возвращаюсь с чистой совестью —водку не пил и жене не изменял!
Пошутил!
Я не ответила. Только навсегда запомнила
добрые, улыбчивые глаза.
МАРТ
Март. На Москве-реке еще не тронулся лед, а по берегу уже побежали первые ручейки.
Март. Роковой месяц для нашей семьи. Именно в марте умерли муж, отец, брат. Ушли из семьи все мужчины...
Март. Ослепительно сияет солнце, не радуя глаз.
Март. С крыш домов падает капель — вечный вестник наступающей весны. И в воздухе первые весенние запахи.
Март. Замирает сердце, когда смотришь на это возрождение жизни в природе и понимаешь, что не могут воскреснуть любимые.
Март.
Первый месяц весны. Как пережить его?
Каждый год повторяется эта бесконечная
мука. И все-таки весна идет. Потому что
жизнь не останавливается и никого не
хочет щадить. Трудно, больно и горько.
Но весна идет как победное шествие
природы — силы, с которой никто не может
совладать. Март...
ДОДИК
Я любила его пылкой, хотя еще и не взрослой любовью — нам было по шестнадцать. Страдала, потому что любила безответно. Детство оборвалось в один день: грянула война. И вот уже наши мальчики надели солдатские шинели...
День Победы все школьные друзья — те, кто остался жив, разумеется, — праздновали вместе. Додик, только что вернувшийся из госпиталя, был в гимнастерке с погонами. Он до удивления нисколечко не возмужал — все такой же весельчак, балагур, с шутками, острым словом и картавым, раскатистым «р», по которому его так легко было всегда узнать по телефону. Теперь в нем, кажется, били через край несколько жизней — та, которой он жил сам, и те, что не дожили друзья.
Вскоре он женился, и наши дороги разошлись. Не виделись лет тридцать. К моему пятидесятилетию старые школьные друзья приготовили мне сюрприз — пригласили Додика, он принес корзину красных гвоздик. Увы, пришел какой-то совсем чужой мужчина с седыми висками и брюшком. На улице не узнала бы!
Теперь Додик с каждым праздником поздравляет меня по телефону. И только раз в году поздравляю его я: в День Победы.
— Урра! — раздается его счастливый голос.
— Ура! — вторю ему я.
И еще дважды слышу это далекое и до боли близкое «р»:
— Урра! Урра!
Вот он, прежний Додик, весельчак, балагур и наш школьный рыцарь, не терпевший несправедливости, защищавший слабых, с таким, только ему присущим почтением к девочкам.
Все
правильно, Додик. И что в числе немногих
остался жив. И что выбрал не меня, а
другую — со мной слишком много хлопот.
И что мы встретились. И что всерьез не
расстаемся: стоит набрать твой номер
телефона, и вот уже на другом конце
провода слышу твое раскатистое «р». И
даже что я не жалею о девочке, которой
приносил ты в день рождения цветы, а
каждый день — полудетские слезы. Была
девочка. Был мальчик. Идет жизнь.
ПЕРВОЕ МАЯ
Первое мая. Солнце светит и греет. Где-то там, далеко, на Красной площади отшумел физкультурный парад. Прошла веселая демонстрация. Я ничего этого не смогла увидеть — все те же четыре стены, только теперь снова больничные. Соседка по палате спросила меня: «Вы не пробовали заняться статистикой — сколько лет проведено вами в больницах?» Мне никогда ничего подобного не приходило в голову, но если прикинуть, то чуть ли не половину сознательной жизни...
Вспоминать о том, как прошла жизнь, а вопреки всему светит и греет солнце, — пустое. Мечтать о будущем — его уже тоже, скорее всего, не будет. Жить настоящим, скрипя зубами от боли и сгорая от жара, — бессмысленно. Значит, где-то в душе надо создавать другой — «невсамделишный» — мир. И тогда даже настоящий день засияет всеми цветами радуги. И все Золушки наденут хрустальные туфельки. А каждая Ассоль дождется своего принца на яхте с алыми парусами. И мальчик Айтматова не утонет в погоне за белым пароходом. Жар-птица перестанет быть мечтой. Золотая рыбка простит за жадность старуху, и они со стариком не останутся у разбитого корыта. Ну а я вернусь домой, крепко и нежно обниму свою маму, прижмусь к ней, как бы врастая в нее, ибо я ее часть и разлучить нас просто невозможно.
Майское
солнце врывается в палату и тоже вносит
свою лепту в придуманное мною торжество.
Я — СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Была вчера на серебряной свадьбе моей близкой подруги. Мне было хорошо в этот праздничный вечер — и радовалась и ее юбилею, и дочке, и очаровательной внучке. А сегодня с утра — пустота. Словно вынута душа. Наверное, если бы сразу получила много работы, было бы некогда горевать о себе. Но с работой «окно», и утро тянется и никак не переходит в день...
Уже много лет после смерти мужа сестра в больнице как-то спросила меня: «Вы не артистка? Уж больно много приносят вам цветов». Это близкие и друзья стараются восполнить хотя бы долю того, чего так и не успел он. И в другой раз, в другой больнице: «Утром входишь в вашу палату и слышишь запах духов». Это моей маме хочется, чтобы я не была иной, чем при нем.
Я — счастливый человек. Не только потому, что богата близкими и друзьями. Я живу творческой жизнью и люблю все то, что любил муж, и даже более того.
— Я — счастливый человек, потому что все еще могу сопротивляться недугу.
Я
— счастливый человек!
РЫЖЕНЬКАЯ
Она рыженькая. Глаза зеленые в золотую крапинку и очень пытливые. Я люблю ее вот такую — свою, родную, близкую. Она — еще от горшка два вершка — пытается за мной ухаживать. Впрочем, это хорошо ей удается. Ведь она делает это с любовью ко мне. А я принимаю с любовью к ней. А любовь, помноженная на любовь, уже такая сила, которая не подвластна жизненным невзгодам. Мне радостно, когда она улыбается, а сколько раз она улыбнется, чуточку зависит и от меня. Ее так легко удивить, обрадовать — уверена, она рождена для радости. Ведь самая большая радость — приносить ее людям. Она слишком мала, чтобы делать это осознанно. Но как хорошо, что сердце бывает старше разума. Она плоть от плоти моей. В нас общая кровь. Ведь ее дед был моим родным братом...
Тогда я приезжала к нему, умирающему, и поочередно входила то в одну, то в другую комнату. В одной властвовало горе — у изголовья брата сторожила смерть. В другой жило счастье — она, крохотная, тянула ко мне ручонки, и улыбка лучилась на ее лице.
Вот
какими узами связала нас жизнь.
СЫН
Его письма не так уж сильно отличались от писем других моих благодарных читателей. А когда умерла мама и я осталась одна, беспомощная и больная, то написала об этом всем своим корреспондентам. Он, единственный из всех, откликнулся не только словом, но и делом: «Осенью я демобилизуюсь из армии, приеду к Вам и буду Вашим сыном». Так приобрела я сына, спасшего меня от одиночества и физической беспомощности.
Сын... Я мечтала о нем еще в детстве — одевала кукол в мальчишеские костюмы. Он представлялся мне черненьким и кудрявым.
Сын... Я мечтала родить его в юности, когда счастье было так близко.
Сын... Я и в молодости все еще надеялась, когда болезнь отняла все.
Сын... Я пренебрегала болезнью в зрелые годы, но вмешалась смерть мужа, и я не родила его, маленького и родного.
Сын... Судьба послала мне его вдруг, в самые трудные минуты жизни. Уже большого, сильного, благородного.
Сын... Моя опора, поддержка, радость. Я не знаю и не хочу знать, что будет потом. Ведь и родные сыновья, в которых вложена жизнь, уходят. Я же не вложила в него ничего.
Нареченный сын... Какое счастье иметь возле ceбя этого солнечного, нежного, ласкового человечка и сознавать, что ты не одна, что есть он, сын. Черненький и кудрявый. Чудо, влетевшее в дом и полонившее сердце...
СИНИЕ ПЕРЫШКИ
Моя знакомая зевнула и, отправляясь в отпуск, сладким голосом сказала: «Люблю спать под стук колес». Невольно вспомнила я свои поездки. Нет, под стук колес мне никогда не спалось. Днем неотрывно смотрела в окно. Леса, реки, озера, степи — все, чем так богата моя земля. Вечером — фонари на полустанках да мерцание огней больших городов. Но наступало время спать. Задвигались шторки, в купе тушился свет. И тогда... прилетала синяя птица. Я всегда знала, что не буду жить легко. Понимала, что за каждой исполненной мечтой, за которую придется дерзко бороться, придет другая. Но рядом со мной была синяя птица, и поэтому не было причин считать, что не сбудется ни одна мечта. Она, эта никем никогда не виданная синяя птица, была со мной в поезде, и я в своих грезах нежно гладила ее, беседовала с ней, а она под утро оставляла мне синие перышки как залог счастья и улетала до следующей ночи. Синие перышки были тоже грезами...
Дорога,
дорога, сколько надежд переполняло и
без того переполненное красотой жизни
сердце! Но отчего же вдруг, так сразу,
она оборвалась, лишив меня всего, чем
жив и богат человек? Может быть, потому,
что я не сумела сберечь синие перышки?..
МАТЬ
Они сидели за столом в День Победы. Уже немолодые, с сединой в волосах, некоторые из них искалеченные, но все веселые, влюбленные в жизнь, которую отвоевали почти сорок лет назад. Среди них была старая женщина, их «общая мама», как они называли ее.
Впрочем, возраст еще не определяет старость. В свои восемьдесят три года она сохранила не только физические силы, чтобы обслуживать себя и вести хозяйство, ухаживая за сыном, сидевшим за тем же столом. Она сохранила любопытство ко всему интересному, не отставая, а порой опережая в этом молодых. Пишет мемуары — живет не только активной духовной, но и творческой жизнью. В мемуарах повторяет все пережитое — светлое и тяжелое, что выпало на ее долю. Кого любила, с кем дружила, кого встречала и, конечно, как работала. Жизнь — это то, что можно о ней рассказать...
Она вышла замуж девятнадцати лет. Родила сына, но не сразу проснулось материнское чувство. Зато когда проснулось, заполнило всю.
… Сыну три года. Он идет за ней по узкой курортной аллее и хнычет: «Ну дай хоть кусочек черного хлебушка». Прохожие останавливаются, думая, что с ним злая мачеха. А он просто ненасытен.
Ему девять лет. Острый аппендицит, перитонит, срочная операция ночью. Вместе с врачами боролась за его жизнь.
...Вот она получает в войну разрешение на встречу с ним, пока его взвод стоит на отдыхе после жестоких боев. Сын выехал встречать ее верхом на лошади — красивый, статный, по-военному подтянутый. Какую гордость испытала тогда она!
...Вернулся на костылях. А счастливее, чем она, никого не было: живой! Костыли бросил. Начал учиться имеете со своими фронтовыми друзьями. Жил жадно, азартно, неистово, наверстывая упущенное. И только по ночам просыпался от приснившихся боев. И только часто вспоминал ушедших в землю друзей. Рассказывал ей о них, и она горевала как вселенская мать.
...День
Победы. Ни у кого из его друзей не осталось
матери. Значит, заменить всех матерей
надо ей. Она — в центре стола, первая
произносит тост. У нее заимствуют они,
сами уже пожилые, мудрость. Делятся с
ней, советуются, прислушиваются. Позади
большая жизнь. О ней есть что рассказать...
ДРУГ
Умер Коган. Я всегда шутя называла его по фамилии. В первый раз он позвонил по делу, просил встречи. И встретившись, мы уже не разлучались. Каждый вечер звонил. Каждую субботу навещал. Весельчак, острослов. Талантливый физик. Он так истово любил жизнь, что не веришь и сейчас в эту утрату. Но нет звонков, нет смеха, шуток, нет его самого. Может быть, и наказание мне — не умела ценить, не хватило любви.
И
вот пусто, одиноко и холодно душе. И
ничего нельзя вернуть, ибо прошлое не
возвращается. Я смотрю в ночное небо и
вижу одну-единственную звездочку. Быть
может, она хочет убаюкать меня, бессонную?
Но вот тучи закрыли небо, и оно черным-черно.
Как научиться терять? Для меня это все
равно что научиться жить, потому что
жизнь моя состоит сплошь из потерь.
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Первые годы после революции, гражданской войны... Голод, разруха, беспризорность. На VII съезде ВКП(б) борьба с туберкулезом, косившим людей в городе и на селе, в центре и на периферии, на севере и на юге, была объявлена главной задачей медицины. Уже в июле 1918 года был открыт первый советский туберкулезный институт — вслед за декретами о мире и земле. Вот тогда-то после фронта гражданской войны пришла в институт молодой врач Мария Владимировна Триус. Врачом-практиком она оставалась недолго: необходимо было изыскивать средства, излечивающие больных. В то время их не было. И не в характере Марии Владимировны было ждать таких средств от кого-то. Она перешла в микрофтизиатрическую лабораторию, а с 1928 года стала ею заведовать. Отечественного опыта царская Россия не оставила. Пришлось обратиться к зарубежным источникам. Владея основными европейскими языками, Мария Владимировна стала черпать знания из опыта других стран. Кто же мог тогда знать, что пройдет не так уж много времени и западные ученые будут цитировать ее научные труды и ссылаться на них!
Талант Марии Владимировны выделил ее, еще девочку, в гимназии. Отец, глава многодетной и бедной семьи, не мог дать детям образование. Мария своими незаурядными успехами завоевала тогда право учиться бесплатно. Одновременно подрабатывая уроками, она дала возможность получить образование младшим сестре и брату, моему отцу.
Мария Владимировна, или, как мы, дети, называли ее — тетя Маня, в молодости была очень привлекательной. Однако замуж вышла поздно и первого ребенка, девочку, родила уже к сорока годам. Когда Инночке был всего год, мать случайно узнала, что муж имеет другую семью, и оставила его. Инночка, девочка красивая, умная, способная, заполнила всю ее личную жизнь. Помню, как тяжело переживала тетя Маня тоску дочери по отцу, которого не знала. Гуляла с немецкой группой на бульваре, увидела, как испуганный мальчик прибежал и уткнулся в колени воспитательницы с криком: «Не отдавайте меня папе, я не хочу к нему!» Это был мальчик, тоже росший без отца, но отец искал встречи с сыном на бульваре, зная часы прогулок. Инночка, потрясенная, сказала вечером матери: «А если бы мой папа пришел, я бы так была рада». Помню, какой болью отозвались в сердце моей тети эти слова дочери.
В три года, летом, когда Инночка с детским садиком жила на даче, она простудилась и заболела ревматизмом. Позднее атаки этой болезни и вызванный ею порок сердца не дали девочке постоянно ходить в школу. Занималась с ней каждый раз во время болезни мать. Блестяще подготовленная по всем предметам матерью, Инночка переходила из класса в класс с отличными оценками.
Дружили с ней мой родной брат, ее сверстник, и ее самый близкий товарищ.
Катастрофа произошла в семнадцать лет. Помню последний ее вечер в нашей семье — была свадьба двоюродного брата. Длинные черные кудри распущены по плечам. Чуть раскосые, восточные, черные глаза (отец был узбеком), бархатистая смуглая кожа, о которой товарищ брата рассказывал через много лет своей жене: «Я никогда больше не видел такой кожи». Что и говорить, наверное, это была их первая любовь. Инна сдавала экзамены в десятый класс. Назавтра пришла с экзамена, пожаловалась на головную боль. Тетя Маня ответила: «Ляг поспи, ничего, если получишь тройку».
Инна из-за головной боли не уснула, а к утру начались судороги. В тот день все врачи, коллеги и друзья тети, были у Инночки, непрерывно, тихо и жалобно повторявшей запомнившийся мне на всю жизнь стон: «Ой-ой-ой-ой». Диагноз был установлен: «туберкулезный менингит». Я была у них, когда Инну отвозили в клинику туберкулезного института, где работала тетя Маня. Им выделили отдельную палату. «Какие же наряды возьмем мы на дачу?» — спрашивала тетя у Инны и собирала вещи. Уже тогда было непонятно, где брала она мужество.
Помню, как вводили Инне в спинной мозг ежедневно лекарство — она походила на загнанного зверька...
Инночка умерла 14 июня 1948 года. Вопреки возражениям близких и коллег, боявшихся за Марию Владимировну, она присутствовала при вскрытии дочери. Нет, менингит не подтвердился. Она умерла от кровоизлияния в мозг.
Комнату и коридор заполнили дети, ее товарищи по школе. Тетя Маня стояла у гроба с сухими глазами. Право же, никто не мог понять, откуда эта женщина черпала силы. Не плакала она и на кладбище. Только спустя месяц ее свалил инсульт. Сдало и сердце. Она пережила дочь на семь страшных лет. В 1955 году ее, шестидесятилетнюю, похоронили под тем же розовым гранитным памятником.
Ах, как свежи в памяти детские годы, проведенные с ней! Каждое воскресенье нас с младшим братом и Инночкой водила тетя Маня гулять на бульвар. А после прогулки мы заходили в детский магазин, и она каждому покупала выбранную им игрушку. Она так хотела, чтобы Инночка дружила с нами, так боялась оставить ее одинокой! Случилось непредвиденное — девочка оставила одинокой мать. Но самое удивительное было то, что вопреки большому горю тетя не смогла быть одинокой. Сколько любви, тепла, внимания дарила она нам, своим племянникам! Вспоминаю ее такой благодарной за каждую каплю нашего внимания. По окончании института с первой зарплаты я подарила ей сумку. Она, как ребенок, показывала ее своим коллегам-профессорам. Не сумев заплакать от постигшего ее глубокого горя, она могла смахнуть слезу от каждого нашего знака внимания.
Теперь
в той же ограде стоит второй, черный
памятник — под ним тоже покоятся мои
близкие...
ПРИЗВАНИЕ
Я снова в больничной палате. Врачи и теперь не отказались от меня. Нет, вылечить они больше не обещают. Но когда мне бывает очень трудно, спешат на помощь. И тогда становится чуть легче. А когда жить по-настоящему трудно, это «чуть» уже очень много.
В Московской железнодорожной больнице меня личит Арнольд Осипович Мозель. Он заведующий отделением. Я очень верю ему. Верить врачу для больной всегда счастье. Ведь тогда одно его присутствие уже помогает. Врач становится тебе необходимее, чем само лекарство. Он облегчает твои страдания, даже еще не начав лечить...
Арнольд Осипович лечит меня от хронической, неизлечимой болезни. Лечит упорно, настойчиво. Лечит, потому что он доктор и должен, обязан лечить даже самые неизлечимые болезни. И хотя ему, как и другим врачам, не удается поднять меня на ноги, зато каждым день ему удается вселить в мое сердце еще чуточку мужества.
Со свойственной ему горячностью Арнольд Осипович говорит:
— Что значит «обреченная»? Все мы обречены на то, чтобы когда-нибудь умереть. Это лишь вопрос времени. Но пока человек жив, он должен жить. А дело врача — помогать ему.
Он работает вдохновенно. Служение своему делу с полной отдачей всех сил — вот, пожалуй, то главное, что составляет его сущность. Давно, когда моя болезнь только еще начиналась, я многого не понимала и в минуту боли и отчаяния бросила врачу жестокие слова. Я упрекнула его в бессилии помочь мне. Теперь я понимаю, что, находясь в самой гуще человеческих страданий, врач много страдает сам, если он настоящий врач. И когда у больного иссякает терпение, врачу должно хватить терпения на двоих. Изо дня в день, из года в год, всю жизнь выслушивает врач бесконечные жалобы больных. Каждое утро он начинает с одних и тех же слов: «На что жалуетесь?»
Арнольд Осипович подвижен, горяч. Бывает и вспыльчив. Но у постели больного он очень терпелив. Вот пожилая женщина в моей палате хнычет капризно, как ребенок: «Хочу домой!» Доктор не противоречит:
— Ну что же, раз вы так хотите, мы вас отпустим. Только я не советую. Что ж, давайте назначим рентген, — сестра, запишите! — а там и на выписку. Только, повторяю, я очень не советую.
Он так часто и настойчиво повторяет «не советую», что больная умолкает, а вечером с тревогой спрашивает:
— Как вы думаете, меня действительно выпишут? Но я же не хочу уходить недолеченной.
Молодых сестер Арнольд Осипович учит: «Больному трудно, и он имеет право даже на каприз. Нужно научиться справляться и с этим».
В больнице все направлено на то, чтобы принести больному облегчение, еще не начав лечить. Доброжелательность сестер и нянь в приемном покое убеждает его в том, что все здесь хотят ему помочь и, значит, обязательно помогут. Ведь самые тяжелые минуты в больнице — это всегда первые минуты, потому что впереди неизвестность. Путь по коридорам от приемного покоя до палаты всегда кажется самым длинным. И тогда очень важно снять страх перед неизвестностью. Это хорошо понимает персонал больницы.
А обстановка в ней вовсе не похожа на больничную — ласкающая глаз окраска стен, красивая современная мебель, цветы, ковры... Сестры говорят, что в нашем отделении нет такого уголка, к которому бы не приложил заботливые руки Арнольд Осипович.
Как он стал врачом? Да разве можно объяснить призвание? Может быть, он врач потому, что сам рано познал человеческие страдания — у него было трудное детство. И в силу свойства души не озлобился, как это иногда бывает, а научился сострадать. Ну а уже в силу темперамента сострадать для него — значит действовать.
Днем учась в медицинском институте, по ночам он работал фельдшером. И все-таки окончательное cтановление его как врача совершилось позже, уже в больнице, где он работал под руководством опытного учителя и наставника.
А теперь, к сорока годам, Арнольд Осипович и сам стал не только настоящим врачом, но и настоящим педагогом. Почти все в отделении, которым он руководит, — молодежь. А молодость требует постоянной учебы, передачи опыта, воспитания: недаром сестры говорят, что, поступив после окончания медицинского училища сюда на работу, все они прошли у Арнольда Осиповича вторую школу. Он словно бы заново их переучивает — уже в общении с больными. Правда, это отнимает у него не меньше времени, чем само лечение, но времени он не жалеет — все, что есть, отдает больнице.
Я особенно интересуюсь отношением врачей к так называемым хроническим больным — самым «неблагодарным». Интересуюсь потому, что по себе знаю, как важно вовремя поддержать организм, не дать болезням отнять последнее. Арнольд Осипович говорит:
— С каждым годом количество больничных коек растет, а средства лечения становятся все эффективнее. Само понятие «хронический больной» сдвинулось: вчера о нем говорили — хроник, а завтра он — здоровый человек.
Это не просто слова — Арнольд Осипович не из тех, кто бросает их на ветер. Выписывая таких «хроников», он годами не выпускает их из поля зрения.
Арнольд Осипович говорит о преемственности в лечении, я же слушаю его, а сама думаю о преемственности поколений. Ведь и кабинеты врачей, лечивших меня когда-то, тоже были постоянно заполнены и недавно выписавшимися больными и давно уже здоровыми.
Сюда, в больницу, приходят проверить здоровье, поолучить совет, поделиться трудностями, обрадовать успехами. Ну и просто повидаться с людьми, которым стольким обязан. Конечно, это тоже требует времени и от врачей, и от сестер, но здесь никто не считается со своим временем — здесь служат делу, которое любят.
Первый помощник у Арнольда Осиповича в отделении — старшая сестра Рита Алексеева. На своем посту она уже три года. Смотришь, как она работает, и понимаешь: чтобы быть хорошим организатором, надо прежде всего уметь все делать самому. Нет процедуры, которую кто-нибудь в отделении сумел бы выполнить лучше Риты.
Разными путями приходит к человеку призвание. Мечта о медицине завладела Ритой давно — она еще бегала по деревне босоногой девчонкой. Отца своего Рита не помнит. Когда немцы заняли подмосковную деревню и сожгли ее дом, многодетная семья осталась без крова. Раздетые, разутые, голодные ушли они из родной деревни.
В новом селе, уже после войны, мать поступила работать в больницу санитаркой, и здесь же, при больнице, дали им комнату. Жили трудно — все на одну небольшую зарплату матери. Рите с детства приходилось подрабатывать — то нянькой, то почтальоном. Но очень хотелось учиться! И если удалось ей окончить школу, то лишь потому, что люди в белых халатах, сотрудники больницы, помогали ей и ее семье. С особенной благодарностью вспоминает Рита женщину-врача, ставшую ей как бы второй матерью. Она кормила и одевала Риту, помогала ей готовить уроки. Она-то и вдохнула в опаленное войной детское сердце мечту. Рита видела, что помогает докторша не ей одной. Со всего села шли люди за советом к этой красивой и строгой женщине. Рите она казалась доброй волшебницей, пришедшей к людям из сказки. Вот и захотелось стать такой же. Но стать сразу врачом Рита не могла — надо было работать, помогать матери. Зато медицинская сестра вышла из нее замечательная! Так доброе семя, зароненное в душу ребенка, определило всю жизнь.
Прислушиваюсь к разговору санитарки Люды Соколовой с моей соседкой по палате, научной сотрудницей одного из транспортных вузов. Люде восемнадцать лет, она отлично окончила школу, а вот на экзаменах в медицинский институт недобрала один балл. И пришла сюда санитаркой. Моя соседка уговаривает ее:
— Ну на что тебе эта грязная работа? Давай я устрою тебя лаборанткой в наш институт. Летом поступишь к нам же учиться. И ставки у инженеров выше.
Люда смущенно, почти виновато отвечает:
— Не могу я, понимаете, не могу. Нет у меня другой дороги в жизни, кроме как в медицину...
«Нет другой дороги в жизни» — вот это, наверное, и есть призвание.
Разве забыть мне когда-нибудь сестру Светлану, студентку медицинского института! Днем она занималась, ночами дежурила у нас в больнице. В самые тяжелые ночи, когда бессонница доводила меня до исступления, Светлана прикладывала руки к моему горячему лбу и тихо-тихо шептала над самым ухом: «Спать, спать, спать...» И я, успокоенная, засыпала. Засыпала у нее одной. Знаю, в медицинском институте не преподают гипноз. И глаза у Светланы вовсе не черные, какие — почему-то принято считать — должны быть у гипнотизера, а синие-синие. Впрочем, в те тихие ночные часы в полумраке больничной палаты нельзя было различить цвет ее глаз. Но как умела она унять боль, успокоить, увести от беды...
Это уметь — тоже призвание.
Я
не раз лечилась в клиниках медицинских
институтов и видела занятия со студентами
в палатах, у постелей больных. Стоят
они, студенты, все в белых халатах, в
белых шапочках, такие похожие и не
похожие друг на друга. Взгляд у одних
серьезный, сосредоточенный, у других —
равнодушный, отсутствующий. Вот толкнул
один другого, что-то шепнул, послышался
смешок. И только грозный взгляд профессора
остановил их. Пройдет еще месяц, и
профессор — уже в аудитории — будет
принимать экзамены. Будет задавать
вопросы и ставить оценки за ответы. А я
бы ставила им предварительные оценки
уже здесь, у постели больного. И не по
тому, как они отвечают, а как слушают,
какими глазами смотрят на больных. Ведь
и в этом тоже распознается призвание...
Как у Арнольда Осиповича, у Риты, у Люды.
Как у главного врача Анатолия Соломоновича
Шпигельгляса, по существу, создавшего
эту больницу, хотя сам он утверждает,
что не осилил бы это, если бы не множество
энтузиастов. Я смогла рассказать лишь
о некоторых из них.
ТАТЬЯНА
Двоюродный брат Митя незадолго до войны привез с Волги девушку Татьяну и наказал мне: «Люби ее как сестру». Красивая, с русыми волосами и яркими голубыми глазами, высокая, стройная. Волжанка, она плавала лучше моих братьев-спортсменов. И вся была такая лучистая, солнечная.
Родилась дочь. Брат обожал ее и назвал Галкой — она была действительно черненькая, как галчонок. А вскоре началась война. Мой брат узнал об этом раньше всех нас: командир-пограничник, он принял самый первый бой. Неловко поцеловал спящую дочь — она проснулась и заплакала. Наспех попрощался с Татьяной и сказал: «Уезжайте с первым эшелоном, но это скоро кончится, не бойся!» Для него война действительно скоро кончилась: он погиб в сорок втором под Сталинградом. Для нее война так и не кончилась никогда: именно девятого мая сорок пятого года получила она похоронку.
Вместе со свекровью воспитала дочь. Не успев приобрести специальность, жила трудно, но не жаловалась. Столько лет прошло с того Дня Победы, с той похоронки, а живет по-прежнему с достоинством, уважаемая всеми. Сумела не потерять тепло своей души. Приходит на помощь тому, кому трудно. Видно, доля ее такая (а может, сама себе выбрала) — ухаживать за больными. И по-прежнему молодая, разве чуть полиняли глаза — наверное, выплакала — да появилась седина в волосах. Веселая, жизнелюбивая. Никогда не позавидует чужому счастью. Входит в мою комнату или в больничную палату словно солнце.
...Месяц назад Татьяна умерла. В часы, которые она коротала без дочери, я по телефону спрашивала ее: «Тебе скучно?» — «Нет, — отвечала она уже ослабевшим голосом, — над моей кроватью висят портреты твоих братьев, один из которых был моим мужем. Я разговариваю с ними. Они отвечают».
Перед тем как мне лечь в больницу, мы с сыном поехали к ней. Я знала, что это последняя встреча. В тот день собралась вся ее семья. Татьяна небрежно смахивала катившиеся по щекам слезы, а лицо озарялось такой сияющей улыбкой, и глаза были такие лучезарно-синие, что не верилось в близкий конец. Она знала, что умирает. Но любила нас всех, и этой любовью, а не страхом наступающей смерти было переполнено ее сердце.
Похоронили
Татьяну без меня. А я всю жизнь буду
помнить ту сияющую улыбку и свет синих
глаз. Да, так надо жить. Так надо умирать!
РОМАШКА
Неожиданно выдался праздничный и торжественный для меня день — наградили орденом «Знак Почета». Поздравляли близкие, друзья, товарищи. Казалось, по-особенному, не буднично светит солнце. А терраса вся была заставлена вазами, кувшинами, банками с цветами, непременными спутниками радости и горя. Чайные розы, алые маки, нежные лилии, благоухающий жасмин, статные гладиолусы. А одна женщина, живущая в это лето с нами на даче, не стала покупать «парадные» цветы. Вышла за калитку и нарвала на лугу ромашек. Маленький этот букет мигом затерялся среди броской, пышной красоты дорогих садовых цветов.
Прошло несколько дней. Поблекли розы, потемнели, словно обуглились, маки, жалко сморщились лилии, опали лепестки жасмина. Сохранились лишь гладиолусы с их холодной красотой, радуя глаз и не трогая сердца. И сохранились полевые ромашки. По каким-то неведомым путям сознания или подсознания пришли ассоциации.
..Многие люди, считая себя натурами цельными, не верят в возможность второй любви. Первая, вторая... Как будто жизнь можно разложить в ряд арифметических чисел! Впрочем, в чем-то эти люди даже правы: второй любви действительно не бывает. Бывает просто любовь еще раз. Снова — первая. И уж, конечно, как и людей, принимая каждого таким, какой он есть, любовь нельзя сравнивать. Увы, иные истины постигаешь только с годами. И тогда уже не так трудно отвыкать от привычного представления о нежности, проявляющейся в ласке, цветах, подарках, в постоянном стремлении удивить и обрадовать. И ты учишься ценить нежность, которая может проявиться в простом рукопожатии. И тогда, сами того не замечая, мы становимся похожими на тех, кого любим. Научишься и самому трудному: спокойно относиться к разлукам, прощаясь, скрывать тревогу, встречаясь, сдерживать радость. Лишь иногда пронзит необоримое желание увидеть его глаза — еще и еще раз убедиться, что суровость взгляда может для тебя одной обернуться нежностью. Ибо всякой женщине, даже самой счастливой, может стать вдруг тревожно — не разлюбил ли. И лишь по тому, как в трудную минуту ощущаешь его плечо даже на расстоянии, снова веришь — все настоящее.
Да, любовь, как и люди, всегда разная. И не так уж много надо мудрости, чтобы постигнуть: даже цветок и тот каждый прекрасен по-своему. Нет, в жизни нельзя сравнивать...
Никогда не гадала я на ромашках. В детстве, когда поле было рядом, еще не знала, что есть на свете чудо, называемое любовью. Когда же выросла и узнала, возле меня уже не было ромашек.
...Не успев осознать, что время девичьих грез и гаданий давно отошло и все давно уже расставлено по местам (а что не расставилось, так никогда и не расставишь), что просто жаль вынимать ромашку из воды и лишать ее, такую стойкую, раньше времени жизни, я протянула руку за ней и стала быстро отрывать один лепесток за другим. С озорством и азартом. Быть может, цветок сумел вернуть меня на мгновение в юность? Только, наверное, именно вот так тревожно и весело колотится юное сердце, прибегая в стремлении утвердить надежду к этой кем-то придуманной примете: «Любит — не любит?»
Ромашка,
подаренная мне доброй женщиной, оказалась
тоже доброй и последним сорванным
лепестком ответила: «Любит!»
КОРНИ ЖИЗНИ
Люблю
смотреть в окно на разбушевавшуюся
стихию. Небо темное, тяжелое и низкое.
Ежесекундно озаряют его молнии,
сопровождая грозными раскатами грома.
Ветер раскачивает сосны. Я смотрю на
них и думаю, какие же могучие должны
быть у них корни, чтобы противостоять
такому ураганы. В эти минуты я особенно
верю, что и сама выстою. Ведь выстоять
стало, кажется, главным смыслом моей
жизни. Выстоять во что бы то ни стало.
Выстоять сегодня, чтобы снова выстоять
завтра. Для этого тоже нужны крепкие
корни. Корни жизни.
БЕРЕЗЫ
И прошлом году ранней осенью, когда еще не опала листва с деревьев, пронесся ураган с обильным снегопадом. После них по-прежнему прямо и гордо стоят сосны и ели. Не пострадали и взрослые березы. А вот молодые — одних сломило, и пришлось их спилить, другие согнулись. С теми, которых сломило, уже ничего иного и не оставалось сделать — они просто перестали жить. А вот согнувшиеся и все равно весной зазеленевшие — выпрямятся ли они за оставшуюся долгую жизнь? Каждое утро, просыпаясь, я смотрю на них с надеждой: может быть, за ночь выпрямились, чтобы снова жить легко и радостно? И снова подняться ввысь, к небу, во всей своей зеленой яркости?
Вот
так и с человеком. Кого горе, обрушившееся
как ураган, сломит, тут тоже ничего не
поделаешь. А кого лишь согнуло? Тогда
все как у моих березок. Либо горе поселится
в нем надолго, человек свыкнется с ним
и, лишенный покоя и радостей, так и будет
жить, согнувшись от непосильной ноши.
Либо придет время, и разогнется он,
стряхнет с себя боль, улыбнется солнцу.
А мы назовем это силой жизни.
ЛАНДЫШИ
Сегодня на даче навестила нас пара молодых. Привезли ландыши. Запах от цветов, таких маленьких, одурманивающий. И смотрю я на молодых, и мне кажется — они сами одурманены. Не ландышами — любовью. Они не произносят этого слова, и мы молчим: товарищи по учебе, и только.
Лежу, поглядываю на них. Вспоминаю свою жизнь. Нет, ни дач, ни гамаков, ни джинсов не было — была война. Но так же, как и сейчас, по весне цвели ландиши. Была ли другой любовь? Смотрю на своих ребят, сравниваю — нет, такой же.
Ребята
не рядом со мной, им хочется побыть
вдвоем — старо как мир это пленительное
племя молодых. Вот и перевожу взгляд —
то в окошко, то на них, то на ландыши. И
думаю: мир вечен, для него неприемлемо
понятие времени. Мы влюбляемся, стареем,
умираем, а по весне все снова и снова
цветут ландыши. И живут в мире непреходящие
ценности. И любовь тоже.
ЩЕГОЛ
К нам на дачу привезли щегла в клетке — на время отпуска его хозяев. Клетку повесили на дерево. Вокруг нее птиц множество. Только все они на воле, а наш щегол — за решеткой. Весь день в саду сплошной птичий гомон. И летают они, птицы, свободно — от дерева к дереву. И пропитание добывают себе сами. Словом, живут настоящей птичьей жизнью. А нашему щеглу и летать-то негде — только прыгает с одной жердочки на другую. И пищу ему даем готовую, самому ни о чем не надо заботиться. Все говорят: раз птица поет — а щегол все время заливается, — значит, ей хорошо. А я не верю. Мы ведь не знаем птичьего языка — может быть, поет он грустные песни. А тут еще щеглиха который день вокруг клетки летает — видно, понравился ей наш щегол, уж больно красивое у него оперение. Да что толку — объединиться-то они все равно не могут...
Так и ходим вокруг клетки, не решаясь выпустить щегла на волю: ведь он чужой, его нам на время доверили.
Виновата
я перед хозяевами: не выдержала, открыла
дверцу, и щегол улетел. На зиму куплю им
другого. Зато как все зa щегла рады!
КАМЕШЕК СО ДНА
Кавказский хребет мы перевалили ранним утром и потом сразу же, как проснулись, увидели за окном вагона восход солнца: не только небо — вершины гор пламенеют. Все как прежде. Словно не осталось позади тех так и не прожитых лет. Словно не мечтала долгие годы о том, чтобы еще раз, хотя бы еще один раз, заснуть под стук колес. А проснувшись, увидеть Кавказ, так сильно и накрепко полюбившийся в юности. Все тот же мир чудес... Рядом — преданный и испытанный друг, взявший на себя заботу обо мне. Ну что же, ведь все в жизни можно расценивать по-разному. Можно пожалеть себя за свою беспомощность, и тогда весь этот мир чудес за окном вагона померкнет. А можно дружбу, помогающую осуществлять самые дерзновенные мечты, считать тоже чудом и тем самым ко всей гамме красок, какими расцвечен мир, добавить еще одну, быть может, самую яркую.
Я прожила в Тбилиси всего пять дней. Ездили мы на машине ежедневно и помногу — меня возили по городу и в горы. Это было трудно. Но неужто не стоит преодоления самой себя такая вот редкостная и дивная радость?
В горы, в горы. Хочется насладиться быстрой ездой, такой, какую я любила прежде. Мы мчимся по крутым дорогам. Я вдыхаю ветер, врывающийся в открытое окно машины, не просто жадно, а, наверное, азартно. Ведь двадцать лет назад здесь, на Кавказе, во время студенческой практики, вела я на полной скорости поезд, и мне казалось тогда: мчишься в жизнь, и «зеленая улица» открыта всем твоим мечтам...
Прямо
на машине въехали в горную речку.
Приподнялась на своем ложе, протянула
в окно руку, подняв камешек со дна... Что
за колдовская власть над людьми у гор
Кавказа! И не та власть, что подавляет,
а та, что возвеличивает. Быть может,
оттого, что, как бы сливаясь с природой,
ощущаешь свою причастность? Да кто же
выдумал, будто не под силу человеку
может быть только горе?! Не от непосильной
ли красоты текут эти слезы? Ведь такого
не случалось даже в самые тяжелые
времена. И как хорошо, что меня оставили
сейчас в машине одну: в такие минуты
человеку очень нужно побыть наедине с
собой. Но вот только в какие же это
минуты? Причастности? Очищения?
Умиротворенности? Незримого присутствия
души Мцыри? Или, быть может, ощущения
сил и возможностей собственной души, в
которые вдруг снова поверила?
ГВОЗДИКИ
Мне привезли из Заполярья три белые гвоздики. В Москве мороз. А мне привезли гвоздики не с юга, а с севера.
Цветы были совсем замерзшие, какие-то сморщенные, хотя их тщательно укутали. И все же они еще жили, вернее, я надеялась, что сумею их оживить. Я распаковала бесценный подарок, подрезала стебельки, поставила в воду.
За ночь гвоздики отошли, ожили, распустились. Это было похоже на чудо —утром я проснулась и увидела три больших пушистых белых цветка. Из той страны, где всегда снег.
Цветы
не умерли, потому что человек вдохнул
в них нежность.
ЗИМА
Вчера легли спать — вроде бы вернулась осень. Серыми и унылыми выглядели небо, земля, деревья. А за ночь намело снегу...
Если
весну считают символом юности, а ту
раннюю осень, что богата красками,
называют бабьим летом, то зиму можно
было бы по аналогии сравнить со смертью.
Но разве смерть может быть прекрасной?
Нет, зима похожа на сон. Сон младенца
или выздоравливающего после тяжелой
болезни — такая в ней первозданная
чистота, тишина, успокоенность...
РАДОСТЬ
Домой, домой! Меня везет на своей машине — лежу в ней, как всегда, на щите — Володя Рембро. Свидетелем скольких же минут отчаяния и радости он был в моей жизни. Сколько, большой и сильный, перетаскал меня на руках... Сейчас, везя меня из больницы домой, он совер-шает круг, решив покатать меня по пригороду. Быть может, он тоже хочет убедить меня в том, что чужих весен не бывает?
В
дороге вольно думается. И не думается
вовсе. За окном машины — буйное майское
цветение. Свернули с шоссе на ухабистую
дорогу, ведущую в лес. И вот здесь-то, на
краю обрыва, отделяющего лес от реки,
пьянея от лесного воздуха, напоенного
речной влагой, почувствовала я такую
неодолимую радость бытия, что на какие-то
мгновения перехватило дыхание. Не вообще
бытия, не вчера или завтра, не во всей
жизни, а сегодня, сейчас, в настоящий
миг. Быть может, в нашей повседневной
суете и стремлении к большим свершениям
пренебрегаем мы порой такими вот
сиюминутными радостями? А надо бы,
наверное, не только чувствовать, но и
запоминать их. В трудные минуты надеяться,
светлые не омрачать мыслями о тяжелом,
даже если оно неотвратимо, как у меня.
Сей миг... Не упустить бы его...
СОРНЯКИ
Когда копаешься в огороде, кажется, будто в природе зло властвует над добром. Корни сорняков крепкие, их трудно выдергивать. И размножаются они куда быстрее полезных растений. Чем выше сорт клубники, тем она нежнее и тем больше требует человеческого ухода. И удобрениями ее подкорми, и от сорняков очисти, и землю разрыхли, и даже полей в жару. То ли дело сорняки: и без дождей растут.
А
среди людей? Зло в людях выкорчевывать
куда труднее, чем выдергивать сорняки.
Год за годом, минута за минутой идет
непрерывная борьба зла и добра. Даже в
самые черные эпохи и времена порой кучка
людей проносила сквозь мрак жестокости
и невежества светильник добра. Ибо добро
вечно и по крупному счету человечество
на земле поддерживается добром и во имя
него.
НЕБО
Когда я за городом, то лежу на спине и лучше всего вижу и люблю небо. Если рано просыпаюсь, вижу, как за лесом занимается заря. Лес словно загорается — восходит солнце. С его появлением красные тона неба в том месте бледнеют, и тогда остается лишь прозрачная его синева. Интересно следить за облаками. Кучевые, перистые, разные, они несут с собой фантастические узоры. Иногда бегут по небу быстро, то и дело прикрывая собой солнце. Иногда плывут медленно, степенно. Это в безветрии. А то найдет туча, тяжелая, низкая. Неожиданно прольется спорый дождь. Тогда воздух становится особенно чистым...
К
вечеру солнце заходит. И когда оно совсем
уже зайдет лес, появляется вечерняя
заря, раскрашивая небо самыми разными
красками. В поздние сумерки над головой
зажигаются звезды. Вечер переходит в
ночь. Ночи люблю ясные. Впрочем, приятно
бывает не спать в грозу.
СТИХИЯ
Разбушевалась
стихия. Черное небо озаряет слепящий
свет молний. Грохочет гром, словно
раскалывается небо. Ветер с шумом
раскачивает деревья. Оделась и потихоньку
вошла в лес — он совсем рядом. Одна в
грозовом лесу. Жутко! И — так радостно!
Сердце звонко колотится, и дух захватывает
от этой непосильной красоты. Пошел
дождь, да и мое время истекло. Я вернулась
в постель, а за окном все продолжала
бушевать природа. Я поняла, что минуты,
проведенные в лесу, память сохранит
навсегда и что ради одних только таких
вот минут стоит жить и страдать. А дождь
все лил да лил, не смывая моей тихой и
всепобеждающей радости.
СТЕКЛЯННОЕ ДЕРЕВО
Когда
в моей комнате открывают окно, я вижу в
стекле отражение дерева. По тому, как
оно раскачивается, как колышутся ветви
и листья, узнаю, ветрено или тихо. По
тому, как оно меняет свой наряд или вовсе
оголяется, вижу, как чередуются времена
года. Стеклянное дерево. Это мое окно в
природу...
ЦВЕТЫ
Несколько
дней махонький бутончик розы на ветке
в вазе никак не распускался. Правда, он
как будто рос, но едва заметно. Каждое
утро, просыпаясь, смотрела я на этот
бутончик — никаких признаков цветка.
И вот сегодня утром, открыв глаза, я
привычно посмотрела на ветку — за ночь
расцвела большая алая роза. Быть может,
цветок рождается в таких же муках, как
и человек, только не умеет кричать? Ведь
и назначение человека и цветка одно —
творить красоту, гармонию.
ОСЕНЬ
Оголились
деревья. Рябина еще горит. Земля покрыта
жухлыми листьями и грязными лужами.
Моросит мелкий дождик — в воздухе это
уже снежинки, сразу тающие на земле.
Небо заволокло беспросветно. Видно, не
пробиться к ночи звездам. Стоит глубокая
осень — преддверие зимы. А там все станет
белым-бело. Природа замрет. Умолкнут
птицы. Лишь человек неутомимо продолжит
свои нескончаемые дела...
РЯБИНА КРАСНАЯ
Тоскливо сумерничать на даче в непогоду. Дождь льет и льет, и кажется, не будет ему конца — так обложило небо тучами. Все серо. И было бы нам совсем неуютно, если бы не стояла на столе ветка с гроздьями рябины — ягоды светятся, как маленькие красные огоньки. Рябину принес человек, который вчера уехал и оставил после себя грусть...
Мы познакомились с Михаилом Трошевым девять лет назад весьма необычно. Я получила письмо от паренька Алексея Спигина, отбывавшего наказание в колонии, с просьбой походатайствовать за него — нет, не о досрочном освобождении, а о том, чтобы он мог продолжить образование. По специальности Алексей строитель. В колонии окончил среднюю школу и хотел поступить в строительный институт. Учиться собирался заочно: присылать в институт контрольные работы и письменные зачеты. «А экзамены сдам и защищу диплом, — уточнял автор письма, — после отбытия срока наказания». Он не желал больше зря терять время — и так слишком много потерял. И еще Спигин писал о своем воспитателе майоре Грошеве, потому что, если бы не Грошев, быть может, не осознал бы он и поныне столь отчетливо истинный смысл жизни.
О просьбе осужденного я написала Михаилу Владимировичу. Он тотчас же откликнулся, сообщил, что на Спигина надеяться можно. Начались хлопоты. Много хлопот. Прежде всего надо было проверить, подготовлен ли Спигин в институт. Алексей прислал контрольную работу, заданную ему моим братом-математиком. Брат оценил его знания пригодными лишь для техникума. Но парень обрадовался и этому. Я обратилась в министерство. Нет, сообщили мне, осужденных, разумеется, не принимают. Добавили: «Да и практически это нереально». Но я была уже достаточно умудренной жизнью. Знала, что все реально, если люди очень захотят. И люди захотели! В строительном техникуме, ближайшем к колонии, откликнулись на мою просьбу учить Алексея на общественных началах. Не подвел и он: учился только на пятерки и в полтора-два раза перевыполнял нормы на производстве. Преподаватели даже приезжали к нему в колонию.
Спустя три года Алексей был освобожден. Он продолжал мне писать. Звал на свадьбу. И хотя я, конечно, поехать не могла, день его свадьбы и для меня был праздником. Когда в молодой семье появилась дочка, Алеша назвал ее моим именем...
Продолжалась переписка и с Грошевым. Месяц от месяца она становилась доверительнее. У нас оказалось много общего — отношение к людям, литературные вкусы. Даже музыкальные произведения, оказалось, мы любим одни и те же.
Переписка шла не только с Михаилом Владимировичем, но и со всем отрядом его воспитанников. От них и из писем самого Грошева я постепенно узнавала характер этого удивительного, поистине настоящего человека. И поняла, что он лечит души своих подопечных прежде всего добротой. Да и сам он в большом и малом пример для подражания. Этот человек жадно собирает и умело использует все, что может пригодиться ему для воспитательной работы.
Прошло много лет. С Михаилом Грошевым мы давно стали друзьями. Тепло его писем согревает меня в трудные минуты. Узнав о смерти моего отца, он прислал телеграмму, текст и подпись которой заставили меня поверить, что это ожил и поддерживает нас с мамой мой погибший на войне брат Миша: «Скорблю по отцу. Береги маму. Ваш Михаил». И чуть погодя — письмо от его воспитанников: «Если бы мы могли, не задумываясь взвалили хотя бы часть вашего горя на наши мужские плечи».
И вот наступил день неожиданной радости: мы с мамой получили телеграмму — Михаил проездом будет в Москве. И это после восьми лет такой переписки! Приезжал по-настоящему родной человек.
Он оказался таким, каким я его себе представляла. Высокий. Атлет. И лицо такое добродушное, что непонятно, как он может быть строгим. А ведь его работа требует и этого. Но больше, пожалуй, пленяет в нем всесторонняя широта. У него широкие плечи, широкие взгляды, широкая, щедрая душа. У него широкие интересы — он жадно вбирает в себя знания, любит поэзию, неплохо разбирается в живописи. Уж если привез подарок с родины, то достопримечательный — оренбургский платок, который продевается через кольцо, как в песне. Уж если цветы, то охапку. Уж если смех, то такой, что всем весело. А сам он ходит как хвост за мамой: «В чем помочь?»
И еще Михаил шутил: «Вот уеду, увезу дождь, а к вам пробьется солнце». Он хотел, чтобы нам стало веселее, радостнее. И его рябина еще простоит на нашем столе, пока не догорит до конца...
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





