ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Ванеева Лариса 1981
что это за мания — самовыражение? Не просто ли духовный экзгибиционизм, что ранил стрелой едва ли не в младенчестве, когда на дачной улице, спускающейся к реке, от реки же, из вечернего тумана, стал появляться в сумерках страшила с леденцами. Он был из ваты, голова набита опилками, в ватных брюках, обрубок, толст. Дети ждали его, этого страшного человека, поднимающегося от реки из дома на околице, где по ночам напаивают сонным зельем гостей, убивают случайных путников, а на чердаках, лестницах и в подвалах висят незримые дышащие внутренности, кишки вокруг столбов. Застенчиво улыбаясь, человек останавливался на пригорке, озирался, подзывал детей несмело и ссыпал во влажные ладошки леденцы. И девочкам он щедрее ссыпал прозрачных камешков, прикрывал, загибал пальчики, придерживал у себя, отпускал.
Мы бежали как зайцы с поджатыми хвостиками, вдруг кричали, что конфеты отравлены, бросали, топтали, соскабливая липкие, таращась от тех метаморфоз, что начнутся в наших желудках. Я монах в красных штанах! — кричал кто-то. А я в синих! Мы будто вправду видели что-то белое в сумерках, нежное, выпущенное из продырявленной ваты, непохожее на весь закопченный вид убийцы. И весь вечер были возбуждены и необъяснимо счастливы. И у нас был взрослый человек с леденцами, не принадлежавший к миру взрослых, из пригорков, туманов, реки и страшного дома, вступавший с нами в отношения на равных.
Оттого в пустой комнате в одиночестве одну из девочек посетило желание. Захотелось страшиле передать привет. Окно выходило в сад, улицы не видно, но привет мог быть передан небом и птицами. Трехлетняя девочка вскарабкалась по спинке кровати на подоконник, холодный, гладкий, шершавый от трещин, и телеграфировала привет детским горячим тельцем в окно. И это охлаждение подоконником и пролетевшим ветерком и принесло ей первую творческую радость.
Дальше вот что. Без привязанности любви взрослая женщина почувствовала себя так, как дитя в воде без надувного круга. Оказывается, постоянное присутствие любимого в мыслях спасало и поддерживало. Неприятности обтекали, она их не замечала, подводным водорослям страхов было не запутать, ибо зажимы нервов не волокли на дно. Устали не замечаешь, днями напевая о нем! И никого не хочешь, не ходишь, как самка, как бутыль с брагой, нет, спокойна, точно пробка сверху открыта, спокойна, грехом не бродишь, и чиста.
Ватный страшила нивелировался в психушке или тюрьме. В разъезженном гусеничными колесами дерне испустили дух кишки и сказки. Кое-кто, правда, спасся в ближайший лес, пугая оттуда тех, кто желал пугаться, но большинство пугаться не желало, возясь с тракторами и личным транспортом.
Любимый же страдал по автомобилю. Отчего и сам постепенно уподоблялся механизму, который требует чистки, еды, смазки и тепла.
Взбираясь горного тропою, раздувая ноздри от наслаждения настоянного воздуха, вместе с тем испытывал он желание спихнуть природу: рубить ее — не перерубить. В природе было нечто, что, напитав, начинало раздражать — слишком много жизни, да, слишком много жизни, иметь ее — не переиметь. Но однажды, глянув в вечернее небо, вместо знакомой звезды, низко стоящей на востоке, он увидел компьютер, на следующую ночь разглядел в созвездии Тельца последнюю модель «Москвича» и восхитился в хитрой концепции, согласно которой мир природы в неизбежном грядущем сойдет на нет, разлука неминуема, но тоскующая память человечества воссоздаст природу изнутри своей сути в качестве поэтического, художественно активного самопознания и самоосуществления. В созидающей фантазии отмершая природа станет знаковой системой самой жизни в отличие от искусственно созданной, технической, заполняющей ночное небо.
Гордый, что пропитается мифами о природе вместо самой природы, тем самым выйдя на новое суперпознание, вмещающее познание предков, но качественно его превосходящее, любимый ощущал природу уже условно-лихо, как прохождение лучей, за которыми нет ничего, как сноп их над головами кинозрителей, создающий изображение. Уязвимость собственной плоти его уж не пугала: нечто, что он вмещал, шло по хвое, ласкаясь горным ультрафиолетом, и подлежало уничтожению, свертываясь со всем тем, что заключалось в клетках. Из эллипса, существование внутри которого детерминировало свои законы и представления, в частности, идею абсолюта, любимый вышел, создав себе другой, свой собственный, с другими законами, которые не подчинялись прежним.
Любящая его женщина была под покрывалом, на котором начертаны прежние верования старого эллипса: святые, Иисус, ангелы. Быть может, они ее охраняли настолько, насколько она сама того желала, но это было ее личное дело — лежать под покрывалом с головой, набитой образами. И он был в этом синклите, приподымая покров над глупышкой; но в целом их эллипсы не совпадали: она была в прежнем, пугливая трепетная лань, мечтающая о спасении в ужасах разбойного дома.
Идиоты-даунцы торчали по микрорайонам, в ступоре этих существ не таилась ли загадка нового мышления, неподвластного радиации, как акулий генокод? — думала женщина, выбираясь из-под покрывала, чтобы оставить на время религиозность и отчаянно удержать то, что в любимом иссякало, сохранялось лишь чуть, и что он уже откровенно презирал.
Наделив поглощающую его пустоту смыслом «поэтической активности», он перестал тревожиться, собратья-механизмы не заставляли томиться, как то делала с ним ранее природа. Любой из механизмов в принципе можно было разобрать, погладить, осязать, вновь собрать, разрушить, сотворить, будь тот даже из японских микросхем. Он помнил, что в какую-то свою бытность, из которой он выродился не без участия системы информационного воспитания вкупе с системой потребления, ибо потребление и стало творчеством масс, отчего постоянно активизировались, работали, развивались одни центры человеческих организмов в ущерб другим, глуша их бездействием, так что пуповина, связывающая с природой, питающаяся ее тайнами, отсохла, и он, не умея, не зная и не желая сопротивляться процессу, обнаружил себя однажды иным, владеющим орудиями ремесла, но имитатором, поддельность которого могли различить лишь редкие спецы, он помнил, что сила, заставлявшая его когда-то томиться и хвататься за все, что было под рукой, лишь бы как-то излить свое томление на окружающий его мир, отчего он постоянно чувствовал себя дилетантом, была не чем иным, как томительным желанием приласкать одуванчиковое желто-зеленое поле, кипень леса, серебро воды,— не в состоянии огладить это хотя бы потому, что длань его была мала, он брался ласкать жаром своей души.
Далее в иные сокровенные моменты видел он в природе неслучайное соединение стихий, а идею, которая одновременно и была творцом, и, проезжая мимо волнистых холмов и низин с озерами света, разделял его мысль, трепеща от той возможности, что открывалась в нем, кото-рой он тоже наделен был, которой мог принять соучастие наряду с этим, великим, и на которую, казалось, на счастье которой не хватило бы жизни.
Телесная малость была конвертом фокусника, из которого можно было вынуть письмо с безбрежным смыслом.
Он проезжал мимо пирога. И ни куска...
Позже он мог проследить, как образовалась в нем пустота, а вместе зависть к самобытованию природы и зависть ко всем тем, кто еще был сам по себе тоже.
Энергия и честолюбие, направленное на потребление благ, свили гнездышко в одной из долей мозга, забота о деньгах, а также их трата стали доставлять ему удовольствие привычки. (Свыше дается привычка, а не то, из чего она состоит. Выбор определяем мы сами.)
Как запойный алкоголик, впервые выявил он свою зацикленность на жизненной борьбе лет в тридцать, когда на отдыхе за городом обнаружил, что не хочет отдыхать, в отдыхе не нуждается, отдыхать ему, собственно говоря, не чем, ибо он превратился в механизм, забравшийся на определенный уровень, одолевший его, употребивший и, чтобы не пробуксовывать на месте, должный продолжать честолюбивое восхождение танка, чтобы затем, покрутившись дулом, сориентироваться, если же все мыслимые барьеры будут взяты, по шарику он будет разъезжать, как по собственному подворью, сосущая пустота подкрадется к сердцу, избегая ее, он станет меломаном, гурманом на старости лет, он, как никто иной, отдаст должное живописи и архитектуре, устрицам и кинзе, крахмальным воротничкам и бальным туфлям... целый оркестр заиграет единственно для него, в пустом зале ни одна пошлая дама не позволит себе махнуть веером, кашлянуть или заскрипеть креслом, ни одно пошлое сознание не станет диссонировать, впуская в зал скуку или свою замороченную музыкой тупость.
Не стоит забывать, что и музыканты — люди. Он бы устроил так — на зеленом ли лугу, в бело-кирпичном соборе? — что творцы единственно творили бы для собственного наслаждения, не чувствуя, что их покупают, они бы стали — друзья, или все же он, не доверяя их искренности, которую не купишь, смог бы быть невидимым среди них, вникая в стихию их творчества, чтобы они потеряли иммунитет к внешнему миру и остались бы только с ним, заразившись им так, чтобы без него не мочь.
Возможно, да-да, возможно, это будут последние творцы с той живостью организмов, с разметанностью волос, с брюхами и сопением, с чавканьем и суггестивностью, когда даже и не поймешь, чем, собственно говоря, мыслят, и почему, собственно говоря, они творят, последние из рас..ев. Эти человеческие бактерии перестанут производить по причине отсутствия среды, они протухнут, так как природа им нужна, как свежее молоко для квасцов. Они протухнут, протухнут!
Ему некому будет завидовать, умертвив собственную плоть. Он наконец-то станет спокоен, отправляясь на технологическую свалку, уверенный, что никто не избегнет общей участи.
Море крови и зверств нашего мира отменив за ненадобностью, построив собственный эллипс, гарантирующий сохранность прав, признав себя наслаждающимся механизмом и все делая для продолжения этого наслаждения, сведя природу к нулю, чтобы не раздражала спонтанной дикостью и алогизмами, томлением и любовью, он задаст себе вопрос: как можно быть счастливым, совершив преступления? Память человеческая есть память о преступлениях. Не простить себе — это и есть совесть, решит наш гордец.
Или это не с ним произойдут такие унизительные метаморфозы?
Или это я стану суперразумом о трех головах без тела с датчиком управления, магнитно вцепившимся в запястье, с проводками, проросшими в вены? Или это не так уж и не нехорошо. Или как
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
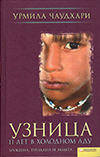
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





