ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Каплинская Елена 1983
Я ждала всего несколько минут: Женя вышел из темного зева, туннель вытолкнул вместе с ним очередной заряд пассажиров метро. Женя, окруженный ими, пытался вырваться из их медлительного шествия. Он рассчитал время с обычной точностью, оставив пятиминутный запас на то, чтобы перевести дух перед тем, как войти в приемную министра, собраться с силами и успокоиться, чтоб разговор вышел. Теперь эти необходимые минуты гибли за заслоном квадратных женщин в цветастых платьях, держащих в пухлых оттопыренных руках по нескольку авосек, за неумолимыми джинсами двухметровых молодых людей, за приземистыми мужичками в несвежих рубашках, передвигающими в пространстве чемоданы, груженные будто булыжниками.
Отсюда, издали, мне было видно, как Женя делает свои бессмысленные рокировки. А этого делать было не надо. Еще несколько шагов — и толпу унесет направо: к большим магазинам, к маячащему на холме Дзержинской площади «Детскому миру», и дальше откроется деловая улица, где можно будет ускорить на свободном тротуаре шаг.
Но Женя не обладал искусством терпения. Или выдержки — так мы предпочитаем говорить, избавляясь от старомодного жертвенного оттенка. Все-таки «выдерживать» — это как бы достойнее, чем «терпеть». За «выдержкой» все же мерещится некое вознаграждение в виде земных благ, а за «терпением» уже только бесконечность райских кущ. Женя не умел отдавать должное оттенкам слов, он валил напролом к сущности выражаемого ими факта.
Он кипятился: скажи, почему люди не спешат? Ведь это Москва, где квартиру получают в Беляево-Богородском, а работают на Измайловском шоссе, одна дорога — и то хороший кусок времени, а они идут нога за ногу! Никто их не ждет, что ли, ничто не тревожит, не влечет — так, чтобы бежать, торопиться по эскалатору, зигзагом огибать на тротуаре медленных стариков?! Я ему пыталась втолковать, что люди просто идут себе спокойненько и время у них на это спокойствие отведено. Может быть, это их час одиночества, единственный час для себя — на работе вертушка дел и неугомонное начальство (вроде тебя), а дома забалованные шумливые детишки, стиральная машина, жена. Куда торопиться?
И вот Женя идет, мечется в общем потоке, не видный никому, кроме меня. Он не высок и вовсе не располнел, нет, я напрасно остерегала его, когда он тянулся за лишним кусочком хлеба. Мне казалось, что привычка к машине, недостаток движения на воздухе уже делают свое черное дело и Женя плотнеет в талии, торс его наливается бронзой, а волосы двумя заливчиками отступают со лба назад, оставляя лишь хохолок, торчащий над бровями непокоренной высотой. Таким я видела Женю вблизи; но сейчас, издали, он показался мне и молодым, и стройным, и даже таким, на какого я была бы непрочь заглядеться.
Я спохватилась, что он уже приближается, и отодвинулась внутрь ребристой пластиковой беседки на троллейбусной остановке. Женя шел по тротуару, суженному кузовами тесно стоявших черных, коричневых или совсем белых «Волг».
День был жаркий, и шоферы, выйдя из машин, стояли группками возле подъезда министерства. Некоторые из них, увидя Женю, почтительно здоровались и провожали глазами. Знали...
Я не видела, к счастью, среди них нашего Степана Аркадьевича. Последнее время ни он сам, ни директорская машина не попадались Жене на глаза. Будто сквозь землю провалились. Женя даже забеспокоился, просил меня узнать, не болен ли, или не переведен куда Степан Аркадьевич «этим»...
Все стряслось неимоверно быстро. Вечером того дня, когда Женю выписали из больницы (под честное слово) «на домашний режим», он позвонил на завод Дюймовочке и распорядился прислать за ним машину утром, в обычное время. Пока я добежала из кухни к нему в комнату, дело уже было сделано.
Меня так и подмывало спросить моего мужа, а как оно там, на том свете? Но, должно быть, совершенно никак, раз Женя не догадывался, где побывал.
На следующее утро в привычный час он спустился вниз вместе с соседом. В лифте они сверили часы — это у них вроде игры. С тех пор как мы въехали в этот дом, двери наших квартир на лестничной площадке по утрам открывались одновременно, и два солидных мальчика с самым серьезным видом устраивали состязание в пунктуальности. (И вот целых полгода они лишены были такого удовольствия!)
Представляю, как обрадовался сосед, увидя Женю вновь на посту. Они сверили свои электронные хронометры, и день обрел должный разгон.
Наш сосед был генерал, за ним приходила темно-зеленая «Волга», ее обычно на полкорпуса обскакивал наш Степан Аркадьевич. Но в то утро генерал, козырнув на прощанье, удовлетворенно отбыл первым. Минута бежала за минутой, а Женя все стоял на ступеньках подъезда, начиная сердиться на разболтавшуюся дисциплину, нервничая и опасаясь, в конце концов, что случилось несчастье. Степан Аркадьевич, правда, был не молод и ездил осторожно, но кто теперь на дорогах зависит только от себя?
Степан Аркадьевич примчался с опозданием на четверть часа и такой красный, потный, взволнованный, как будто бежал пешком. Пряча глаза, объяснил:
— Марьяна Трифоновна никак не могла отпустить. «Он» велел держать машину...
Женя спокойно сел рядом со Степаном Аркадьевичем, приехал на завод, ворвался к «нему» в кабинет и закричал:
— Вы, кажется, забыли, кто здесь генеральный директор?! Или это ишачье «и. о.» вскружило вам голову?
«Он», то есть Ижорцев, вскочил бледнея. Вокруг стола сидели Рапортов, главный механик, секретарь парткома, кое-кто из начальников цехов — одним словом, совещание шло вовсю.
Это пока Женя стоял на крылечке и ждал машину. Действительно, комично...
Ижорцев, двигая стул, насилуя лицо улыбкой, пробормотал:
— Что вы, Евгений Фомич, успокойтесь ради бога. Это глупое недоразумение. Просто из райкома просили, им срочно понадобилась машина. Не оказалось под рукой ничего... кроме вашей. Поэтому я распорядился ее не отпускать. Больше такого не произойдет. Уверяю вас.
Женя вдруг увидел, что на него, как на диковинку, устремлены внимательные глаза его ближайших сотрудников. Они смотрели и с искренним беспокойством и в то же время с несколько холодным любопытством. Со странной смесью доверия и недоверия — как на дрессированного льва.
Женя повернулся и выскочил из кабинета. Его охватил страх, что он совершил что-то непоправимое. Что-то очень неправильное. Он прошел к себе и заперся. Через несколько минут зазвонил внутренний телефон. Ижорцев абсолютно спокойно и доброжелательно доложил, о чем совещались, о поступлении металла, о вчерашнем выводе кинескопов у Рапортова на «Колоре». Женя успокоился. Обруч страха, сдавивший сердце, отпустил.
На следующее утро машина не пришла вовсе. Женя метался: поднялся обратно в дом, дозвонился мне в лабораторию, и я, не подумав, побежала к Марьяне Трифоновне, секретарю дирекции, по заводскому прозванию Дюймовочка — за огромный рост и лошадиную внешность.
— Знаете что, — сказала она прохладно, — пусть лучше Евгений Фомич возьмет такси. Всеволод Леонтьевич уехал на директорской в Шереметьево встречать Яковлева. А его машина сегодня на профилактике.
Я не позволила себе заметить, что Жене об этом даже не сообщили. Женя не знал, что Яковлев уже возвращается из командировки в Америку.
Больше о машине не возникало и речи. Две недели Женя ездил на работу в такси, а потом мы почувствовали, что так нам не дотянуть и до зарплаты. Женя начал выходить утречком пораньше и добирался вместе со мной на метро... А там еще полторы троллейбусных остановки до завода шел пешком — чтобы рабочие, завидев его рядом с собой в троллейбусе, не подумали, будто это какая-то «демонстрация» генерального директора. Всем было известно, что он еще на «бюллетене». Никто и не догадывался, что у Жени просто-напросто отобрали машину.
Ижорцев каждый день звонил или являлся с докладом в кабинет к Жене, информировал о текущих делах, сообщал цифры. И вообще вел себя безукоризненно. Вежливо, внимательно, серьезно. Упрекнуть «и. о.» было не в чем. Хотя получалось, что Женя вроде бы вышел на работу и вроде бы как еще не вышел.
Вот так сложилась ситуация — ласково и круто. Женя оказался в таких условиях, что не мог ни с кем об этом поговорить. Яковлева последнее время встречал только при людных оказиях, когда Владимир Николаевич, проведя совещание, куда-то спешил. Однажды Женя позвонил ему в министерство. Яковлев разговаривал очень доброжелательно, но тем не менее не проскользнуло ни одной фразы, после которой можно было бы хоть чуть-чуть расслабиться и коснуться того, что волновало, без чего нельзя было вернуться в прежнюю колею. Жене выразили лишь удовлетворение от наконец-то хорошо идущих на «Колоре» дел, пожелали окончательной поправки здоровья и положили трубку. А эти хорошо идущие заводские дела невидимая рука направляла все круче и круче мимо Жени.
Дамоклов меч не просто висел на нитке. Эту нитку постоянно точил и подтачивал невидимый, ласковый и улыбчивый некто. Я понимала — остались уже последние волокна, последние ворсинки. «Домашний режим» кончался.
Вчера вечером Женя решился. Ушел в спальню, прикрыл поплотнее двери. Застрекотал второй аппарат: Женя набирал номер. До меня долетел лишь неожиданный всплеск его голоса:
— Я предпочитаю напрямую, Владимир Николаевич! Что за улыбки, что за шуршанье за спиной!
Потом вернулся, сел рядом со мной; бессмысленно и взволнованно посмотрел в телевизор: на экране — «смычку волшебному послушна» — вертелась балерина, пробормотал:
— Какое изящество... А я — в шкуре, с топором, и хочу к министру.
Через полчаса позвонил заведующий канцелярией, извинился за то, что побеспокоил в такое позднее время, и просил Женю на следующий день приехать в министерство к десяти утра. Вот так все вышло.
Из полупрозрачного коробка троллейбусной остановки я видела, как Женя поднялся по гранитным ступеням, отворил тяжелую коричневую дверь, похожую на гигантскую плитку шоколада, и вошел внутрь.
Но я слегка поспешила. Я сразу увидела, что он еще не исчез в лифте, а стоит в вестибюле, прислонясь к одной из колонн, и платком вытирает лоб. Женя всегда заботился о том, чтобы выглядеть «с иголочки». Раньше это давалось ему само собой, но теперь, после катастрофы, требовало усилий. Мне пришлось быстро спрятаться за книжный киоск — сейчас не надо, чтобы он меня заметил.
Киоск работал — под ледяным неоновым колпаком лежали помертвевшие в красках иллюстрированные журналы. Обманчиво кокетливые целлофановые обложки технических изданий привлекали как детективы. У киоска толпились несколько человек в плотных серых, «руководящих», костюмах, невзирая на жару.
— Глянь-ка, — сказал кто-то возле меня. — Никак Ермашов! Выкарабкался?
Почти все оглянулись.
— И как огурчик. Где его так гальванизировали, в Пицунде небось?
— А что там было, инфаркт?
— Да, говорят, милый, совсем наоборот.
— В смысле? — отозвался без интереса кто-то листавший рядом со мной журнал. — Сходил в атаку на плюшевых с ушами?
— Ох-хо-хо, — вздохнул плотный мужчина с добродушным лицом. — Вот все мы норовим жить на износ. Как сядем в директорское, так заводим: а я освою! А я дам! А мне знамя! А мне место! И уж он тебе на трибуне. И он тебе в газете. А человек-то хрупок.
С другого конца прилавка отозвался миловидный парень с бачками:
— Уж извините, я вашему Ермашову не сочувствую. Вот прохиндей хороший! Меня только директором назначили, два месяца всего, и горит у нас план со страшной силой. Что делать? Звоню Яковлеву, отцу нашему. А Владимир Николаевич мне: свяжись немедленно с Ермашовым, он тебе три миллиона подкинет. Я, конечно, тут же трезвоню, а ихняя секретарша отвечает: нет его и неизвестно, когда будет. Я опять к Владимиру Николаевичу; так и так, мол, нету спасителя... Он удивился, приказал: жди у трубки. И слышу я, понимаете, как соединяется с Ермашовым по прямому. А тот сидит у себя в кабинете! Ах, говорит, я обедал, поэтому трубочку не брал... Это ему неудобно было замминистра отказать, так он решил от меня отвертеться. Проволынить. А когда его Владимир Николаевич прямо к стенке припер, пришлось личико открыть. Не дам, говорит, ни копейки. И не дал.
— И правильно сделал, — кивнул плотный.— А то привыкли, понимаешь, к палочке-выручалочке. К благополучной картине. Все сделали, все перевыполнили. На бумаге. Себя же обманываем в конечном счете этими «товарищескими» выручками. Я за реальную картину. Молодец Ермашов. Жаль, если...
У меня загудело в ушах, будто я окунулась в соленое море. И ноги стали на свинцовых подметках, как у водолаза. Там, под водой, плавала сизая неоновая трубка над киоском, своим безжизненным светом колебля и искажая лица собеседников.
Кто он, эти люди, я никогда раньше их не видела! А они хорошо знали моего мужа, владели им как принадлежностью своего круга, распоряжались его здоровьем, его поступками!
Я взглянула туда, где он стоял. Но Жени уже там не было.
Молодой человек с бачками, облокотившись о прилавок мило болтал с пожилой киоскершей.
Мне хотелось спросить его: кто ему дал, в конце концов, те три миллиона? Как молодому и начинающему. И какая премия выпала им как выполнившим план? Например, ему лично?
А вот «прохиндей» таким образом никогда плана не выполнял. Таким ласковым зверьком к Яковлеву не подкатывался. Он звонил и орал, требовал и ругался, писал докладные министру, стремительный в своей остервенелости, и с тяжким трудом выдавливал наконец из завода продукцию — единственный вещественный результат, из которого складывался план.
Три миллиона... Да ты знаешь, мальчик, во что они прохиндею-то обошлись?
Он не знал. Он улыбался, и киоскерша раскладывала перед ним книжные новинки. Какой незлой, плюшевый. Современный.
...Совсем недавно, совсем недавно у Жени было такое же молодое лицо. Впрочем, нет. Не такое же. Без розовости. Без бачек. Без плюшевой улыбки. У Жени было злое лицо.
Я вспомнила, как увидела Женю впервые.
У дверей деканата. Мы шли с подружкой, рассуждали о Яковлеве. Володя Яковлев только что защитил диплом, распределился на завод. Мы размышляли, кто сможет из институтских стать секретарем комитета комсомола вместо него? И как мы вообще будем существовать без Яковлева? Весь первый курс мы с подружкой были в него влюблены. А он, по всей видимости, не догадывался о нашем существовании. Мы его поджидали по вечерам в переулке, прячась за воротами института. Он выходил со своей однокурсницей, строгой красавицей с лунными глазами и косой в руку толщиной. Коса гулко колотилась от ветра у нее на спине, упругая, как собачий хвост. На голове она носила меховую шапочку, повязанную поверху белым кружевным оренбургским платком. Незнакомка, ни дать ни взять. Мы ее ненавидели, и в подражание ей носили кружевные воротнички.
Яковлев вел ее под руку и вообще заметно млел. Мы крались в отдалении и сгорали от ревности. Весной Яковлев с «незнакомкой», кажется, поженились. А нас благополучно перевели на второй курс. И мы с подружкой унывали, что нам больше некого подкарауливать у ворот, идти следом и страдать. Правда, за лето мы повзрослели и к началу второго курса уже скинули школьные манеры, но все же девчачья наша дружба нуждалась в какой-то подкормке. Нам нужен был новый объект внимания. Тут мы и увидели впервые Ермашова. Женя стоял у дверей деканата, нахохленный и злой. Мы подошли к доске, чтобы списать программу занятий. Конечно же, просто на парня, торчащего в коридоре, мы и внимания не обратили бы, если б из деканата не вышел в тот миг сам директор института и не сказал ему сердито:
— Напрасно вы все это затеяли, Ермашов. Не хотите учиться, можете забрать свои документы.
Он повернулся и пошел в противоположную сторону. Там была еще одна лестница, по которой директор мог подняться на свой этаж, но надо было сделать солидный круг по зданию. Директор удалялся, раскаленно печатая шаг, а Женя стоял нелепо, как проволочное заграждение на месте несостоявшейся атаки. Такой же ощетинившийся и ненужный.
Тут моя подружка сочла нужным вмешаться.
— Эй, Ермашов, — сказала она небрежно. — А чем тебе не вышел наш силикатный? У нас мальчиков не хватает.
Женя оторвал от удаляющейся спины директора белые глаза. И посмотрел мимо нас. У меня даже мурашки побежали по животу. Такой это был взгляд, совсем с другого берега, из какой-то темной дали, из очень суровой и сложной взрослой жизни. У моего отца была такая жизнь, а меня еще от нее оберегали. Мне вообще туда не надо было.
В ту пугающую даль слова подружки не проникли.
Женя попросту нас не заметил. Рванул дверь и вошел в деканат. Мы долго подглядывали в щелку: там он сидел за обкорябанным пыльным столом и что-то писал. А секретарша Раечка испуганно читала на подоконнике книжку.
— Урод, — наконец, разглядев Ермашова таким образом с тщательностью, решила моя подружка. — Такой подползет, знаешь, и тебя, как удав... и не пикнешь!
Она вздрогнула всем телом.
Я тоже это чувствовала. Что не пикнешь. Но на всякий случай пожалела Ермашова:
— Зато серьезный. Вот он бы мог вместо Яковлева...
Сама не знаю, почему это сорвалось. Подружка вытаращила глаза:
— В каком смысле?
— Ну... секретарем комитета комсомола.
— Дура ты, дура, — подружка снисходительно рассмеялась.
Но все же еще раз поглядела в щелку. И небрежно отметила:
— Чур этот Ермашов — мой. Такие уроды — самые страстные.
Я покраснела.
— Ты чего? — удивилась подружка.
— Откуда ты знаешь? И вовсе он не урод.
— Ну, моя милая, ты приглядись: пальцы толстые. И уши. И нос.
— Господи, да пожалуйста. Бери его себе.
Подружка поправила кок на затылке.
— Oй, ну и пионерочка ты еще. С кем вожусь...
Я действительно почувствовала, что подружка в чем-то меня опередила.
Целых два месяца мы ничего больше не слышали о Ермашове. Он числился в списках нашей группы, но на занятия не являлся. Однако подружка не забывала о нем. Она даже сбегала на физхим, поинтересовалась, не ходит ли он на занятия со своим прежним курсом. На физхиме, ведущем институтском факультете, учились, как определила подружка, одни зазнайки и отличники. Считалось, что у физхимиков привилегированное положение. Девушек туда почти не принимали, и держались физхимики так, будто собрались не сегодня-завтра слегка перевернуть мир с помощью какой-нибудь новой теории частиц.
Уж конечно, Ермашову никакого резона не было переходить на наш простенький силикатный факультет, даже во имя высших целей подготовки специалистов нужного для народного хозяйства профиля. Поэтому подружка, опасаясь, что «удав» останется все же на своем великолепном физхиме и ей не видать Ермашова вблизи, энергично принялась за выяснение обстоятельств его отсутствия. Но и физхимовские иронические мальчики, пожав плечами, изволили припомнить, что Ермашова давно, кажется, не видать, и неизвестно, куда он делся.
Подружке оставалось, видимо, только примириться с его исчезновением. Ее разочарование дало всплеск последней идее: взять в деканате адрес Ермашова и съездить к нему домой. Как бы вроде по поручению старосты курса. В смысле борьбы за дисциплину и так далее.
Меня, естественно, она прихватила в деканат с собой как «представителя от группы». Декан, выслушав нас, стал недовольно перебрасывать на столе бумаги.
— Здесь не школа, а институт. За ручку водить никого не будем. Высшее образование вовсе не для каждого обязательно. Хочет Ермашов учиться или нет — его личное дело.
А затем декан велел секретарше Раечке проверить кстати как у нас-то самих с подружкой идут дела по части лабораторных занятий, раз уж мы такие ретивые. Мыть колбы никому не доставляло радости, и мы быстренько смотали удочки, не дожидаясь результатов проверки.
— Это конец, — сказала подружка в коридоре. — Значит, его отчислят за непосещаемость. Два месяца прошло, и привет.
И тут меня осенила догадка: от Ермашова просто решили избавиться! Это ясно. К нему неумолимы, неуступчивы, но почему? Если он в чем-то виноват — то почему не наказывают за вину, не говорят о ней открыто, в глаза? А если вины нет, то почему его считают непригодным к выбранной профессии, отвергают, корят всяческими словами, будто он надоедливый тупица, и притом им занимаются самые важные в институте люди? Сам директор даже?
Чем Ермашов так неприемлем для них, именно он, хороший и успевающий студент, среди целой массы лодырей и тупиц, которых действительно следовало бы отчислить? Но их никто не трогает, а навалились на Ермашова.
Вот он кричал о несправедливости; от бессилия кричал, как нехорошо-то...
Что-то пошатнулось во мне: заскрипел теплый мир недавних школьных премудростей, суливших уверенность в честности, добросовестности, в надежной броне порядочности и трудолюбия. Нас не учили хлопотать о себе; достаточно лишь любить свою Родину, быть готовым на высокие подвиги и самоотверженность, а остальное придет само, говорили нам, потому что страна идет своим надежным путем и не жалея сил строит счастливое будущее для нас, а мы, дети, — цветы жизни.
… Куда девались все цветы? — пелось потом в послевоенной популярной песне. — А их сорвали девушки и отдали парням, уходящим на войну. А куда девались все парни? Они не вернулись. И на земле не осталось больше цветов.
Мы стали девушками и парнями уже после войны. Нашим цветам не грозило исчезновение. Ермашов мог бы спокойно учиться на своем физхиме. Так что же мешало ему, какая сила, не вплетавшаяся в ясную, четкую систему отношений «человек — общество»? Я поняла, что Ермашову нет спасения и участь его решена. Тут не было никакого выхода. Невозможно было различить, что происходит, какие-то потемки, в которых, раз уж эта сила существует, могли столкнуться с ее тупой угрюмостью не только Ермашов, но и я, и каждый мой сверстник... Мне стало страшно, и я заплакала. До утра первый раз в жизни не шел ко мне сон, и я исходила в печали, жалея Ермашова и немножко себя, и подушка уже хлюпала у меня под ушами...
Но на следующее утро я увидела в нашей аудитории, за первым столом, стоявшим впритык к лекторскому, подтянутого, со строго выпрямленной спиной, незнакомого парня. Он сидел лицом к лицу с преподавателем, а этой прямой спиной ко всему остальному потоку.
— Ермашов, — ахнула торжествующе подружка. Уж она-то узнала его сразу.
А мне сделалось отчего-то невыносимо совестно. Я поняла, что вижу побежденного Ермашова. Согнутого кем-то в бараний рог. Потому такая прямая спина и так тщательно расчесаны странные волосы: спереди надо лбом очень светлые, почти золотистые, а на затылке у шеи совсем темные, тусклые. Я не знала, кто и зачем его убедил; но то, что эти два месяца он провел в жестокой, неравной схватке, в бешеном сопротивлении, в отчаянном споре с судьбой, было несомненно. Его убедили, заставили согласиться и придти на эту первую скамью, где он, чужой всем и нежеланный, так одинок.
Подружка ликовала.
— Теперь он мой. Только взгляни, Лизка, какой урод! Убиться можно. Даже дух захватывает.
Ермашов с нами не общался. В перерывах уходил к своим физхимовцам. На ноябрьские праздники, когда подружка сбивала компанию и наладилась содрать с него десятку «на общий стол», он отказался принять участие. На Новый год заявил, что уезжает к родственникам в деревню. Это был абсолютно явный треп.
Нет, к нему никак было ни подойти, ни подъехать, напрасно подружка «вертелась, как пластинка». У подружки был влиятельный папа. И вот ей сшили в первоклассном ателье умопомрачительную бордовую шубу с чернобуркой вокруг шеи, купили броские, входившие в моду «венгерки», невысокие сапожки, отороченные мехом. И даже на пальце у нее появилось золотое колечко — совсем уж редкая смелость для студентки тех времен. Подружка не мелочилась. Даже начала губы красить. И мальчики с физхима, не откуда-нибудь, случалось, заглядывали к нам, чтобы кинуть ей: «Привет!»
Но Ермашов был неодолим. Мы с подружкой и не подозревали, что в эту крепость был совершенно простой и незамысловатый ход. И то, что так долго не давалось подружке, очень просто сделала наша замухрышка Федорова.
Та вообще ничего не соображала, носила перекрученные чулки «в резиночку» и красную кофточку с заштопанными локтями, боялась семинаров и зачетов, с трудом перебралась на второй курс с двумя хвостами, которые никак не решалась пересдать, лишилась стипендии и, раскокав вдобавок в лаборатории ценный дефлегматор, сидела и пила валерьянку прямо из пузырька, гудя о грозящем ей отчислении. Ермашов наклонился, тронул ее за плечо, велел идти за ним, подвел к приборам, показал, как стоять, как брать, как держать и что делать, чтобы реакция пошла, а потом заставил записать результаты в лабораторный журнал. Он возился с нашей замухрышкой, пока она не стала похожа на человека. К весне Федорова окрепла, сносно отвалила сессию и до того осмелела, что говорила басом: «Женька, ты жуть какой умный, тебе надо в академики».
Сам Ермашов сдал сессию блестяще. Его курсовая работа была напечатана в «Ученых записках» института. Никто бы не смог сказать, что этот самоуверенный студент занимался делом, к которому его принудили силой, против воли, сломив его полное отчаянья сопротивление. И мне стало казаться, что той ночью я немножко придумала Ермашова... да и вообще все насчет схемы жизни, ее неправильностей и прочих неуютных разностей.
Подружка сменила стиль: натянула старое школьное платье и влезла в туфли без каблуков. Провалила зачет по политэкономии. Два раза пила валерьянку при Ермашове. Но не смогла попасть в его поле зрения. Метод Федоровой оказался не универсальным.
И вот однажды, дело было уже к весне, мы шли с подружкой в лабораторию по узкому полуподвальному коридору. Коридор был вдобавок загорожен нераспакованными ящиками с песком, содой и известью, занимавшими половину пространства. В этой тесноте мы с нею шли рядом и почти касались плечами стен.
Сзади нас послышались чьи-то гулкие шаги. Шаги быстро догоняли нас, торопили. Я подумала, что мы загораживаем дорогу, и хотела было посторониться, но подружка цепко впилась в мою руку, не давая обернуться: «Тс-сс. Мы не слышим!»
Это он приближался, Ермашов, и подружка напружинилась, раздалась вширь, незаметно оттопыривая локти, чтобы не дать ему пройти, ожидая соприкосновения.
Ермашов был уже совсем близко, я внезапно почувствовала его дыхание сзади на моей шее, услышала голос:
— Можно вас обогнать, девушки?
Подружка засияла, начала медленно к нему клониться, но в это мгновение он быстро взял меня сзади за талию и очень ловко отодвинул к подружке, а сам протиснулся между мною и стеной.
На одну секунду его железная грудь прижалась ко мне, пальцы крепко охватили бока, и огненная колючая щека чиркнула как кресало о мой висок. Даже искра выскочила из глаз. Лохматый моток золотых нитей — от меня к нему. Бабахнул — и сник.
Миновав нас и выпустив меня из рук, Ермашов вдруг приостановился, поглядел мне в глаза внимательно, кивнул без слов и стремительно зашагал дальше. Через секунду остался только звук его затихающих шагов.
— Ты что, тупая?— спросила подружка.— Что ты суешься? Тебя просили?!
Я молчала ошеломленно.
— Я ее дергаю, чтоб посторонилась! Нет, растопырилась как гиппопотамша.
«Нашей дружбе конец»,— подумала я.
...Гудение лифтов насторожило меня, лифт приближался, спускался. Вахтерша сидела на табурете возле ступенек в холле и проглядывала газету.
Лифт опустился, мягко раздвинулись голубые дверцы. В глубине, увеличенной зеркалом, я увидела Женю. Он спокойно стоял, розовый на вид и благополучный. Рядом с ним я не сразу заметила Рапортова. Они сошли по ступенькам в вестибюль и направились ко мне.
— Добрый день, Елизавета Александровна.
Рапортов наклонился к моей руке, легкое пожатие говорило: «Все в порядке, голубушка, не надо волноваться».
— Мы идем обедать,— сообщил Женя.— Хочешь в «Славянский базар»?
— Нет, я хочу в «Гранд-отель».
— Ты всегда хочешь того, чего уже нет.
— Я бы тоже не прочь взглянуть еще раз на исчезнувшую красоту,— улыбнулся Рапортов.— А какие там были бронзовые светильники. Зеркала во всю стену, белая с золотом лестница... До революции это что, ресторан Тестова, кажется?
— Раскопки покажут, — сострил Жена. Он не был пошляком, и пошлые шутки ему не шли.
— Ни черта не покажут. Мы умеем сносить чисто. «На этом месте был дом, в котором родился Пушкин». История не сохраняет фамилии сказавшего «Рухлядь».
Мы пошли в «Метрополь».
В «Метрополе» пока все оставалось на местах: и врубелевские витражи в стеклянном куполе высоченного потолка, и мраморный фонтан, и кожаные диванчики в уютных нишах под зеркалами.
Здесь мы с Женей когда-то прогуливали свою молодость. Молодость промелькнула, «Метрополь» остался. И это было очень мило с его стороны.
Рапортов нас усадил на диванчик, а сам расположился на стуле. Солнечный день сюда доходил приглушенным.
— Давайте будем есть кислые щи, — предложил Рапортов, — а то дома у моих женщин нипочем не допросишься. Забыли, как делаются.
— И мы не держим, — улыбнулся официант. — Солянка подойдет?
Ему понравился Рапортов. У Рапортова была внешность располагающе приятная. Он не суетился. Боясь, что ему в чем-то откажут. И он не просил лишнего.
Это, конечно, счастливое совпадение, что Рапортов сейчас оказался рядом, просто перст судьбы. Я и без слов уже знала, что мое предчувствие сбылось. И если обошлось без санитаров, «скорой помощи» и всего прочего — то только потому, что судьба подослала нам Рапортова. Хоть в этом оказалась снисходительной.
— Нет, это чудо, — вырвалось у меня. — Как вы оказались в министерстве?
Жена вскинул брови.
— Никакого чуда. Я утром позвонил, что мне назначено, и Гена тут же подъехал.
Рапортов пожал плечами.
— Ну, не совсем так. У меня тоже нашелся предлог.
— Ах, да, Лиза,— сказал Женя.— Вот он сидит и хочет щей, а отныне он первый заместитель генерального директора объединения.
Вот оно. Первым замом был Ижорцев, ему полагалось по должности, как главному инженеру. И если Ижорцев уступает, значит...
— Не путайте меня,— сказала я. — Что надо делать, поздравлять или сочувствовать? И кто теперь вместо Гены станет директором «Колора»?
— Гена, конечно, — засмеялся Женя.
— «Фигаро здесь, Фигаро там», — объяснил Рапортов. — И все за ту же зарплату.
— А кто убил пересмешника? — спросила я.
— Никто. Пересмешник теперь генеральный директор.
Женя привалился ко мне плечом и вдруг сделался какой-то сонный-сонный. Я испуганно посмотрела на Рапортова. В его глазах таилось железное напряжение. Мы многое знаем заранее и успеваем внутренне подготовиться к факту. В наше время перемены готовятся так долго и основательно, что почти не бывает чудес. И все же на одно опасное мгновение какая-то точка непременно вздрагивает в нас. Человек есть человек. И у него там внутри имеется ненадежное, нежелезное что-то, что обладает способностью ёкать. А то бы все обходилось без синего мерцающего сигнала и распуганных сиреной «скорой помощи» прохожих.
— Вот видите, я помаленьку лезу в гору,— сказал милый Рапортов. — Если верить теории спирали.
— Я не верю,— отозвался Женя. Он все еще опирался о меня плечом. — Есть только два типа людей. Одни — в ладах с жизнью, другие — с ней не в ладах.
— Тип человека — категория постоянная, а ладить с жизнью — временная. Дело в жизни, а не в человеке. Пошел такой виток — везет одному типу, пошел другой — везет иному. Соответствующему.
— Утешительно, — пробормотал Женя. — Сиди и жди своего витка. Но неправда. Есть тип человека, которому не сидится на витке. Потому что он с гаечным ключом. И все время что-то подкручивает в этом самом витке.
Официант, которому понравился Рапортов, принес нам вазочку клубники.
— Последнюю порцию схватил в буфете, — пояснил он.
Милый мальчик старался загладить недостаток щей.
— И как это буфетчица отдала? — восхитился Рапортов.— Самой, небось, надо.
Официант радостно развел ладошками, показывая, как трудно приходится буфетчице. Но исполняет. Служебный долг.
Женя встал.
— Извини, — он нажал на мою ладонь, показывая, что хочет отойти от стола. —Я сейчас.
Мы остались с Геннадием Павловичем вдвоем.
— Приказ был подготовлен уже месяц назад,— зашептал он.— Но просто опасались, что...
— Да, да! Я тоже боялась этого разговора с министром. Женя еще не здоров... Но...
Переломленный в полумраке зеркалом, мелькнул взгляд Рапортова.
— Министр его не принял.
Тихий разговор в полупустом дневном ресторане, звяканье ножей, откуда-то доносится рокот кофемолки...
— Это можно понять, — Рапортов слегка двигал прибор по скатерти, поправлял нож, вилку, ложку, ровнял тарелки, одну к другой. — Уже годы, уже свое напряжение. А тут такое с человеком... несчастье. Разговор был бы тяжким. Для них обоих.
— Да, да. Ладно. А кто?
— Губенко.
Значит, даже не Яковлев. И ему было бы тяжко. Что ж, каждому свойственно поберечься. Начальник Главка Губенко — тот может на некоторые «почему» ответить: «Я не в курсе». И конец неловким объяснениям. Все правильно. Поэтому обошлось без синего сигнала. Мудрый выход.
— Выход мудрый. Но немножко обидный.
— Елизавета Александровна, вы Женю поберегите. У вас скорбная складочка у губ.
— Конечно, конечно. Сейчас. Вот у меня помада... «Макс Фактор». Ну как, хорошо? Голливудская фирма. Кип смайл.
Ижорцев отобрал у Жени машину ровно месяц назад. Точно тогда. Удивительно. И безвыходно. И неловко. И как все это... нехорошо.
— Елизавета Александровна. Поберегите его. — Лицо Рапортова, доброе и заботливое, расплывалось передо мной в пелене слез. Я глядела в зеркало, орудуя этим «Максом Фактором». Потом его не отмоешь. Целую неделю. Кип смайл!
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
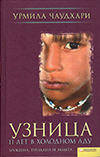
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





