ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:
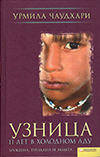
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Алексеева Адель 1986
Поезд Москва — Новосибирск еще только тронулся, почти неслышно отошел от перрона, замелькали чугунные столбы Ярославского вокзала, а тонконогая девушка Вера в вельветовых брючках, длинноволосая, красивая, как все современные девушки, уже расстелила постель и легла, отвернувшись к стенке. Она никого не хочет видеть, только бы остаться одной! На перроне стоял провожавший ее мужчина, но она не смотрела в окно. Она должна уехать, должна! Сколько могут еще тянуться эти неопределенные отношения? Андрюша Заев — кто он? муж, не муж?.. Просто сослуживцы, и нельзя кому-нибудь показать, что их связывает что-то большее, чем учительская... Сколько можно все это скрывать? Тридцать лет стукнуло — а она ждет, ждет... Нет! Сказала ему сегодня: или — или.
Поехала к бабушке, вернее, к тете Шуре, сестре родной бабушки, на все лето взяла книги, вязанье — и... Ночь в поезде, а там — кривая заросшая улочка, колодец, блеянье козы и вообще особый мир — тетя Шура!
...Тете Шуре уже за семьдесят, но в теле ее ни грамма лишнего веса, в душе ни капли лени или желания понежиться, пожалеть себя. При ней и другим лениться стыдно. С раннего утра до темного вечера она на ногах: из чистой горницы в холодную избу, где стоит керогаз, из чулана в погреб, из избы в сарай, где лежат дрова, и в подклеть, а оттуда раздается ее голос:.
— Ох вы, глупые девки! — это она курам.— Голодненькие! Куда суетесь-то? Зачем петуха пустили? Кыш тебе, кыш!
Курочки у нее беленькие, будто из алебастра, а петух — не петух, а попугай.
Как только тетя Шура замечает на ближних подступах к своим беляночкам кота Митьку, опять раздается ее монолог:
— Ох, Митька! Ох, лешак, ты только посмей подойти к моим курам, ну сделаю я тебе судьбу! Кто воробышка вчера схрумкал? Кто, я спрашиваю?
Митьке два месяца от роду — это серый, полосатый игривый кот, с короткой шерстью, с хвостом прямым как палка. Он ухитрялся играть с пузырьками от лекарств, с бабушкиными тапками, залезал на полати, где лежали приготовленные для растопки щепки, сучья, бумага, и сбрасывал их оттуда. Тетя Шура покрикивала на него сердито, но он знал, что ему все простится, и, если рано утром, еще до света, прыгнет в постель, хозяйка его не прогонит.
Давно уже тетя Шура одна жила в своем маленьком старом доме. Дочери звали ее в Москву, но она не ехала. «Всю жизнь хозяйкой была, поодинке живу уже лет двадцать, дак што это я теперь-то в поводок пойду. Нет уж... Дом у меня лесной, духовитый, зачем я буду в каменюке жить?»
Дом этот когда-то срубил ее муж. Из белых тесовых бревен. Потом они стали желтыми, серыми, а теперь чуть ли не черные. «Однако запах и легкость в воздухе есть. Я, может, и дышу вместе с ними — из космоса воздух ко мне через стены проникает. Вот как», — говорит тетя Шура.
На некрасивом, но живом и внимательном ее лице всегда настороже глаза — темно-карие, еще не выцветшие, с каким-то колючим блеском в глубине. Карие глаза в этих местах — большая редкость, в детстве ее за это даже называли порченой.
Фамилия у нее — Смертина. Когда ушла на пенсию, после того как тридцать лет проработала в начальной школе, тетя Шура разыскала дальнего родственника и выяснила, что родом их предки из Москвы. Будто на пожаре в 1812 году расстреляли родителей мальчика, а костромской управляющий взял его к себе, привез сюда, и фамилию дали ему — из-за погибших родителей — Смертин. Она то и дело поминает эту свою породу, смертинскую.
— Меня ежели враг на землю столкнет — я все равно в лицо ему плюну...— а то шутила: — Сказывают, негр к нам приехал, девицу взял замуж, а еще финн — на комбинате, они у нас работают — один гуляет с детсадовской поварихой Машкой. Надо и мне какого-нибудь генерала заграничного найти, — смеется тетя Шура. — Да нос-то у меня больно велик, мешает смертинский нос. Ох, кабы не нос!.. Ты не смотри, что я теперь смирная, я была-то — у-у!
— Это ты-то смирная? — улыбается Вера.— Что-то я этого не замечала. С родной дочерью поссорилась, на свадьбу к сыну ее не поехала, а?
— Это к Тольке-то? Да как я к нему поеду, если тут, в поселке, у него Полина была, я ее знаю, мать ее знаю, а он на другой женился! Взял себе птичку из Курской области, бесстыдник этакий. Полина девушка ладная, скромная, теперь на «Трикотажнице» работает, уж небось получше курской-то.
— А ты видела курскую?
— Не видывала и видеть не хочу. Я с дочерью из-за этого не переписываюсь.
— Тетя Шура, ну какое же ты имеешь право вмешиваться в чужую жизнь? — нервничает Вера.— Каждый живет по своим законам.
— А я и не вмешиваюсь, — отрезала тетя Шура и пошла греметь ухватами, лопатами, сковородками.
...Уже несколько дней жила здесь Вера, и всякий день тетя Шура пекла пироги и шаньги, варила, готовила, делала «колоба» (так она называла блины), приносила ягоды, доставала даже мясо. Уж очень несчастной казалась ей внучка. Из секретного письма от Вериной матери тетя Шура узнала, что у Верочки, по слухам, в школе роман с учителем физкультуры, а у того жена и маленький ребенок. Верочка ходила по дому с постоянной, как на фотографии, искусственной улыбкой, глаза рассеянные, сама какая-то квелая. А уж худа!.. И все что-то вяжет, нервничает.
Тетя Шура раз вошла в Верину комнатку, увидела книжку в белом переплете. На первой странице было написано: «Вере — с верой». Открыла страницу, где лежала закладка, и там прочитала такие стихи:
Стоят два дерева года,
Но друг от друга в отдаленье.
Соединяет на мгновенье
Их только ветер иногда.
Деревья будто незнакомы,
Но под землей, в кромешной мгле,
В тугой клубок сплелись их корни,
Невидимые на земле.
«Ай-яй-яй, — тетя Шура сокрушенно вздохнула. — Значит, корни-то вместе, в темноте, а ветки отдельно. Да, съедят ее эти мысли, как гусеницы капусту».
И решила: нельзя оставлять внучку наедине с такими мыслями. Надо отвлекать ее — делами да разговорами. И стала днем делами ее нагружать, а вечерами рассказывать разные истории из своей жизни — на это она была большая мастерица.
— Я тебе не сказывала, как мне орден давали?.. В сорок пятом году говорят: мол, езжай в Вологду, за орденом. А я говорю: да мне и надеть-то нечего, как в область ехать в таких-то валенках? Испугалась — ой, и орденов не надо!.. Ну, Миронова дала свое платье, а валенки ее не подошли. Надела я свои, да они разные, один подшитый, другой нет. Однако отправили в Вологду. Приехала, а там зал, а там оркестр. И на сцену надо подниматься. Говорю своей соседке из нашего района: мол, не пойду, ни за что не пойду, валенки-то разные. Чуть не плачу, а она: ты что, опозоришь на всю область, иди!.. И не помню, как дошла, как получила... Так-то, Верушка. — Веселые колючки так и прыгали в карих глазах тети Шуры. — Вот ты говоришь, у тебя школа особенная — и бассейн есть, и музыке учат, а у нас даже физкультурного зала не было; придут, бывало, ребятишки за пять-шесть километров, сядут возле печки, чуть отогреются — и глаза у них закрываются...
Вера оторвалась от вязанья, подобрала под себя ноги на диване, свернулась калачиком. Перевела задумчивый взгляд на Александру Семеновну:
— Ты бы про любовь рассказала, а? Как замуж вышла?.. — Вера упорно думала о своем.
— Как? Да обыкновенно. Есть стало нечего, вот и вышла.
— Без всякой любви? Из-за денег?
— А денег у него тоже не было, однако хозяйство было. Корова... Тот год за работу я получила мешок ржи да мешок овса. Ей-богу, правда! А как на это проживешь? Вот и пошла за своего... ирода. Взял он меня, сразу обрюхатил, посадил в доме с коровой. Да два деверя с меня глаз не спускали, а сам в армию укатил. Ох и намучилась я!.. Приехал из армии, а там уже себе другую завел. Я-то с ребенком. Так и пошло. И пил, и гулял, и уезжал — все было. А я родила трех девок. Вот тебе и любовь. Зато работала... Что было мочушки. Ценить меня стали в районе, на доску Почета вешали, а он злился — бросай, говорит, работу. Ну нет, думаю, от тебя терпеть да еще не работать. С утра раннего до ночи на работе, дом на себе везу, да и муж стал покорный...
— Ну а потом? Ты же второй раз замуж вышла? — спросила Вера.
— С первым отмучилась, ни любви, ни ласки не знала, помер от белой горячки. Да. А потом, уже после войны, один старый вдовец ко мне посватался. Не так чтобы он плохой — работящий, весь дом обшил, все сделал... Да вот беда, дочери его не признавали, горяч больно. Я-то умела ему уладить, подсластить, а дочери — никак, ершистые были. Так я и вертелась промеж них, как на сковородке. А все же выучила! Две в Ленинграде, одна в Ярославле институты кончали.
Вера встала, прошла по комнате, в серых шелковых брюках и рябенькой кофточке,— неслышная и гибкая как змея. Закурила сигарету. Как-то тупо, равнодушно спросила:
— Значит, ничего у тебя не было? Любви особенной?
— Было — не было! — вдруг осердясь, косо посмотрела на нее Семеновна. — Какая такая любовь особенная? — слово «любовь» произносила она с буквой «ф» на конце — «любоф». — И без нее прожить можно. Много нынче воли стало, что в кино, что на улице, вот про любоф и болтают. Три-четыре раза на год влюбляются, по пять раз женятся. Вон я слышала, как один говорил про свои разводы: лучше пять раз по пять, чем один раз двадцать пять. Это он про семейную жизнь. Тьфу!.. Стоят обнявшись хоть где, прижмутся друг к дружке, без всякого секрета. Срам какой! Что уж это за любоф без секрета?
— Сейчас люди более одинокие и потому более ласковые. Все очень занятые, отсюда — отчуждение бывает... Молодые люди посреди улицы возьмут друг друга за руки — и в многолюдной толпе сразу исчезает одиночество. Ничего стыдного в этом нет, — небрежно разъяснила Вера.
— Будто? — усомнилась Александра Семеновна.
— Конечно. Раньше жену стеснялись не только при людях приласкать — даже наедине. Женщину в свой паспорт записывали, чтоб она не могла никуда уехать. И слова свободного ей сказать не давали.
— Да будет уж, будет,— тетя Шура замахала руками.— Это какая жена! Мне вон муж слова поперек не говорил... когда был трезвый.
— Ты не любила своего мужа. Его не за что было любить, — вынесла приговор беспощадно внучка, — потому и была главой в семье... А про любовь так за всю жизнь ничего и не узнала.
Та вскинула глаза на внучку и как-то сдавленно вскрикнула:
— Любила я!.. Да только не целована была ни разу... И время у нас было нелюбовное. Да что про это говорить? Будет!
И, недовольная собой, встала и принялась убирать на столе, расправлять постель. Время было позднее, и она легла на свою кровать за загородкой. Однако, растревоженная вопросами внучки, воспоминаниями, долго лежала без сна, перебирая свою жизнь. От этих мыслей «сделалось кручение в голове». Но у тети Шуры был свой способ от этого избавляться: она убирала подушку, голову клала на край постели и представляла, что из головы, как из ведра, надо вылить всю грязную, взбаламученную воду и поставить туда белые цветы ромашки. Так — с белыми цветами перед глазами, как бы под открытым небом, она и заснула. Ей не мешали шорохи тараканов за печкой, потрескивание дома, квохтанье кур в подклети — все эти вздохи дома, который ей казался лишь тонкой оболочкой, отделяющей ее от земли, от мира.
А утром как ни в чем не бывало тетя Шура опять бегала-сновала по двору, по дому, опять гоняла Митьку, кормила кур, украдкой поглядывала на Веру, заставляла ее то перебрать ягоды, то просеять муку, то пополоть грядки, то почистить дорожки во дворе.
— И зачем тебе столько кур? — спрашивала Вера. — Ты же не ешь яйца. Одна грязь от них во дворе. Все для гостей?
— Ну и для гостей — не для себя же жить?..
В этот день Вера ходила как в воду опущенная — непричесанная, безвольная, халат болтался на ее тонком теле. То к почтовому ящику наведывалась, то сидела у приемника, слушала музыку.
И опять Семеновна начала плести слова, ворошить жизнь, стараясь отвлечь внучку, которая сегодня уж очень сумрачно поглядывала из-под белой челки.
— Радио, Верушка, включи, сатира скоро будет. Люблю я сатиру...— И тут же себя ругала: —Ох, дура я, старая карга! Печь вчера истопила, а вьюшку забыла приторкнуть! На полный-то день ума не хватает!..
Она поправила белый платок на голове, провела шершавой ладонью по изрытому оспой лицу, села пряменько, сложив на чистом фартуке руки, и опять заговорила:
— Вот ты спрашиваешь про любоф. Так скажу я тебе про любоф... Про отца моего, твоего прадеда Павла Петровича скажу и про матушку, твою прабабку — Февронью Михайловну... Жили они в деревне Парюг на реке Ветлуге. Там сразу три речки протекало, и мельницы стояли. Место у нас было — красоты необыкновенной. И рыбы — прорва! У отца, когда он еще был парень, семья большая, а доходу мало. После смерти родителя Павел Петрович старшим остался, пятеро мал мала меньше — и всех кормить надо. А самому всего семнадцать. Вот и решили его женить, чтоб хозяйство было кому вести, да на богатой невесте. И взяли мою маму. Она единственная дочь у своих родителей, не бедная. А главное — с первого взгляда полюбила этого Павла... Свадьба была у них с плохими приметами. Когда к венцу ехали, собака всю дорогу бежала, лаяла. А на свадьбе, когда гости плясали в плохоньком доме отца, пол провалился... Однако невеста на свадьбе была веселая — румянец во всю щеку, ямочки от смеха, глаза голубые... Красота у нее была веселая — так люди говорили.
По мере того как тетя Шура рассказывала, лицо ее всетлело, а после слов о веселой красоте матери даже оспенные горошины порозовели.
— А отец был угрюмый, молчаливый. Волос сильно кудрявый, а нос у него кривой, и вот отчего. С детства ходил на охоту, как-то разряжал ружье, патрон и разорвался, а дело было весной, в паводок, ехать в больницу — лошадей нет. И он двадцать верст с перебитым носом шел пешком, нос-то у него так кривой и остался... Не знаю уж за что — за нрав ли, за кудрявые ли волосы или за перебитый нос, но мама полюбила его на всю жизнь. Да вот беда: как до нее хаживал к другой, так и потом ходил.
— Ну вот, видишь, — перебила внучка. — Что они знали о любви? Сейчас никто не пойдет за нелюбимого. Свобода выбора — великое дело!
— Свобода, свобода!.. — тетя Шура понимала: Вера слушает, а все переносит на себя. — Да любовь-то первый враг свободе. Полюбила его мамушка моя и всю свободу потеряла... Мама нас даже никогда не смела перед отцом защитить... Бывало, губу закусит, побледнеет, но — ни звуку против него... Вот ты и думай: что это — страх или любоф... А ты говоришь — свобода. Выходит, что нас-то не любила или как?.. Помню, рассказывала: отец поссорился с фельдшером, а мне время было прививку от оспы делать. Дак отец не захотел на поклон к фельдшеру идти — так я и осталась на всю жизнь с оспинами... Вот я и думаю, шарабаном своим верчу: зачем так любить-то — муж дороже родных детей! Разум-то у нее, у матушки, был ли? или он молчал, будто скованный?.. Однако ладно, скажу тебе дальше.
— В 1914 году отец ушел на фронт, уехал в Финляндию. Помню, ночь перед отъездом дома он не ночевал, говорят, видели его в городе с той Аксюткой, из села Парюг, что с ним полюбовничала... Мама всю ночь не спала, плакала, а утром, как пришел он, — опять сияла ямочками на красных щеках, бегала, как колобок, по дому. Лицо у мамы было такое, что не брали его ни тоска, ни слезы... Война шла. С фронта отец писал редко, скупо, а у мамы все одно — щеки как нарисованные... Я старшая была, читать умела, дак читала ей письма... Мама всю войну растила нас одна — шила, варила, пекла, торговала. И все-то его ждала. Наконец, в августе 1917 года он приехал на побывку. Нам, ребятишкам, привез пряников столичных, фигурные конфеты, мне сережки, маме полушалок. Так она, бывало, уделает все дела по дому, наденет его, сядет у окна и гладит платок, который он привез... Словно это живой человек... Не понимаю я, ничего не понимаю: за что его было любить ей?.. Да вот и в тот раз, сколько дней побывал он у нас, а ведь и тут успел к Аксютке съездить, и мама, конечно, опять в слезах была... Ну ладно, уехал он, скрылся из нашей жизни... Время тогда пошло сама знаешь какое... Сплошная катавасия. Болезни начались, испанка... Три брата у меня померли, и мама еле жива осталась... Как варево в чугунке — вот какое время. Гражданская шла...
— Ну а потом-то? Потом он ушел все же... к этой своей Аксютке? — жестоко спросила Вера.
Семеновна возмутилась: похоже, ее внучка, хоть и учительница, совсем ничего не понимает.
— Как это ушел? Да ты что? А детей сколько? Мама же не работала.
— Надо разводиться, если не любишь,— отрезала Вера.
Тетя Шура хотела отчитать ее, выразить все свое возмущение, но тут на улице постучали в калитку.
— Семеновна! Телеграмма тебе! — раздался голос.
— Ой, кто же это? Письмоносица?.. Не случилось ли чего у дочерей? — тетя Шура взяла в руки телеграмму, но тут же протянула ее Вере в окно: — Прочитай, я без очков-то не вижу.
— «Сегодня в девятнадцать часов приглашаетесь на переговорный пункт»,— прочитала Вера.
Почтальонша поправила сумку на плече и плотно прикрыла за собой калитку:
— Готовься, Семеновна, к гостям!
Тетя Шура села на скамейку, опустила руки, сразу почувствовав себя ослабевшей. Старшая дочь, значит... И сын ее Толя. Не дождались ответа на свои письма — теперь требуют ее к ответу.
Анатолий... Когда-то был маленький, каждое лето приезжал сюда. В доме веселье и шум, громыхали машины, скрипели качели во дворе, с мальчишками в казаки-разбойники, на велосипеде... Потом подрос, и соседские ребята стали слушать, как он ловко играет на гитаре; подпевали своими деревенскими голосами, да только у них не получалось, как у Анатолия. Девчонки заглядываться стали... Особенно Полинка... Влюбилась, голову потеряла, а он-то небось и воспользовался... Ох, шельмец, до утра гулял.
Александра Семеновна гладила котенка и в то же время будто не видела его, потом с силой отбросила с колен, ворча: «Ох ты, шельмец...» И стала торопиться куда-то. Потопталась в сенях, на кухне, во дворе. Оттуда слышался ее голос:
— Дуры вы, дуры! Да чего же вы петуха-то к себе подпустили?.. Ему бы со старыми курами сидеть... Вот я вас!
Куры бестолково сновали по двору, она их гоняла. Она и котенка Митьку еще раз шуганула... Снова вернулась в сени, на кухню. Наконец остановилась перед Верой и высвободила свою душу:
— Поняла? Лидия хочет приехать ко мне, вместе с Анатолием. Бесстыжие его глаза, как он тут их покажет только? Ведь уже год как я сказала: не езди! После того, что натворил, нечего ему тут делать!.. Нечего, да и только... Как я Полинке-то в глаза погляжу? А ну как он приехать хочет с молодой женой?.. Вот сраму-то мне, старой!
Наконец Семеновна взяла себя в руки и собралась: пора на почту, на переговорный пункт.
— Верушка, пойдешь со мной?
Та кивнула головой. В глазах ее, насмешливо-равнодушных, что-то загорелось. Она хотела сказать, что внук уже взрослый и ни к чему тете Шуре вмешиваться в их жизнь, тем более — Лида, старшая, любимая дочь. Но старушка сегодня была такая суетливая, сгорбленная, что Вера промолчала.
Тетя Шура заперла калитку в огород, чтоб туда не прошмыгнули куры, проверила запор на дверях, котенка выгнала из дому: пусть гуляет. Тот свернулся калачиком на крыльце, плотоядно сощурившись. Тетя Шура погрозила ему:
— Смотри, Митря! Кур у меня не трогай! Знаю я твою морду охальную!.. Сатана!
Дорога на почту — через мост, через станцию, мимо рынка. Маленький городок на берегу реки Ветлуги ничуть не изменился за последние сорок лет. Александра Семеновна тут знала каждую колдобинку на дороге. Ни прямых улиц, ни стройных линий, городок был типично русский — изборожден кривыми уютными улочками, заросшими сиренью, рябиной, тополем...
А дома — у каждого свое лицо, у каждого свой нрав. Вера молча рассматривала их. Вон тот «выставился» на самой дороге, ладный и справный. Стоит уверенно под железной крышей, на высоком фундаменте, с обрезанными по моде окнами. Занавески нарядные, стекла блестят горделиво, но на окне ни одного цветка. Другой — скромный, без наличников, с неровной изгородью, а на окнах бурно краснеет герань, стоят цветы под названием «бабьи сплетни». Есть дома, трубы которых украшены железными «дымарями», есть даже с фигурами в виде коня. У одного крыльцо нарядное, а тот совсем унылый, ничем не взял. Дома — как люди, как их хозяева. У бабушкиного дома тоже свой характер — без особой красоты, но открытый, удобный, выскобленный.
Центр городка и его достопримечательность — это асфальтированная площадь, где стоит памятник участникам войны: два красноармейца в шинелях, без фуражек, подняв автоматы, дают залп в память погибших. От памятника — каменная лестница и скамейки по краям. На них почему-то дремлют собаки.
Высокая тощая старуха тащит на веревке корову, которая у самой скамейки уперлась и не желает прибавить шагу.
— Пошла, дуреха, — прикрикнула на нее тетя Шура, а старухе бросила: — Чо, Ивановна, живем еще?
— Ну!..— та повернулась лицом. Вера увидела его и даже испугалась: глаза были в глубоких темных глазницах, а лицо бело-голубое, как у покойника. Но старуха бодро ответила: — Мы еще с тобой побегам, Семеновна, побегам! Что унывать-то?
Тут с диким треском промчался мотоцикл, и тетя Шура заспешила дальше, к почте. Вера еле успевала за ней.
Синенький деревянный домик почты был совсем мал, тесен, а на окнах большие крепкие решетки. Входить в него тетя Шура не стала.
— А что как Лидия вздумает с ним вместе приехать, а он жену свою привезет, как я тогда Полинке-то в глаза буду глядеть? — снова и снова шептала она Вере.
— Мне кажется, тетя Лида хотела в этом году с мужем в санаторий ехать, — Вера хотела ее отвлечь.
— Ведь Полина-то так тогда переживала, что хотела совсем уехать отсюда...
— Может, он без жены приедет, — неуверенно высказала предположение Вера.
— Да на что он и без жены-то нужен? Ведь опять начнет хороводиться... я знаю.
— Тетя Шура, ну что ты так переживаешь за нее?
— Хорошо вам в Москве... Ежели с девушкой что, так никто не узнает. Однако для нее-то это... Раньше из-за этого и вешались, и в омут бросались раньше.
— Ну это раньше, — начала было Вера, — а в наше время...
— В наше время, в наше время...— проворчала тетя Шура. — Время-то, может, и разное, да человек-то один — то же сердце, и та же жалость в нем. Этой Полинке какое дело до времени, у нее любоф была! А он побаловался и бросил! Вот и весь сказ!
...На почте в комнате набралось человек десять. Женщины в ярких кримпленовых платьях, девушки в «цыганских», с оборками юбках, два парня в джинсовых брюках, старик в чистом пиджаке и старой фуфайке.
Вызвали Москву. Тетя Шура, встрепенувшись, сунула зачем-то Вере кошелек и бросилась в кабину...
Вышла она оттуда с порозовевшими щеками, с обозначившимися сильнее морщинками. Быстро метнув глазами по сторонам, бросила: «Пошли!» — и двинулась в переулок. Только когда они отошли метров на двадцать, заговорила:
— Так и есть. Жена его и Лида с мужем едут в отпуск в Курскую область, к сватам, а у Тольки отпуск зимой. Сейчас ему дают одну неделю, он и надумал сюда приехать на эту неделю... Я говорю дочери: «Как же, мол, Полина? Как он на нее смотреть будет?» А Лида сердится: «Глупости, говорит, что вы выдумываете, мамаша, Толик ни в чем не виноват, сама не маленькая... Вы, мама, и на свадьбу не приехали, и писать мне не пишете, так как же это все понимать? Если, говорит, вам, мама, Полина дороже, чем внук родной, то вы так и будете жить одна... Характер у вас такой». Тяжело мне это слушать, как ты думаешь?.. Молчала, а потом говорю: «Ладно, пусть приезжает». На том и кончили.
Тетя Шура шла быстро, словно от чего-то бежала. Вера опять решилась на разъяснительные заходы:
— Тебе, тетя Шура, на исправление нравов целой жизни не хватит.
— Да и вправду, — неожиданно виновато отозвалась Александра Семеновна. — Все грамотные. Теперь и в седьмом классе небось побольше моего знают. Куда соваться-то? Помалкивать надо, не торкаться... Вот как в детстве всадили в меня кол, так я с ним и живу. А кол этот — долг. Не поверишь, все время вроде хочу чего-то лучше сделать... К примеру, пообещала я зятю шкуры овечьи достать. Не стало их в городе, все с ума посходили с этими дубленками-полушубками, тогда поехала я в район, за сто двадцать километров, пешком тащилась часа два, а оттуда как подняла эти двенадцать шкур — так и села. И сердце болит, а оставить не могу. Приволокла все же, дотащила... еле живая...
— Да ты и бруснику нам присылаешь, сразу килограммов по десять, небось тащишь сама на почту. Тяжело же, не могла попросить Костиковых?
— Костяковых-то? Нет! Уж пока мои ноги таскают, я никому не поклонюсь. И гордость свою не унижу,— разошлась опять тетя Шура.
— Ну вот, то ты с дочерью из-за внука ссоришься, то с единственной родственницей в городе...
— Да уж и вправду, куда я лезу? В семьдесят-то лет? — опять сникла Семеновна.
Они уже вышли к тихому закоулку с громким названием: улица Карла Маркса. Здесь на углу — крыша зеленая, стены зеленые и сад пышный — домик тети Шуры.
Открыли калитку, вошли во двор и... ахнули. Возле бочки с водой сидела курица. Вся голова ее и левый бок были в крови. Глаз закрыт. На качелях, свесив хвост, довольный и гордый сидел Митька. Бабушка схватила палку:
— Ох ты сволота, ох ты шельмец, звериное отродье!.. Тебе все игрушки, а ей, курице, чем от тебя защищаться? Давеча птичку таскал. Я думала, больная какая птичка, не мог, мол, такой котишка убить ее, не поверила. Нет, оказывается, ты мал, да удал, злодей. Не только птичку — на курицу молодую напал. Пошел! Чтоб глаза мои на тебя не глядели!..— тетя Шура хотела огреть кота палкой, но он уже прыгнул на перекладину вверх, где его не достать.
Она взяла на руки курицу — перья были розовые от крови, поднесла к бочке с водой, помыла, что-то приговаривая ей, и понесла на кухню.
— И зачем тебе с ним, с паразитом, связываться было? Пошла бы к себе в подклеть, девка, там петух рядом, Митька туда не лезет. Ох, глупая ты, глупая!
Курица сидела нахохлившись, не клевала пшено, которое сыпала ей Семеновна.
Весь вечер тетя Шура ходила из сеней в избу, из чулана в погреб, из сарая во двор, передвигала предметы, переставляла банки, пересыпала старую картошку. Казалось, она никогда не успокоится.
Допоздна вертела радиоприемник. А Вера помалкивала. Когда легли спать, загасили свет, в голове у тети Шуры было что-то похожее на новгородское вече — шел диалог то с дочерью, то с внуком и Полиной... Ночью, проснувшись, почувствовала на своих ногах котенка Митьку. Зло сбросила его с кровати, так что пружины железной кровати сердито заскрипели. А потом во сне ей привиделся кот с лицом Толика...
— Ладно, бабуля-тетуля,— сказала на другой день Вера,— на улице дождь. Давай не будем расстраиваться, и ты доскажешь мне все же... ты знаешь, про что.
Что-то изменилось в Вере за прошедшие сутки. Эта история с внуком, а главное — отношение к ней тети Шуры будто отодвинули от нее Андрея Заева. Каждое утро она просыпалась с мыслью о нем и произносила: «Андрюша Заев, Андрей Заев...» — и в этом мимолетном сочетании раньше слышалось что-то мягкое, музыкальное, ласковое. Был он красив и ласков со всеми. А в то же время сохранял всегда дистанцию, он говорил: не надо ни с кем отождествляться. Впервые Вера сегодня не произнесла про себя это «Андрей Заев», не побежала к почтовому ящику. И тетя Шура сегодня кажется ей иной, вызывающей особое уважение, даже желание помочь ей.
— Про любоф-то? — улыбаясь переспрашивает тетя Шура. — Про любоф расскажу я тебе, да только совсем не то, что думаешь... В гражданскую это было. Я училась в школе второй ступени... Платьишков у меня было — одно-разъединственное, туфли — тоже одни. Училась я в Вятке, там и жила, а домой наезжала... Вот в один из наездов-то и увидела его... Был он у нас в доме постояльцем. Фельдшер. Идейный... Как увидела — так душа и замерла, стою как каменная, а лицо пылает, щеки, как у мамы, алые... Не скажу, чтоб он на меня не глядел. Глядел, да ему только некогда было. Жизнь его в разъездах проходила. Люди болели, скот болел. А он по тем и по другим лекарь был. Вот его-то я и полюбила... Только меж нами про любоф никогда ничего сказано не было.
— Как, абсолютно ничего?.. Что же это за любовь? — удивилась Вера.
— Дак как говорить-то?.. С отцом они сразу рассорились, взгляды у них были разные. Миша-то большевик был, а отец к тому времени как бешеный стал. Большевиков-комиссаров не признавал, мол, страной должны править кулаки да купцы. Вот и попробуй поговори с ним. Я уже тоже идейная была, спорила с отцом и невзлюбила его в тот год сильно. А Мишенька... ездит по волости, лечит людей... Как-то приехал к нам, неожиданно, я, помню, муку решетом просеивала. Вошел, глаза черные, усталые, а смотрит... горячо. И взял меня за руку, ведет. Я ни жива ни мертва... Шла за ним будто по небесам... Он и говорит: пойдем к отцу-матери, значит, жениться... А отец, как услышал это, давай ругаться. Мол, за большевика ни за что не отдам дочь!.. Громы домашние... А вечером Миша мой опять уехал: испанка бушевала в нашем крае.
Александра Семеновна вздохнула тяжело, протяжно.
— Отец вообще у нас был поперечный, то против царя выступал и в церковь ни ногой, а тут — все наоборот... Мише сказал: «В церковь венчаться пойдешь — отдам за тебя дочь, не пойдешь — не видать тебе ее...» Вот как дело обстояло... А Миша — большевик, разве он в церковь пойдет?
Вера опять удивилась:
— Да любил ли он тебя, тетя Шура? Жертвы не мог принести? Подумаешь...
— Не понимаешь ты ничего, — рассердилась тетя Шура. —Любил он меня, и сильно!.. Взгляд его я и теперь, как в телевизоре, перед собой вижу. И никого больше я так не любила, как его.
— Ну а дальше-то что было?
— Дальше?.. Перевели его в Нижний... Я говорю матери: «Отпусти, мол, меня туда, счастье мое там». Она: «Отец узнает — проклянет». «Ну так и что? Какое ему дело?» А мать опять: «Мало ли что, отец — нельзя...» Вот какая рабская ее любовь была.
Александра Семеновна опять замолчала, уносясь в прошлое...
Потом испытующе посмотрела на Веру, стараясь угадать, поняла ли та что-нибудь из ее рассказа, хотела, чтоб поняла: любовь можно своими руками создать, а можно и задушить.
Внучка встала, потянулась, тонкие руки переплелись, как сухие стебли, как-то загадочно усмехнулась и, словно догадываясь о бабушкиных мыслях, сказала:
— Да, у сердца свои законы, оно диктует, ему не прикажешь.
— Нет, прикажешь! — подняла голос тетя Шура. — Что это? Отец и полюбовницу имел, и ни детей, ни мать не ласкал, не баловал, и счастья меня лишил, а все люби его? Да на кой такая любовь нужна? Надо было ее маме в самом зародыше задушить!
— Если б так! — Вера усмехнулась, ее опять обуяла ленивая насмешливость.— Как говорят, любовь зла — полюбишь и козла.
— Нет, на это я не согласная, — Александра Семеновна встала. — Полюбишь — так заставь себя разлюбить такого! Что это? Это где видано, это что за сатанинская сила такая, чтоб человек с ней не совладал? Наступи, загони ее, умом пораскинь, зачем да к чему — хватит! Чем всю-то жизнь ни людям, ни детям своим в глаза не смотреть. Ишь, «любовь зла»...
Бабушка сердито задвигала-замахала руками. Недовольно шаркая ногами по полу, пошла на кухню и там загремела ухватами, кочергами. Для чего все это рассказывала она внучке? Та и ухом не ведет. Ишь!.. Семеновна сняла с полатей покрасневшие помидоры и, вернувшись, решила добавить еще кой-чего, чего раньше и не хотела рассказывать:
— А знаешь, что потом отец учинил? В ту зиму Нина, самая красивая из нас, сестер, приехала на каникулы с женихом Иваном. Дак дед-от, как узнал, что Иван комсомолец, — напился и все окна в доме повыбивал. А было это пятого января, морозы. Думаешь, мать хоть слово ему сказала, поругала его? Нет, ни словечушка!.. Вот какой ирод проклятущий...
Вера задумалась, с удивлением смотрела она на бабушку: та вся красная ходила по комнате. Сколько страсти! Ни одна из Вериных подруг не способна на такое. Вместо лирического разговора о любви — сплошные нервные разряды. И не поверить ей невозможно.
— Ну а потом... когда ему уже за шестьдесят было, опять вздумал, лешак, фордыбачить!.. Завел себе молодуху у матери на глазах!.. Вот тогда уж она совсем увяла. Рассеянная стала, в одну точку уставится и смотрит... Там и болезни пошли. И померла. Вот, ирод проклятущий, что делал... даром что мне отец. А мать и жалко, и зло на нее берет... Да на что такая-то любоф? В окошко ее выкинуть надо!
Тетя Шура ходила по комнате и слепо трогала предметы. Она уже забыла, зачем начала этот рассказ. Теперь ей виделось что-то общее между отцом ее и внуком Толиком. Она подошла к печке, где сидела курица, подсыпала ей зерна. Ногой что есть силы поддала котенку, который с недоумением взглянул на нее из-за угла.
А после обеда пошла на почту и дала дочери телеграмму, чтобы Анатолий не приезжал.
Вера ходила по двору, по дому, думая о непреклонности тети Шуры. Бегали-сновали у крыльца куры. Движения их казались Вере столь же растерянными, как и ее мысли. В памяти проносилось то их расставание, то физкультурный зал, ловкий, красивый Андрей Заев в синем костюме... Черные жучки его глаз... Вспомнила: как-то он уходил от нее, а навстречу шла соседка, и он торопливо, как заяц, озирался, не хотел, чтоб та его видела... Заев... Зайцев... Что-то заячье увиделось в его поведении... Это не то что прямая тетя Шура. У нее все ясно, без обмана. И в рассказах ее тоже Февронья (надо же такое имя дать!) любит так любит. Павел Петрович — еще того яснее. А этот фельдшер и сама она?.. Как она сказала? «В детстве всадили мне этот долг, все равно как кол, и не могу я поперек его жить». Гибкий Андрюша и этот кол-долг? А что касается любви, то разве не похож он на Толика? «Быть женатым и не жениться — это прекрасная форма современного брака» — если бы тетя Шура знала его теории, что бы она устроила тут! Вера усмехнулась.
Когда Александра Семеновна подходила к дому, она увидела, как Вера стоит спиной возле почтового ящика и старательно разрывает на мелкие части какое-то письмо. При этом лицо у нее было сосредоточенное, суровое, как у палача, исполняющего приговор. Тетя Шура кашлянула и подумала про себя: «Тоже наша порода».
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





