ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
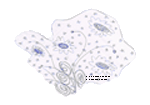


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Берберова Нина 1958
1
В жизни каждого человека бывают мгновения, когда внезапно и без всякой видимой причины захлопнувшаяся было дверь вдруг снова приоткрывается, решетчатое окошко, только что опущенное, приподнимается, резкое, как будто бы окончательное «нет» превращается в «может быть», и в эту секунду мир вокруг нас преображается и мы сами, как новой кровью, наполняемся надеждами. Дана отсрочка чему-то неотвратимому, окончательному; приговор судьи, доктора, консула отодвинут. Чей-то голос объявляет нам, что не все потеряно. И на дрожащих ногах, и со слезами благодарности мы переходим в следующее помещение, где нас просят «немного обождать», прежде чем столкнуть в пропасть.
Так было и со мной в тот вечер, когда я стояла рядом с Эйнаром в хвосте перед посадкой пассажиров, увозимых автобусом на аэродром Бурже для полета в Стокгольм. Он уезжал, я оставалась. В толпе, на темном парижском перекрестке (было 2-е сентября 1939 года), в девять часов вечера, кроме меня, провожающих не было — им всем велели остаться в зале, уже завешенном черными шторами. Там были прощания, объятия, даже слезы и, как полагается, отцепление детских рук от чьих-то рукавов и карманов. Я вышла с Эйнаром, почти машинально, через вертящуюся дверь. В одной руке он держал толстый портфель, в другой — кожаный несессер. Через его правую руку было перекинуто пальто. Моя рука держала его пальцы под этим пальто, и я касалась холодного замка несессера. Время от времени Эйнар взглядывал на меня. Лицо его в полумраке казалось чужим, усталым, расстроенным, пропали твердые очертания скул и подбородка, которые я так любила; в глазах было беспокойство, и рот был полуоткрыт. «Он некрасивый», — подумала я и почувствовала, что слезы сейчас брызнут у меня из глаз, и не будет голоса ему сказать: «Я не знала, что ты такой некрасивый». С билетом и документом в руках пассажиры поднимались в автобус. Эйнар перебросил пальто на левую руку, я сняла свою, подхватив несессер. Он протянул документы.
— А вы? — Я молчала, я боялась своего голоса; каждому было ясно при взгляде на меня, что в Стокгольм я не лечу.
— Хотите прокатиться в Бурже? — спросил меня служащий в форме.
— Я...
— Полезайте, не задерживайте других.
Этим словам я и сейчас не верю. Возможно ли, что такое действительно произошло? Почему именно на мою долю выпало это? Я ни о чем не просила, да и разве кому-нибудь могла прийти в голову мысль просить чиновника о чем-либо подобном? Я вскарабкалась по ступенькам, мы молча (Эйнар впереди, я — за ним) прошли к последним местам и сели. Он обнял меня за плечи, и я замерла у его плеча, у его груди, которая была такая широкая и спокойная и где билось сердце Эйнара, которое я слушала все мои последние бессонные ночи.
Автобус медленно наполнился; в окно было видно, как сновали носильщики, грузя чемоданы на крышу. Над нашими головами гремели шаги, кто-то темный подбежал к одному из окон, спросил что-то, и из автобуса ему ответил голос по-шведски. Шофер в белой фуражке прошел по проходу и по пальцам пересчитал сидящих, пропустив меня. Включили мотор, захлопнулась дверь. Несколько человек выбежали из зала и замахали платками, и мы медленно двинулись. Я еще теснее прижалась к Эйнару. «Ты сейчас некрасивый», — наконец выговорила я, и вдруг мне захотелось смеяться. Он, вероятно, подумал, что я плачу, и пальцем провел по моим векам. Я схватила его руку и прижала к губам его ладонь. Эти минуты были мне подарены! была пожалована отсрочка! Один час всего, но как в те мгновения это показалось много.
Темный Париж, мертвый Париж, но не черный в ту ночь, а какой-то темно-зеленый, весь город, и небо над ним, и река, и то, что было внутри автобуса, — все было темно-зеленым, бутылочного цвета: наши лица, и лица других пассажиров, и здание Большого Дворца, мимо которого мы прогремели, были окрашены одной краской, толстое темное стекло заключило нас в себе, его и меня, и город вместе. Эти улицы, которые мы оба так хорошо знали и которые теперь бежали мимо нас, принадлежали к странному темно-зеленому миру, в котором и Эйнар, и я были вместе; и тут выяснилось, что о многом мы еще не сказали друг другу ничего в спешке последних дней, особенно же этого последнего дня; мы столь много недоговорили, и нашего с ним общего, и мирового, связанного с войной и будущим — опять же мировым и нашим, и вообще мы как будто еще и не начали ничего, мне показалось, что у нас с ним вовсе нет и не было никакого прошлого, а о будущем и говорить нечего — призрак впереди, призрак позади, мы оба — призраки, и все вокруг — призрачно, и только всего и есть реального, что эта сила, которая разъединяет нас: сейчас ты здесь, со мной, сейчас мы вместе, а через час — тебя здесь нет, и ты один, и я одна, и ничего вообще нет, что соединяло нас, кроме разве что мысли — твоей обо мне, моей — о тебе.
— Ты и Париж, — говорил Эйнар, но что именно он говорил, я не слушала. — Обещай мне...— О чем он? Он знает, что я обещаю ему все, о чем он ни попросит. Может быть, и мне сказать: обещай мне. Еще есть время. Потом.
— Париж, и ты, и все, что было, — и опять он говорил что-то, чего я не могла воспринять разумом, зная, что, собственно, надо бы сделать усилие, что другого случая не будет — завтра не будет, и послезавтра не будет, и через год, может быть, тоже. Дальше я не умела заглянуть. Бутылка темно-зеленого цвета и толстого стекла, в которую я попала (и из которой он сейчас выйдет), долго не разобьется, настанут осенние и зимние дни, черные военные ночи, когда я буду одна.
— ...и в постоянной опасности, — говорил Эйнар, словно, как всегда, читая мои мысли,— с постоянной нехваткой самого необходимого; обещай мне...
И я, все держа его руку у своих губ, шепнула: ну, конечно.
Я помню раньше, много лет тому назад, я смотрела на Париж как бы отстранясь от него, с чувством отрешенности, холодка, с мыслью: «сколько здесь истории!» или: «сколько здесь красоты!» или даже: «сколько здесь природы!» (неба, птиц, цветов). Или: сколько здесь памятников и книг, могил и мраморных досок: «здесь жил такой-то». Но сейчас я смотрела на плывущие на меня деревья набережной и думала: «сколько здесь страдания было, есть и будет, и не только страдания вообще, но русского страдания, в общем русле которого и я нахожусь сейчас: от страданий Тургенева в квартире на улице Дуэ, и страданий Достоевского в гостинице на бульваре Сен-Мишель, через страдания давно забытого автора строк про реку, которая образовала свой самый выпуклый изгиб, и который покончил с собой здесь, еще до «той» войны (могилу его я видела однажды, камень стоит прочно, но куст диких роз совершенно завил его), через страдание одного заблудившегося в европейских столицах художника (помнит ли кто-нибудь еще его имя?), который приехал и остался здесь, и говорил: проклинаю, но остаюсь, — пока не проглотил какие-то порошки и его, как это иногда бывает, не откачали, — вплоть до моего самого маленького и самого большого страдания сейчас, когда мы поднимаемся к Опере.
— А ведь тут подъем, ты чувствуешь? — сказал Эйнар. — Я никогда не замечал, что тут подъем, а уж как эти места знаю!
Все было мертво. А еще вчера вечером все здесь гремело и сияло в огнях и темно-зеленый мрак был новостью для этих улиц, и зданий, и неба, и мостовой, которые столько лет для меня были цвета сирени и мальвы.
— Все другое сегодня, — сказал он опять, совсем тихо, — смотрю на тебя и смотрю в окно, и не верю, понимаешь, не верю, что всему этому наступает конец.
Он посмотрел мне в глаза и улыбаясь спросил:
— А какое об этом есть стихотворение?
Это он смеялся надо мной: он говорил, что по-русски непременно на все случаи жизни имеется стихотворение.
— Одно уже было, — сказала я, — с тех пор, как мы отъехали. Но я тебе его не скажу.
— Нет, ты мне его скажешь!
— Это когда я сказала тебе, что я и не знала, какой ты некрасивый.
Мы замолчали. И Северный вокзал, темно-зеленый в темной зелени бульвара, остался позади.
— Когда ты приедешь в Стокгольм, — это была одна из его сказок, которые он мне иногда рассказывал. Другая была: когда мы поедем с тобой в Бразилию. И третья: когда мы вернемся в Россию. Русского языка он не знал, никогда в России не был, был коренным шведом, но отец его в молодости живал в Петербурге, говорил по-русски и теперь, вдовый, жил в своем доме с русской нянюшкой, каким-то не совсем понятным мне образом попавшей к ним в семью, с иконами и самоваром. На фотографии, которую я хорошо знала, он сидел, парализованный, в кресле, худой, длинный, его можно было принять за короля Густава, а рядом, чуть отступя, в платке и расшитом переднике, стояла грузная телом, но со сморщенным миленьким лицом нянюшка, подперев подбородок ладонью и опершись плечом о дверной косяк.
— Когда ты приедешь в Стокгольм, — говорил Эйнар, — и пойдешь гулять в королевский парк, ты увидишь в одном из окон дворца, левом верхнем, как кто-то как будто дирижирует одной рукой — это наш король вышивает крестиком.
— А когда мы поедем в Бразилию?
— Когда мы поедем в Бразилию, там необходимо будет осведомиться, существуют ли еще бриллиантовые россыпи, которыми владел отец моей матери. Одно время они приносили много денег, потом приносить перестали, а теперь они вообще, видимо, заросли бурьяном, давно ничего о них никто не слыхал.
— Ты уверен, что это в Бразилии, а не в Родезии?
— Так мне рассказывал брат.
— А когда мы вернемся в Россию?
— В Россию необходимо поехать из-за няни. Она из села Курганы Лукинской волости Весьегонского уезда. Ее надо туда доставить, она очень скучает иногда.
— Теперь волостей нет.
— Весьегонского уезда Тверской губернии.
— И уездов нет, ты ей скажи.
— А что же есть?
— Районы, области, республики.
— Хорошо, я ей скажу.
А широкая прямая дорога, вынеся нас из города, бежала под нашими колесами, и время тоже бежало, навстречу и мимо.
Северо-восток. Почему-то мне давно уже кажется, что северо-восток несчастное, грозное, зловещее направление. Пора доискаться, откуда это ко мне пришло. Аэроплан летит на северо-восток и не возвращается. Нет вестей с северо-востока. Враги приходят с северо-востока. Кто-то ушел на северо-восток, и больше его никогда не видели. Довольно! Останови мою мысль, пожалуйста, я не могу сама этого сделать. Поговорим о Бразилии, о Родезии. Или поговорим о войне.
— Она началась сегодня утром.
— Неужели только сегодня утром? Мне кажется, это длится уже так давно.
Две его руки, две мои, и все четыре крепко держатся друг за друга. Все равно не поможет. Пока мы качаемся в этом автобусе — да, а потом — нет. Осталось еще двадцать минут, может быть восемнадцать.
Рекруты толпой шли в полной тьме, и мы обогнали их, тяжело качнувшись на сторону, так тяжело, что я всем телом легла на Эйнара, и мы опять взглянули друг на друга.
— Не забудешь меня? — спросил он вдруг.
— Неподходящий вопрос, тебе не подходящий.
— Обещаешь?
— Обещаю. Что еще обещать?
— Все что хочешь. Я все возьму.
Он крепко прижал меня к себе. Больше мы не говорили. С автобуса мне сойти не позволили. Я прижала лицо к стеклу. Как когда-то писали в романах:
«Графиня полулежала на кушетке, а граф прижимался пылающим лбом к холодному стеклу...»
Синие фонари, точно громадные ночники, горели в темно-зеленой ночи. Не подводное ли это царство? Не затопило ли нас? Эйнар машет мне рукой, поставив несессер на землю, он — последний, все уже вошли в широкие ворота.
— Эйнар! — я бегу к выходу, чтобы выскочить, добежать до этих ворот и крикнуть ему: Эйнар! Прощай! Живи счастливо на твердой суше, мы тонем, Эйнар, мы тонем и утонем, а если и выживем, то все равно мы будем не те, не такие...
Но дверь автобуса заперта снаружи, они сделали вид, будто меня в нем нет, и никого вокруг. Я сажусь на первое попавшееся сиденье, опять смотрю в окно: никого, ничего. Пока не подходит шофер, тот самый, который считал пассажиров по пальцам и меня пропустил. Он ничего не говорит, заводит мотор, осторожно поворачивает, делает круг, и мы спокойно, ровно катим обратно. Я открываю окно, ветер шумит у меня в волосах, темно-зеленая с оливковым оттенком городская даль начинает приближаться. С долгой судорогой в груди брызжут из глаз моих слезы, но я останавливаю их, я будто сама останавливаюсь вся, и стою, и смотрю на все, что случилось со мной. Но реальность в прошлом и настоящем вся перекошена, уродливо сплющена, чего-то в этой картине нет, а чего-то слишком много. Ветер шумит в волосах, и вот уже бежит мне навстречу та каланча, а вот и тот перекресток. Скоро опять потекут те же улицы, те же здания, скоро вся эта фантастическая поездка (которой никто не поверит, которой я сама не верю) кончится. Окошко закроется, дверь, прищемив чью-то живую лапу, захлопнется, и потечет жизнь, как темно-зеленая река.
А рекруты толпой в темноте все идут и идут.
2
Семь долгих лет разлуки. Эйнар прав: у русских, у нас, на все случаи жизни есть стихотворение. С того вечера, когда я вернулась домой в большую, тихую квартиру Дмитрия Георгиевича, где я жила не то в качестве племянницы, не то секретарши, не то жилицы, до того дня, когда я снова увидела Эйнара, прошло семь лет.
Вернувшись домой, я бесшумно прошла по комнатам и постучалась в кабинет Дмитрия Георгиевича. Он сидел под лампой, укутав ноги пледом, в своей старой верблюжьей куртке и маленькой шапочке. Ему тогда было семьдесят девять лет. «Он не похож на Густава шведского, он похож на китайского богдыхана», — подумала я. Он сказал, что ужинал и работал, а теперь читает и ему ничего не нужно, и я прошла к себе и легла не раздеваясь, и пролежала так до утра — без сна, без сил, без слез, только все думая: как все было и как все будет.
Женившись на сестре моей матери, Дмитрий Георгиевич — еще задолго до моего рождения — заставил всю семью своей жены подтянуться, и когда я появилась на свет, самым страшным грехом в доме считалось ничегонеделанье. Если Дмитрий Георгиевич писал книги, ездил на съезды, читал лекции и имел прямое отношение ко многим академиям мира, то и нам всем тоже следовало делать что-то полезное. Первое мое воспоминание: мне едва исполнилось три года, я стою посреди комнаты с чувством огромной вины, раздавившим меня, а моя мать серьезно спрашивает меня: чем ты занята?
— Ничем.
— Пойди займись чем-нибудь. Как можно без пользы терять время!
Теперь от всех этих деятельных, сильных, здоровых, не любивших понапрасну терять время людей остались только мы двое — я и китайский богдыхан, кроткий, тихий, молчаливый, всегда всем довольный, иногда печальный, с двумя парами очков на носу, пледом, шапочкой, весь кругом заставленный книгами, лампами с зелеными козырьками; обложенный бумагами, письмами, переводами своих и чужих сочинений. Вокруг него живут коробочки с использованными марками, с неиспользованными марками, с остатками карандашиков, с кнопками и скрепками; вокруг него лежат подушечки «времен покорения Крыма» (не помню, которого) и записные книжечки с малиновыми закладками, на одной из которых с буквой ять вышито: «книгу бери, на место верни».
В первый год войны, до падения Парижа, от Эйнара приходили письма, и он даже писал, что, может быть, ему удастся приехать весной по делам «и вот видишь, как все хорошо получается». Но он не приехал. Весной начались события; по-прежнему, и даже больше прежнего, Дмитрий Георгиевич, укрытый пледом, сидел в кресле и читал, по-прежнему говорил тихо и только необходимое; все чаще дремал или сидел, закрыв глаза, сложив на коленях маленькие сухие руки, пальцы которых, с аккуратно подстриженными ногтями, были искривлены ревматизмом, и эта несимметричность кистей его рук была для него очень характерна.
В день взятия Парижа, в часы, когда немецкая армия проходила его с северо-востока на юго-запад, жизнь у нас в квартире продолжалась — как, между прочим, продолжалась она и во многих других местах города: кое-какие кинематографы были открыты, и метро не остановилось ни на минуту. Странно было позже себе представлять этот день: вражеская армия берет столицу, а под землей мчатся поезда, в Национальной библиотеке кто-то сидит над эстампами, и мы, Дмитрий Георгиевич и я, завтракаем яичницей, салатом и сыром, заплаканная прислуга ходит из кухни в столовую и обратно; мы оба молчим, но, может быть, не больше, чем мы молчали вчера или третьего дня. И китайский богдыхан, положив вилку, подходит к окну и смотрит на улицу, на густые деревья бульвара де Курселль, под одним из которых немецкий солдат остановился для естественной надобности.
До этих дней я работала в газете, но теперь я осталась с полными сутками свободного времени на руках. Я не знала, что с собой делать, пока не отпустила прислугу. Тогда хозяйство стало заполнять мой день. Я боялась остаться в пустоте и бралась то стирать, то красить переднюю, то переписывать что-то для Дмитрия Георгиевича, только бы не сидеть сложа руки. Иногда приходили гости: две старушки, когда-то, вероятно, поклонявшиеся Дмитрию Георгиевичу, его дальняя родственница, Елена Викентьевна, тяжело работавшая в мастерской дамских шляп. Она называла Дмитрия Георгиевича «Девятнадцатый век».
— Девятнадцатый век наш здоров?
— Как вы тут с Девятнадцатым веком справляетесь?
— Девятнадцатый век спит, — иногда говорила я, и она уходила, оставив торт.
Четыре года — четыре посещения. Первое: генерал в сопровождении молодого адъютанта, который пришел «поклониться великому человеку» и спросить, не может ли он быть чем-нибудь ему полезен. Дмитрий Георгиевич по своему обыкновению больше молчал; я стояла за дверью и подслушивала. Генерал предлагал выписать нужные книги, прислать ящик продуктов, рекомендовал усовершенствованную грелку для ног. Когда он ушел, почтительно расшаркавшись и попросив автограф, я удивилась тишине, наступившей в квартире. Дмитрий Георгиевич лежал у себя, отвернувшись к стене. Я принялась чистить серебро, и это было как раз то занятие, которое мне было нужно. В окне кухни треугольником, как гуси, летели аэропланы. «А ведь так можно и отупеть, — сказала я себе, — может быть, начать перечитывать какие-нибудь хорошие старые книги?» О том, чтобы читать какие-нибудь новые книги, мне не пришло тогда в голову. Например, «Возвращенный Рай» или «Историю Государства Российского», или «Путешествия Гулливера»?
Второе посещение было во второй год. Утром, часов в одиннадцать, у входной двери раздался долгий, какой-то веселый звонок, будто кто-то наконец добежал до нас. Я никогда до этого не видела доктора Венгланда. Сорок лет, каждый раз, как Дмитрий Георгиевич бывал в Берлине, он останавливался у доктора Венгланда, доктор Венгланд мне по имени был знаком с детства. Я помнила по рассказам, что во время «той» войны доктор Венгланд какой-то тонкой хитростью давал о себе знать Дмитрию Георгиевичу кружным путем через Данию. Доктор Венгланд был неотъемлемой частью жизни нас всех. В последний раз они виделись на каком-то съезде в Гейдельберге, лет десять тому назад («в эпоху электрической разведки нефтяных месторождений», — как сказал бы шведский издатель Дмитрия Георгиевича, Ольнерс). Старый, огромный, радостный, доктор Венгланд ринулся в комнаты и заключил Дмитрия Георгиевича в свои объятия и, вытирая слезы, бегущие из глаз, и громко сморкаясь пошел в кабинет. Двери закрылись, стало тихо. Я ушла к себе и медленно начала протирать сначала свое зеркало над туалетом, потом окна внутри, а когда и это было сделано, вылезла наружу и вымыла оба окна, стараясь не смотреть вниз. И все время меня беспокоила вполне законная мысль: а почему бы, собственно, и не посмотреть вниз (со всеми вытекающими отсюда последствиями), почему, собственно, стоя на карнизе пятого этажа, бояться каких-то там головокружений?
Обедала я в тот день одна. Доктор Венгланд ушел, а Дмитрий Георгиевич сел в гостиной к камину, который никогда не топился и из которого дуло; гостиной этой никто никогда не пользовался. Дмитрий Георгиевич стал смотреть в этот камин, повернувшись спиной ко всему остальному, словно здесь играл огонь. С этого дня он как-то внезапно потерял интерес к своим бумагам и книгам, и несколько раз я заставала его перед книжным шкапом в прихожей, где на полках было все то, что в начале этого столетия было привезено из России. Эти книги давно стояли без всякого употребления.
Третье посещение было совсем коротким: два высоких, стройных красавца с нашивками на рукавах, со значками на груди и железными птичками на фуражках прошли по квартире в быстром и довольно поверхностном обыске, едва заглянули в мою комнату, взяли две папки писем различных ученых друзей к Дмитрию Георгиевичу, отстранили его (он приходился им по грудь), когда он хотел защитить средний ящик своего письменного стола, который они выдвинули так, что он свис вниз. Быстро перебрав коробочку с мятными лепешками, коробочку со старыми резинками и даже коробочку со стальными перьями всевозможных фасонов, они поблагодарили, коротко извинились, объяснили, что искали оружие, и ушли. И в этот вечер я заметила, что Дмитрий Георгиевич находится в тяжелой тоске, и я посидела с ним до одиннадцати ночи, открыла ему постель, положила его плед; когда он вернулся из ванной, я увидела, что он, всегда такой аккуратный, на этот раз не запахнул халата, ночная рубашка доходила ему до колен и из-под нее торчали худые, желтые ноги в венах и буграх. Я отвернулась. Не обращая на меня внимания, он лег под одеяло, положил челюсти в чашку с водой и потушил свет. Я вышла на цыпочках.
Стирать я больше не могла — мыла было в обрез; красить стены тоже — слишком дорого стоила краска, все деньги шли на питание; шить мне было нечего, да и ниток не было, когда надо было пришить пуговицу или зашить дырку, я выдергивала нитки из старого, стараясь их не порвать. Мне нечего было делать, мне некуда было девать себя. Электрический свет давали вечером, ночью его выключали, и мы жили в полной тьме. Иногда я зажигала свечу, читала полстраницы «Истории Пугачевского бунта» и откладывала книгу.
В марте 44-го года было четвертое и последнее посещение. Случилось это в семь часов утра. Я вскочила, проснувшись от сильного звонка. Это была французская полиция — двое штатских и двое городовых, таких, какие обычно стоят на углах улиц и управляют движением или отвечают на вопросы прохожего, как пройти на такую-то улицу. Городовые были самые обыкновенные, краснолицые, плечистые, но в квартирах я их до того никогда не видела, как не видела в квартирах лошадей или овец, которые принадлежат улицам и дорогам, но никак не комнатам. Они попросили разбудить Дмитрия Георгиевича, ждали, пока он оденется, и мирно и спокойно, и даже с какой-то терпеливой вежливостью попросили его захватить с собой одеяло. Чемодан, который я наполнила лекарствами, фуфайками и носками, они не позволили ему нести, а понесли сами. Он вдруг стал совершенным карликом, весь съежился, спрятал шапочку в карман, надел шляпу, которую я ему подала, и осторожно поцеловал меня в щеку, а потом в руку, и я тоже поцеловала его сначала в бороду, а потом в руку. Полицейские в это время разглядывали потолок.
Через несколько минут (я еще была в передней, не зная, куда мне теперь идти) опять раздался звонок; помню, что я никак не могла повернуть замок, дрожали не только руки, я сама вся дрожала. Наконец я отперла.
— Господин профессор спрашивает, положили ли вы строфант? — спросил городовой. Я не помнила. Я не могла вспомнить, уложила ли я строфант среди лекарств. Я побежала в кабинет Дмитрия Георгиевича, увидела, что все содержимое ночного столика вывалено на пол, и стала на коленях перебирать коробочки и пузырьки. Строфанта не было. Между тем в эти мгновения мне стало казаться, что строфанта не было и раньше, когда я укладывала чемодан. Я побежала в ванную. Там на полочке, над умывальником, стоял строфант. Но городового больше не было, он, видимо, не мог так долго ждать. Я побежала на лестницу; один этаж, другой, пятый; повисший между этажами лифт (висел уже много месяцев), наконец — открытая дверь на улицу: «Утро на бульваре де Курселль», картина кисти художника Икс: хвост у молочной, вывеска цветочного магазина, ребенок играет собачьим калом, уехавший автомобиль заворачивает за угол; а пешеходы еще не нарисованы.
Как я узнала позже, его поместили в роскошном номере роскошной гостиницы, реквизированной для крупных ученых, но, видимо, не рассчитали его возраста: в восемьдесят три года трудно менять привычную обстановку, и хотя к нему приставили доктора, но и это не помогло.
За его книгами приехали перевозчики и в один миг смахнули их с полок.
— Вот ордер, — сказал один из них хмуро.
Подошли они и к шкапам в передней.
— Это — мои, — сказала я с истерикой в голосе, удивившей меня самое. — Прошу оставить эти в покое.
Они ушли. В кабинете стало странно пусто. Я туда перестала ходить.
Он умер через две недели, во сне. Когда я позвонила Елене Викентьевне и сказала ей, что случилось, она стала причитать:
— Бедный, бедный Девятнадцатый век!
Тогда же было вскрыто завещание. Ей досталась дача под Версалем, мне — все остальное. Я стала приводить в порядок его бумаги, сдала гостиную и столовую, стала жить дальше.
Много позже, уже после войны, я узнала, что все три ящика его книг сгорели где-то по недоразумению.
3
Прошло два года после смерти Дмитрия Георгиевича, война кончилась, и я начала получать письма из разных стран мира по поводу различных дел, связанных с его работами. Слава его была велика. Калифорния запрашивала о покупке его архива, из Лондона было письмо о переиздании его работ; были письма из Норвегии, Голландии и Канады, и я уже стала привыкать к этим запросам, и так естественно было получить письмо из Стокгольма, но когда пришло письмо со шведской маркой, на меня нашло какое-то затмение, я сказала себе: это от Эйнара! Наконец-то это от Эйнара! Но письмо было от Ольнерса, шведского издателя; он спрашивал меня, не напишу ли я биографию Дмитрия Георгиевича, или еще лучше — книгу о нем, о моей с ним жизни (Min liv med...) и о его смерти, и не приеду ли я для переговоров в Стокгольм, где, между прочим, лежат в банке авторские Дмитрия Георгиевича за все сочинения его, изданные и переизданные за последние не то восемь, не то девять лет. Деньги эти переслать нельзя, но их можно получить лично. Я ответила, что как только будет возможно, я приеду.
Два мои письма к Эйнару вернулись за ненахождением адресата. Это показалось мне странным. Больше я не писала ему. Но я думала о нем все время. Я теперь опять работала в газете, и опять вокруг меня было много людей, друзей — близких, или просто знакомых, начиналась опять прежняя деловая и разнообразная в своей текучести жизнь, прерванная событиями. Я разучилась стирать, шить, гладить и готовить, иногда вздрагивала от телефонного звонка, от прихода почтальона. И с холодным, тяжелым любопытством думала о своей поездке в Стокгольм. Мне казалось, что если он переехал в Бразилию, я там об этом узнаю.
Мне с самых ранних лет юности думалось, что у каждого человека есть свой по man's land [Ничейная земля. (англ.) здесь: тайная, личная зона.], в котором он сам себе полный хозяин. Видимая для всех жизнь — одна, другая принадлежит только ему одному, и о ней не знает никто. Это совсем не значит, что, с точки зрения морали, одна — нравственная, а другая — безнравственная, или, с точки зрения полиции, одна — дозволена, а другая — недозволена. Но человек время от времени живет бесконтрольно, в свободе и тайне, один или вдвоем с кем-нибудь, пусть час в день, вечер в неделю или день в месяц, он живет этой своей тайной и свободной жизнью из одного вечера (или дня) в другой, эти часы существуют в продолжении.
Эти часы либо что-то дополняют к его видимой жизни, либо имеют самостоятельное значение; они могут быть радостью или необходимостью, или привычкой, но для выпрямления какой-то «генеральной линии» они необходимы. Если человек не пользуется этим своим правом или вследствие внешних обстоятельств этого лишен, он когда-нибудь будет удивлен, узнав, что в жизни не встретил самого себя, и в этой мысли есть что-то меланхолическое. Мне жаль людей, которые бывают одни только у себя в ванной комнате, и больше нигде и никогда.
Инквизиция или тоталитарное государство, к слову сказать, никак не могут допустить этой второй жизни, ускользающей от какого бы то ни было контроля, и они знают, что делают, когда устраивают жизнь человека таким образом, что всякое одиночество, кроме одиночества ванной комнаты, не допускается. Впрочем, в казармах и тюрьмах часто нет и этого одиночества.
В этом по man's land'e, когда человек живет в свободе и тайне, могут происходить странные вещи, могут случаться встречи с другими такими же, как он, или может быть прочитана и особо остро понята какая-нибудь книга, или услышана музыка, тоже не по-обычному, или может прийти в тишине и одиночестве мысль, которая впоследствии изменит жизнь человека, погубит его или спасет. Может быть, в этом по man's land'e люди плачут, или пьют, или вспоминают что-нибудь, о чем никому не известно, или рассматривают свои босые ноги, или стараются на лысой голове найти новое место для пробора, или листают иллюстрированный журнал с изображениями полуголых красавиц и мускулистых борцов, — я не знаю, да и не хочу знать. В детстве и даже в юности (как, вероятно, и в старости) мы не всегда имеем потребность в этой другой жизни. Только не надо думать, что эта другая жизнь, этот по man's land есть праздник, а все остальное будни. Не по этой черте проходит деление, оно проходит по линии абсолютной тайны и абсолютной свободы.
Наша с Эйнаром встреча произошла в по man's land'e. Затем случилось то, что иногда бывает: вторая жизнь выросла и начала заслонять первую. Мы были с ним тогда в той стадии любви, когда мысль о чем-либо другом не допускается. И мы оба знали, что такое абсолютная тайна и абсолютная свобода. В начале наших отношений мы уже говорили об этом, о заповеди: «Помни день субботний; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмый — суббота»,— бери его у самого себя для самого себя; и у каждого из нас была эта «суббота» (одна для обоих), которую мы для отличия шутя называли «вторником». «Право на вторник» — было наше тогда выражение. А ведь люди борятся за свой «вторник»! Пусть декретом всем, всем, всем будет дарован «вторник»! И мы смеясь говорили друг другу: ты — мой «вторник», пока не увидели однажды, что вторник становится всей неделей.
Сейчас мой по man's land по-прежнему был населен мыслями об Эйнаре. Все сводилось к трем вопросам: жив ли он? увижу ли я его когда-нибудь? любит ли он меня еще? Я старалась не давать этим мыслям разрушить мою основу — мою работу, мои взаимоотношения с другими людьми, часто не совсем простые, и на эту борьбу уходили все мои душевные силы. А внутри меня, в пределах моей второй жизни, эти часы тревоги, отчаяния и надежд продолжали оставаться моей тайной собственностью. Я была, как всегда в жизни, полной и единоличной хозяйкой моего по man's land'a.
Наконец, пошли поезда, открылись границы, установился порядок приездов и отъездов. Через оживавшую, деловитую, чистую Бельгию, через разбитые города Германии — словно посудная лавка после землетрясения были для меня тогда и Кельн, и Дюссельдорф, и Гамбург, — в туманы поздней осени, встретившие меня в Дании, со всей поэзией ночной жизни спального вагона, когда просыпаешься в голубом свете поющего фонарика и под мирное поскрипывание чего-то совсем домашнего или даже детского, будто летишь в бездну — уже не домашнюю и не детскую, а очень даже страшную, которая никогда не забудется и сыграет таинственную и железную роль в твоей судьбе. И вечерний пароход в огнях, отплывший из Копенгагена в Мальме, где я сидела над стаканом вермута, жуя какие-то соленые печенья, глядя на темное холодное море подо мной, а три датчанина, севшие еще днем во Фленсбурге в мое купе и принимавшие меня за француженку, говорили мне, что я не могу оценить всей прелести севера, тумана, дождей и напрасно еду в Стокгольм, где в это время года меня ждет дурная погода, скука и хмурые люди.
В эту последнюю ночь я не сомкнула глаз. Проводник время от времени громко кричал в коридоре: Линчопинг! Норчопинг. Нючопинг! Поезд на минуту останавливался и мчался дальше. В окне мелькали пятна снега под черными елями, деревни и города, где люди крепко спали под северными звездами, которые сияли и горели во сто раз ярче, чем над Парижем. Начался слабый северный рассвет, воздух осторожно из черного стал серым; деревянные дома и сараи, крашенные в темно-красную краску, под елками, замелькали огнями, шел дым из труб; и вот в коридоре началось движение, люди вставали, шли умываться, запахло кофеем; румяная женщина, улыбаясь и приседая, принесла мне плетеную плоскую корзинку с завтраком, и когда я открыла ее, в ней на маленькой сковородке еще шипела глазунья, обложенная копчеными сосисками, которые прыгали, как живые, в кипящем масле.
В утренних сумерках, вдоль улиц, горели фонари, и трамваи, светясь розовыми огнями, шли вверх и вниз по Вазагатан, не переставая звонить. Такси вынес меня на набережную, и справа, за мостом, вся суровая, гранитная, строгая красота Стокгольма мелькнула на минуту у меня в глазах. Вода была темно-серая, и небо было темно-серое, и ярко одетые дети, идущие в школу, казались нарочно рассыпанными по всему городу, чтобы сделать его веселей, пестрей, не таким серьезным. Мое безумие тех минут доказано тем волнением, которое охватило меня при входе в Гранд-Отель, когда великан в галунах подал мне записку: вчера вам звонили по телефону. Уже через секунду я сказала себе, что никто, кроме Ольнерса, не мог знать, что я приезжаю, что этот укол в сердце был чистейшим сумасшествием, и конечно, так оно и было. Ольнерс желал мне «вилкоммен» и сообщал, что он в моем распоряжении завтра с одиннадцати часов утра.
Освободилась я только в три часа, после завтрака с Ольнерсом, с тем, чтобы вечером быть у него и познакомиться с его женой и сыновьями. Выйдя из издательства, я свернула на Кунгсгатан, перешла через мост и медленно стала спускаться к Мэлару, где на набережной, в огромных, видимо, не так давно отстроенных домах, занимавших целый квартал, жил Эйнар и где он теперь явно не жил, раз мои письма до него не дошли. Летом, вероятно, здесь, во внутренних дворах, холят и стригут крошечные квадратики яркого газона, сейчас, в тишине и пустынности, здесь не было ничего, дул сильный ветер, набережная была величественна и сурова, на противоположном берегу, в сыром осеннем тумане, горели цепью фонари, впереди, в черноте ноябрьского дня, висел мост, длинные баржи выходили из-под него, уплывая в Балтийское море, и свет, качавшийся на них, будто капал в черную воду, капал, и пропадал, и возникал опять в воде, и пахло северным приморским городом, какая-то петербургская ностальгия была разлита в этом ампире родственных нам дворцов, в этом холодном молчании широкого водного пространства, и в благородстве набережной, и в тяжелом небе. Северо-восток. Письма не доходят до северо-востока. Люди не возвращаются с северо-востока. Враги пришли с северо-востока и ушли на северо-восток. И я сама сейчас на северо-востоке. И вся моя воля уходит на то, чтобы не сделать, не ступить какого-нибудь окончательно непоправимого шага.
Подъезды А, В, С, и так далее. Наконец я нашла подъезд К. Там, налево от широкого входа, у лифта висела доска, и, как это иногда бывает, прежде чем в самом деле прочесть его имя на ней, среди сорока других имен, я уже увидела, что оно там есть. Да, Эйнар жил здесь по-прежнему, и квартира его была номер 16; но к его имени на доске было прибавлено «ок фру», что означает «и госпожа», что означает «э мадам», что означает «энд миссис», что означает «э синьора». И еще это означает «унд фрау». Когда я исчерпала все языки, какие знала, я должна была сесть на длинную бархатную скамейку, которая стояла здесь для удобства ожидающих лифта, потому что, несмотря на современность и, так сказать, «модерность» постройки этого дома, лифт, как мне показалось, был устройства несколько старомодного: он спускался и поднимался очень медленно, время от времени в нем что-то щелкало и даже вздыхало. Только не надо делать поспешного заключения, что я на нем куда-то поднялась, я просто слышала, сидя на скамейке, как он действовал, когда в нем спускались какие-то три барышни, одинаково одетые, в чудных калошах, которые были так совершенны в калошном смысле, что удивительно, как до сих пор этот предмет не был воспет в поэзии. Поэты, где ваши глаза? Шведские калоши ждут от вас поэмы, так же, как и непромокаемые плащи с удобнейшими капюшонами и прорезиненными чудо-перчатками. Не забудьте заодно и теплые штаны, которые здесь все носят с августа по июнь, — они тоже ждут от вас оды.
Когда я вышла из оцепенения и перестала бормотать пошлейшие глупости, я взглянула на часы. Было четверть пятого. На улице теперь было совершенно темно, шел дождь пополам со снегом, и мне необходимо было немедленно вернуться к действительности: ехать в Нордиск Компаниэт покупать себе калоши, перчатки, плащ — одним словом, все, что полагалось. Я это и сделала, взяв такси, и, вернувшись домой с покупками, я долго лежала в горячей ванне, испытывая странное чувство абсолютной уверенности, что никто не придет, никто не позвонит, что никто никогда не узнает, о чем я сейчас думаю и какие решения принимаю.
В тот вечер я вернулась домой около часу, кроме семьи Ольнерса было еще человек шесть гостей, и, кажется, все пригласили меня к себе, фамилии и адреса были записаны у меня в календарике. Это была гостеприимная Швеция, которая хотела развлекать, кормить, ласкать и одаривать меня.
Однако никаких решений принимать было не надо. Привыкнув жить в громадном городе, жить — когда того хотелось — совершенно незаметно, я не представляла себе, какой небольшой город Стокгольм, я не могла знать, что в нем всего два или три места, где принято ужинать или бывать вечерами, что если остаться в нем на неделю, то кое-кто из жителей даже может примелькаться, и что здесь часто видишь, как знакомые встречаются на улицах, что бывает в Париже так редко. Свои дела я закончила через неделю, побывав за семь дней, вернее, вечеров, в семи различных домах, на семи различных приемах, на которых, впрочем, встречала все одних и тех же людей; получила на руки большие (по моим понятиям) деньги и даже получила разрешение на их вывоз. В этот последний вечер я была в опере на «Риголетто» со всей семьей Ольнерса — женой, сыновьями, невестками и внуком — и была вся с ног до головы одета во все новое, только что купленное: белье, чулки, туфли, платье и даже меховую шубу. После спектакля мы всей гурьбой и довольно шумно пошли в ресторан, тут же в здании Оперы, огромный полутемный и уютный, где среди нарядных и тоже шумных людей нас усадили за длинный стол. Когда все мы расселись и перед тем, как метрдотель принес карточки, я не только увидела Эйнара совсем близко от себя, но я совершенно естественно встретилась с ним глазами. Он, не спуская глаз с моего лица, начал вставать со стула, медленно, держа в руке салфетку, растянув рот в противоестественную, неприятную улыбку, совершенно для меня новую; потом он уронил салфетку на стул и пошел ко мне, и тут я увидела, что он овладел с собой: на слегка постаревшем лице его изобразилось то, что он хотел, что старался изобразить: приятная неожиданность при встрече со старой знакомой. Лицо его стало снова прежним.
Разговор за его столиком замолк, и мне в те мгновения показалось, что вокруг меня тоже внезапно воцарилась тишина. В этой тишине я увидела себя со стороны — это бывает со мной очень редко, и я не люблю этого, это длится обычно несколько секунд, но ощущение бывает мучительным: вот я сижу в новом платье, моя новая сумка лежит у прибора, черные волосы парикмахер остриг коротко и зачесал назад, открыв лоб и уши, от меня пахнет новым духами, я их чувствую; моя левая рука лежит на скатерти, правая трогает стакан, я вижу кольцо с топазом. «Сейчас она улыбнется и заговорит»,— думаю я о самой себе и стараюсь прекратить это раздвоение. Оно проходит само.
Очень полная, очень крупная дама и человек за столиком Эйнара обернулись на меня. Я увидела ее и еще лучше я разглядела ее, когда мы обе встали и, встретившись на полпути между столиками, как-то развязно и радостно поздоровались. Начались восклицания: Ольнерс прекрасно знал Эйнара, но давно (т. е. месяца два, кажется) его не видел. После недолгого беспорядка, когда все метались и стулья скользили между столами, столы сдвинули, все разместились, улыбаясь и пожимая друг другу руки; ломаная французская речь полилась вокруг, и подняты были рюмки — за меня, за Россию, за Францию, за будущую книгу о Дмитрии Георгиевиче, которого Ольнерс сравнил с Менделеевым в короткой, но очень ловко импровизированной речи.
Жена
Эйнара была русая, голубоглазая великанша
с круглым кукольным лицом, с круглыми
большими щеками, выдававшимися немного
вперед, напоминающими толстого ангела
или — пожалуй — ангела, дующего в трубу.
Соединение Рубенса и Беллини. Она
двигалась медленно, как подобает женщине,
которая не только больше всех остальных
женщин, но и больше многих сидящих вокруг
мужчин. Она несколько мгновений
рассматривала меня и потом, без малейшей
тени смущения, громко сказала:
—
Эйнар,
почему ты мне сказал, что она похожа ни
китаянку? В ней вовсе нет ничего
китайского!
На следующий день я не уехала, а уехала только через четыре дня. Четыре вечера я приходила к ним, днем мы бродили с Эммой по городу, ездили в Скансен, были на могиле Стриндберга и смотрели на громадный деревянный крест с золотой надписью. Мы даже забрели однажды под вечер в Тиволи, где стреляли в цель, играли на биллиарде и смотрели уродов. Она мне призналась, что оба мои письма она отправила обратно потому, что не хотела, чтобы Эйнар, который так счастлив с ней и для которого, со времени встречи с ней, прекратились все душевные бури, возобновил со мной переписку. Они оба дружно постарались устроить свою жизнь в мире и любви, «мы принимаем осень и принимаем весну, — выразилась Эмма, — как все в природе, и оба любим хорошую погоду и радугу в небе». Они были женаты уже пять лет, и не думайте, сказала она, держа в руке сладкий пирожок, что мы погрязли в нашем разумно устроенном семейном счастье и никогда не вспоминаем о прежних друзьях, у меня у самой в Италии есть очень, очень близкие люди, дорогие люди, друзья моей безгрешной молодости (она не шутила), и все эти годы войны и Эйнар, и я столько беспокоились, столько терзались... особенно эти лишения, и когда бомбардировки... Ведь у нас здесь все было всегда; конечно, винограда весной не привозили, но разве это важно? Скажите мне, я хочу знать, важно ли для вас, что весной нет винограда?
Вечерами я приходила к ним, и мы сидели все вместе — Эмма, Эйнар, доктор Маттис и я, в жарко натопленной комнате, в низких креслах. Говорила больше всех я: об этих годах, о Дмитрии Георгиевиче и холодном камине, перед которым он часто сидел в последнее время, — а тут пылал камин толстыми березовыми поленьями, такими сухими, что они занимались от одной-единственной спички, — о четырех посещениях, о сгоревших по недоразумению книгах, о нашем чтении вслух вечерами, при свечах, о том, что не хватало жиров и бывало зимой очень холодно, о важной роли, которую играют шерсть и сало в человеческой жизни. Потом я спохватывалась, мне вдруг казалось, что не надо вдаваться в такие подробности, что лучше рассказать им о докторе Венгланде и о том разговоре, который был в кабинете Дмитрия Георгиевича при закрытых дверях. Донес он или не донес? — это оставалось для меня загадкой. «Конечно, донес», — сказала Эмма твердо. Доктор Маттис сказал: «Может быть, проговорился», а Эйнар молчал и курил. И так я говорила и говорила, а они слушали, и я рассказала про строфант, и сказала, что Дмитрий Георгиевич мог бы прожить дольше и, может быть, дожить до конца, если бы я положила тогда строфант в чемодан. «Ни в коем случае!» — сказала Эмма. «Очень сомнительно», — сказал доктор Маттис. Поздно ночью мы ужинали холодными цыплятами и белым вином, и свежей клубникой, которая в это время года была еще большей редкостью, чем виноград весной. И все это было возможно тогда потому, что там, у лифта, в первый день стокгольмской жизни, я приняла решение никогда Эйнара больше не видеть.
С Эйнаром за все эти четыре дня она меня вдвоем не оставила, и телефонного звонка от него тоже не было, и если я, несмотря на принятое решение, ждала ее разрешения на это, то его не получила. Они все трое пришли провожать меня на вокзал, и мы гуляли с Эммой по перрону, в то время как доктор Маттис и Эйнар пошли искать по вагонам, не едет ли в этом поезде какой-то Густафсон, который как будто собирался сегодня в Антверпен. Эмма и я ходили по перрону и говорили о том, что через год, может быть, можно будет поехать в Италию, пожить во Флоренции, в Венеции, в крайнем случае — через два года. Она смотрела на меня пристально, будто примериваясь ко мне, будто что-то в уме прикидывая и соображая, и успела мне сказать, что я «ужасно» понравилась ей, что она не ожидала, что я такая милая, веселая и еще какая-то, и я чувствовала, что все происходит и будет происходить в дальнейшем так, как решит она; потом мы смеялись над какой-то ее французской ошибкой, и она меня учила, как надо протестовать по-шведски, если ночью проводник опять будет мешать мне спать криками: Линчопинг! Норчопинг! Нючопинг! Густафсона они не нашли, я стала на площадке и пожала руки всем троим, и в последнее мгновение перед отходом поезда вдруг появился посыльный с горшком белой сирени от Ольнерса — белой сиренью в ноябре, что было драгоценнее и земляники, и винограда весной.
Итак, едва знакомая женщина, с лицом херувима, улыбаясь и угощая меня, не дала Эйнару ни минуты остаться наедине со мной, не дала ему позвонить мне (я подозреваю, что все эти дни он не был у себя в конторе); ничуть не смущаясь, она объявила мне, что она отослала оба мои письма обратно, приглашала меня к себе, уговорила Эйнара и доктора Маттиса приехать на вокзал — и результаты этого отношения были совершенно те же, как если бы она заперла своего Эйнара на ключ, или посадила бы меня в подвал гестапо, или под замок в роскошный номер роскошной гостиницы. В то время как я бегала по музеям, магазинам, чужим гостиным, я была у нее под стражей; среди всей этой осенней меланхолической красоты черного Мэлара, в огнях несущего петербургскую ностальгию «полукитаянке, полуфранцуженке» (так она смеясь называла меня), у меня здесь было не больше no man's land'a, чем у Дмитрия Георгиевича где-нибудь в «Мажестике» или «Бристоле»; только я не умерла, как он, потому что была вдвое моложе и питалась земляникой, осетриной и рябчиками, запивая все это пуншем.
Но от бессильной злобы теперь, в жарком ночном вагоне, я чувствовала, что перехожу к жестокой обиде на Эйнара за то, что он ничего не сделал, чтобы побыть со мной хотя бы один час где-нибудь, свободно и тайно, чтобы сделать меня опять своим «вторником» на один-единственный раз. Разве нужно было что-либо объяснять мне? Разве и так все не было ясно? Ждал два года, война затянулась, женился, устроил свою жизнь (она вчера сказала: пришлось мне переехать к нему, здесь у нас ни за какие деньги вот уже сколько лет нельзя найти квартиру, вот и живем в тесноте, часть мебели на складе); женился и теперь, с Эммой вместе, «принимает и осень и весну».
Нет, объяснять ничего не надо было, и вспоминать прошлое не надо было, но, может быть, можно было побыть вместе? И я представила себе вдруг это «побыть» и поняла, что оно было ему совершенно не нужно. Оно было нужно только мне, чтобы сказать ему: а знаешь, Эйнар-дружок, ты ведь под башмаком у своей Эммы, она и писем-то твоих тебе не передает! И в это время, в бессильном и горьком отчаянии, я почувствовала, что вся горю от злобы, горя, обиды. А в коридоре кричал проводник, и мы где-то стояли.
И все-таки я любила его, я только его и любила, и сколько я ни повторяла себе, что он меня совершенно не хочет, я от этого меньше его не любила. Я, может быть, еще больше любила его после свидания в Стокгольме, вся жизнь была полна моей безнадежной к нему любовью, которая мешала мне устроить собственную судьбу и накладывала на все мои дни и ночи тяжелый груз, от которою я не могла, а может быть и не хотела, отделаться.
4
Вернувшись домой, я сразу окунулась в деловую послевоенную жизнь и почувствовала, что эту жизнь надо разумно построить. Прежде всего я решила отделаться от старой квартиры на бульваре де Курселль, где вполне естественно было жить Дмитрию Георгиевичу до «той» войны, но где мне жить совершенно не годилось. Я обменяла это огромное, темное, старое русское жилье на маленькую квартиру на Левом берегу и с помощью Елены Викентьевны разобрала старые русские вещи. Квартира эта была снята еще до «той» войны («в эпоху метрических фильтров и волнового метода», как выражался Ольнерс), и сюда тогда же были перевезены кое-какие вещи из Петербурга женой Дмитрия Георгиевича и моей матерью.
— Все это — археология! — говорила Елена Викентьевна, продавшая версальскую дачу, открывшая собственную шляпную мастерскую и собиравшаяся замуж. — Тут наслоения целых эпох! русское серебро пудами! картина Коровина с надписью! подарок Чичибабина— мраморный мальчик, вынимающий знаменитую занозу из пятки... У Ипатьева был совсем другой вкус: ведерко для крюшона, выгравированы какие-то даты... Люди, что называется, жили! Бенуа — этюд Фонтенбло, это уже после «той», между «той» и «этой».
— Он бывал у нас. Я его помню.
— Кто тут не бывал! Воображаю! Подушка вышитая...
— Это подарок вдовы Мечникова, всего каких-нибудь двадцать лет тому назад. В день его рождения.
— Смотрите: группа! Две дюжины старушек!
— Это «университетские женщины».
— Царица небесная!
До писем и рукописей она не дотрагивалась, она с трепетом смотрела, как я складываю их в ящики, но книги, стоявшие в шкафах, в передней, она помогла мне разобрать. Здесь были многие с надписями, — книги его современников, родившихся, как и он, в 60-х, а то и в 50-х годах прошлого века. Многих из тех, что их когда-то писали, я знала, кое-кто умер совсем недавно, кое-кто умер перед самой «этой» войной. Живых уже не было. А.А. Плещеев, позже ослепший, ходивший с белой палкой, в лохмотьях, в детстве видавший Достоевского, на своих «Воспоминаниях» надписал «Солнцу нашей науки!» и поставил длинную кляксу. Елена Викентьевна даже прослезилась. «Я помню, как он ходил по городу, — сказала она со вздохом, — останавливался на углах и говорил «траверсе муа», и как один раз ему подали милостыню... Солнце нашей науки!»
Все пошло легко и споро с того дня, как я решила одну их трех комнат будущей квартиры отдать целиком прошлому Дмитрия Георгиевича. Труднее всего было с двумя огромными картинами неизвестных художников: «Прием посетителей губернатором» и «Похороны купца второй гильдии» — их в конце концов забрал старьевщик, и их не было жаль, но кое-чего было жаль, я умолила Елену Викенгьевну взять себе и вышитую подушку — копия гладью Сикстинской мадонны — и крюшонный сосуд, и мальчика, вынимающего занозу. Тележка старьевщика стояла внизу, на улице, и на нее «антиквар» (как величал он себя) грузил потертые до основы ковры, просиженные кресла, звенящие люстры, драпировки с кистями, бронзовый письменный прибор, медную посуду, на моей памяти никогда не употреблявшуюся. Потом Елена Викентьевна на такси увезла две корзины, и уже в сумерках явились перевозчики и повезли ко мне то, что еще могло мне служить в двадцатом веке. На новом месте я вечерами, когда приходила из редакции, убирала и раскладывала по шкапам все, что должно было позже уйти в Калифорнийский университет. И так как на новом месте не было ни камина, ни настоящей кухонной плиты, то все двадцать два аккуратно перевязанных пакета писем (главным образом — семейных) мне пришлось отвезти однажды вечером к одним друзьям, у которых была в старом доме настоящая печь, и в ней мы долго их жгли, меланхолически помешивая кочергой легкий, тлеющий пепел.
Потом побежала жизнь. И только мой по man's land оставался тем же, чем был: мысли об Эйнаре, мысли о далеком прошлом и о совсем недавнем, мысли об Эмме, о Стокгольме, о моем будущем, которое мне казалось невозможным без него и неосуществимым с ним.
Эмма иногда писала мне. Ее письма были смесью французского с немецким и главным образом были связаны с временами года: снегу много, во дворе у нас дети вылепили бабу — какой симпатичный обычай, не правда ли? Дни становятся длиннее — это нам всегда дает энергию и бодрость, зима не вечна, говорим мы себе. Скоро Пасха, желаем вам веселых праздников! Наступают теплые дни, и мы едем на месяц в шхеры — чудно будет отдохнуть от суеты города, пожить среди природы, со своими мыслями; иногда полезно бывает глубоко подумать о чем-нибудь, я уверена, что вы тоже любите это. Белые ночи, если бы вы были здесь, напомнили бы вам ваше детство, но к ним вам надо было бы привыкнуть. На некоторых они действуют дурно. Доктор Маттис с нами, мы купаемся и катаемся на лодке и очень приятно проводим время. Эйнар говорит, что ему немножко скучно, но я не верю ему, он выглядит прекрасно и завел большую собаку, датскую, породистую, — не кажется ли вам, что в животных есть что-то облагораживающее? Сегодня затопили, были уже заморозки. В городе туман пятый день, я сижу с насморком дома. В болезни есть то хорошее, что вдруг находится время прочесть хорошую книжку... Поздравляем с Рождеством! Желаем все трое счастливого Нового Года! Надеемся в новом году увидеться!.. И потом опять: желаем веселой Пасхи! Думаем ехать летом в Италию. И еще через месяц: решили прожить месяц в Венеции. Берите отпуск, приезжайте к нам. И письмо от начала июля: мы сняли квартиру около Сан-Заккариа, для вас есть комната.
Я села к столу, взяла лист бумаги, перо и, чувствуя, как лгу каждым словом, написала:
«Дорогие Эмма и Эйнар! Спасибо за приглашение. Рада буду увидеть вас обоих и провести неделю у вас. Взяла отпуск и буду пятнадцатого; кажется, поезд приходит вечером. Если доктор Маттис с вами, передайте ему привет. Ваша...»
Я так и написала «ваша» и делала это совершенно машинально. Я вообще в те дни старалась не думать: если начну думать, то непременно благоразумно останусь в Париже и потом буду себя казнить. Это судьба ласково опускает мне подножку в своем старинном экипаже и просит меня садиться, а если думать и думать всерьез, то додумаешься до скверного каламбура: судьба просто дает мне подножку, чтобы повалить, положить на обе лопатки, прижать... Я даже говорила себе иногда: не слишком ли я всю жизнь много думала? Другие не думают и живут счастливо. Дай-ка дам себе волю раз в жизни не думать. Примем за чистую монету это приглашение, не будем задумываться, зачем оно, примем Венецию, как принимают подарок — без того, чтобы непременно из коробки конфет или букета цветов выползла змея или вылетела летучая мышь.
У меня о Венеции было единственное детское воспоминание, было это до «той» войны, и мне было лет пять. Кстати, это, пожалуй, единственное воспоминание детства, непосредственно связанное с Дмитрием Георгиевичем. Правда, ребенком я всегда слышала: Дмитрий Георгиевич приехал, Дмитрий Георгиевич работает, Дмитрий Георгиевич ушел по делу, но прямо с ним я никаких отношений не имела. Между тем в Венеции я помню один вечер. На небольшом балконе, вероятно, не слишком высоко, но мне казалось, что мы сидим на высокой башне, было поставлено два стула. На одном сидела я, на другом — в чесучовом пиджаке и панаме Дмитрий Георгиевич, с толстой книгой в руке. Вероятно, это была гостиница на Лидо, где мы тогда оказались: он, его жена, моя мать и я. Вероятно, это был вечер исключительный, когда меня оставили с ним одну, потому что я не помню, чтобы это когда-нибудь повторилось. Широко открыв рот и вытаращив глаза, я слушала, как он читал мне вслух «Руслана и Людмилу». Вероятно, он решил, что мне пора познакомиться с русской литературой.
— Я прочту вам, то есть тебе, — так приблизительно он начал свое предисловие, — гениальное произведение гениального русского поэта. У Лукоморья дуб зеленый. Вы, то есть ты, поймешь когда-нибудь, так сказать, всю силу этого выражения: Лукоморье! Мы сейчас у моря, проводим время, так сказать, летние каникулы, но это еще не есть Лукоморье. Златая цепь на дубе том. Об этом в свое время было много споров, потому что есть две теории, откуда, так сказать, могла эта цепь появиться. Друиды, как вы знаете, т. е. знаешь, м-да, жили под дубами. Но тут имеется кот, который, с одной стороны — кот народный, древний, о котором много интересных фактов сообщил мне в свое время покойный Александр Николаевич, а с другой стороны — кот этот символический. Продолжаем: И днем и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом.
Дальше пошло уже без комментариев, но зато и дошло до меня очень немногое. Ученый кот остался в памяти , и вся картина запечатлелась приблизительно таким образом: на высокой башне, у какого-то Лукоморья, сидим мы с Дмитрием Георгиевичем, у меня не закрывается рот и внутри все пересохло от восторженного удивления и благоговения, так как Дмитрий Георгиевич сообщил мне новость: в Венеции, с древних времен, проживает некий ученый кот. И видимо, этот кот прекрасно известен Дмитрию Георгиевичу.
Кроме этого, я о Венеции не помнила ничего, и когда пароходик повез меня от вокзала по Большому Каналу, и слева и справа от меня стало мне открываться почерневшее от времени каменное кружево дворцов, я почувствовала себя заброшенной в иное измерение, где все вдруг стало легким, кружевным, воздушным, где нельзя было (да и не хотелось совсем) мерить жизнь и себя в ней прежними мерками, где все вдруг стало другим, невозможное — возможным, тяжелое — легким, безнадежное — печальным и радостным вместе. То тут, то там между домами открывались узкие каналы, крошечные над ними мосты, церкви, тающие в сумраке; бледно-розовые в розовом воздухе, ноги неподвижно сияли или будто реяли над водой; какие-то совсем не наши, волшебные, звездно-зеленого цвета огни скрещивались с ними. Чувство странной подводной медлительности наполнило меня всю, чувство особенного, никогда прежде не испытанного замедленного ритма, где слились с движением пароходика мое дыхание, все мои движения, где проплывала мимо нас в грустной созерцательной неподвижности старость и нищета дворцов, смотрящих на воду и на меня в непостижимой прелести и задумчивости.
Когда слева все в том же удивительном ритме скрещивающихся огней и теней открылась широкая набережная с Дворцом Дожей, а справа — полная неведомого ночного смысла лагуна, я почувствовала прилив почти нестерпимого счастья при мысли, что через несколько минут увижу Эйнара и он будет со мной в этом колдовском сумеречном мире. Когда пароходик остановился у пристани, меня повлекло к выходу. Мальчик-носильщик одной рукой схватил мой чемодан, а другую положил мне на плечо и повел меня перед собой. Я ступила на землю. Эмма раскрыла широкие объятия, доктор Маттис стоял рядом с ней. «Это — Марио», — сказала она, представляя мне кого-то. Я взглянула, за ее плечом стоял Эйнар. «Ах, как хорошо, что вы приехали! — закричала она. — Ах, как все будет чудесно! Эйнар, поцелуй же ее, ты же ужасно ей рад! И мы так давно не виделись!»
Он послушно нагнулся и поцеловал меня в щеку. Это случилось так быстро, что я не успела ни сказать что-нибудь, ни сделать движения в сторону. Доктор Маттис стоял и смотрел на нас обоих. Он показался мне не в духе.
Квартира выходила одной громадной комнатой на тихую площадь с церковью, большая спальня Эммы и Эйнара — в игрушечный сад за домом. Доктор Маттис, прислуга и я помещались в крошечных комнатах по коридору, смотревших во внутренний двор, где журчал маленький фонтан, у которого день и ночь стирала белье какая-то женщина. Из комнаты в комнату вели ступеньки, казалось, что часть квартиры — дом, каменный, старый, а другая часть — только пристройка, прилепившаяся к нему. В большой комнате, где мы ужинали и где долго потом сидели, был тот же спокойный порядок и прочный северный уют уже обжитого места, который Эмма, видимо, всюду возила с собой. Но что было новым, так это присутствие Марио, про которого Эмма сказала мне, что он давний друг ее молодости, что еще до войны она знала его во Флоренции, где она одно время училась живописи; было это до «этой» войны, и теперь он приехал в Венецию, чтобы повидаться и вспомнить прошлое. «У него уже четверо детей, — кричала Эмма, — Марио, покажи ей фотографии!»
Позже Марио ушел, и Эйнар (куривший теперь трубку, что позволяло ему говорить все меньше) очень основательно, как подобает гостеприимному хозяину, стал расспрашивать о моей жизни, о новой квартире, о новых знакомых, о работе. Эмма слушала, во взгляде ее появилась рассеянность. Доктор Маттис, который собирался завтра рано утром уехать в экскурсию, наконец ушел к себе, и скоро после этого я простилась тоже. Оставшись одна в своей комнате, где слышно было журчание фонтана, я зажгла свет, осмотрелась, увидела свои вещи, наполовину опустошенный чемодан, белые стены, половичок на полу, кисею на окне, какие-то милые, чистые предметы на комоде: пепельницу, бутылочку странной формы, пеструю салфетку, стакан радужного стекла. Завтра. Что будет завтра? Я присела на кровать и, еще раз взглянув вокруг, сказала себе, что приехала сюда в надежде остаться, наконец, с Эйнаром наедине, сказать ему, что я писала ему, спросить его, любит ли он меня, заставить его сказать мне, как все произошло; приехала сказать, что я по-прежнему люблю его, что я больше не могу продолжать так жить, не услышав от него ни слова. Неужели так-таки он смахнул меня, вытолкнул из своей жизни, без единого слова? А теперь? Почему они захотели, чтобы я приехала? Или он всегда хочет того же, что и Эмма?
Был десятый час, когда я проснулась и внимательно прислушалась к непривычным звукам: легкий звон посуды, женское пение,— должно быть, прислуга поет, — шаги по коридору вперед, назад; фонтан журчит, ведра гремят; голубь воркует где-то совсем близко. Я вскочила, умылась, оделась и вышла в столовую.
— А я вас поджидаю, — сказал Эйнар из кресла у окна, с английской газетой в руках, — будем пить кофе.
Мы сели друг против друга, и шведский завтрак появился на столе, все, что полагается, без чего Эйнар не мог жить и в Париже. Но подожди, подожди, сказала я себе, вдруг напав на какую-то совершенно новую мысль, разве так уж нужно было броситься тогда вон из Франции, 2-го сентября того страшного года? Разве необходимо было непременно, во что бы то ни стало кинуться со всех ног домой к отцу (похожему на короля Густава), русской нянюшке, брату, собиравшемуся в Бразилию, в мирную Швецию из загремевшей всеми пушками Европы? Разве никто тогда не остался среди нас из «нейтральных»? Разве был такой закон, что всякий должен водвориться на свое место? Нет, не было, по-моему, такого закона, он пришел гораздо позже. Я хорошо помню одного знакомого швейцара, который никуда не уехал, и я встретила его на Рождестве, было это в 39-м году, а может быть даже в 40-м. И была семья одного американского адвоката, которая продолжала жить на нашей лестнице, как это раньше не приходило мне в голову. Эта семья жила так до осени 1941 года, когда наконец уехала. Много позже на двери были наложены печати.
— Сейчас мы пойдем гулять, и я покажу вам все, все, все, — говорил Эйнар, — так до вечера буду вас водить всюду.
— Где Эмма?
— Эмма уехала с доктором Маттисом на Торчелло.
— Уехала! На весь день? Разве она собиралась?
— Она собралась в одну минуту, они и Марио с собой взяли.
Мне показалось, что мне расставлена какая-то ловушка, с самого начала была расставлена, в тот день, когда она писала: мы сняли квартиру, для вас есть комната! Нет, гораздо раньше, когда в Стокгольме, на вокзале, она, кажется, сказала: «И почему бы вам не приехать на время в Италию, когда мы там будем?»
Мы вышли с Эйнаром и не торопясь пошли по Рива дельи Скиавони к площади. В том напряжении, в котором я жила в тот день, я все время чувствовала его полное спокойствие, его внутреннюю свободу, уверенность, что все, что он делает, — правильно. Признаюсь, не противясь ему, я сама через час или два стала спокойнее и свободнее. Мы даже несколько раз посмеялись вместе. После завтрака, когда мы сидели у Флориана, он совершенно просто спросил, нет ли русских стихов, в которых бы говорилось про это.
— Про что? — спросила я и почувствовала внутренний испуг, что будет что-то похожее на объяснение.
— А про Венецию, — сказал он.
— Много есть, очень много, — ответила я, — когда-нибудь, не сейчас, я вам их все скажу.
— Я так и знал, — сказал он очень довольный, улыбаясь счастливо.
Под вечер Эмма вернулась домой одна.
— Мы не ездили на Торчелло, — сказала она равнодушно. — Когда мы пришли на пристань, не было мест, и доктору Маттису пришлось ехать одному, а мы с Марио поехали на Лидо, купались там и обедали. И меня ужасно обожгло, — она спустила платье с плеча, предплечье было воспалено.
Эйнар ушел куда-то, а мы с Эммой сели у стола и пили кофе. Она была весела, говорила много, мерила себе температуру (она любила мерить себе температуру ежедневно) и уверяла, что если у нее жар, так это от солнечного ожога. Но жара не было.
На следующее утро Эмма и Марио уехали на Торчелло («я свое всегда доберу»,— сказала она), и мы опять остались с Эйнаром одни.
Этот день и три последующих дня я вспоминаю теперь со смешанным чувством: в них было ожидание чего-то, чего я хотела так страстно, ради чего приехала, и какое-то неуютное, почти тревожное предчувствие, что то, чего я так жду, не должно произойти, что я не могу его принять, что в нем есть что-то от милостыни, которую мне кто-то протягивает в удобную для него минуту, и протягивает не мне одной, но нам с Эйнаром вместе. К этому примешивалось впечатление от всего виденного: пестрой толпы на площади св. Марка, вечного праздника огней и теней; сумерек школы св. Рока; сотен картин, виденных тогда — разверзтых туч с парящим Саваофом, и туфелек Урсулы, и уже хорошо знакомых мне ангелов Беллини, дующих в трубы. Эйнар был со мной, мы бродили в залах Академии, говорили и молчали, поднимались на горбатые мостики, сидели на площадях, иногда безымянных, на ступенях Фрари, опять бродили, и я уже твердо знала теперь, что все это нужно Эмме, которая все это устроила: и приезд краснолицего, широкоплечего Марио, и мой приезд.
На пятый день моего пребывания уехал доктор Маттис. У него было недовольное лицо, и он стал говорить со всеми нами как-то резко, почти грубо. «У него несчастный роман с англичанкой, — сказала Эмма насмешливо, — она, кажется, вчера уехала в Рим». Но я не поверила ей. Его отъезд ставил меня в тягостное и одновременно чуть-чуть смешное положение: мне не хотелось оставаться с ними втроем. «Вы не знаете, как мы относимся к вам, — сказала мне Эмма вечером, будто отгадав, что я собираюсь ускорить свой отъезд, — вы стали за эти дни совсем своя, и Эйнару так хорошо с вами. А я просто ужасно вас люблю». Она любила слово «ужасно», а я совсем не любила его. Поверила ли я ей? Нет, не поверила ни на минуту, но поверить было бы тяжело, а не поверить еще тяжелее. Мне теперь было ясно: с первой минуты моего приезда она дрессирует меня. Кот ученый жил в Венеции, вспомнилось мне, и мне не захотелось быть похожей на этого ученого кота.
Нельзя позволять ей трогать мою судьбу, давать или не давать мне пропуск в ту или иную часть моей вселенной, устраивать, как ей покажется удобным, мой собственный по man's land. Они уходят вечером с Марио в театр Фениче, и она небрежно, с напускной рассеяностью говорит, что сегодня будет полная луна и мы могли бы проехаться на Сан Джорджио Маджиоре. Если я послушаюсь ее, то, с ее разрешения, я наверное буду менее несчастна, но я не могу послушаться ее, уж как-нибудь я сама все решу и уеду отсюда. Она указываем мне дорогу, но я пройду другим путем. У меня есть мое, тайное и свободное, которым я владею и буду владеть, и там я не допущу ее вмешательства.
Я сижу у Флориана и долго смотрю на гуляющую толпу. Как когда-то, глядя на темный, военный Париж, я думаю: сколько здесь было страданий, мировых и русских страстей; есть тут капля и моего, самого маленького и самого большого страдания. Эйнар подходит к моему столику, у него счастливое лицо, он загорел, похудел и, помолодев, напоминает того, прежнего Эйнара. «Поедемте на Сан Джорджио Маджиоре, — говорит он, — у нас по крайней мере два часа свободы, пока они в театре». Эти слова ударяют меня, мне от них больно, меня от них коробит. «Два часа свободы, — повторяю я. — Свободы для чего?»
Он садится и, прежде чем заказать что-либо, жадно пьет из моего стакана остатки лимона и льда.
— Очень хочется пить,— говорит он. — Я все хочу вас спросить, почему вы ни разу не написали мне?
— Как вам сказать, — говорю я, — сама не знаю. Время прошло, все изменилось. Не легко было писать. Впрочем, я писала вам, но не отсылала писем.
Он смотрит на меня долго, он давно так не смотрел на меня.
— Что вы смотрите так на меня, Эйнар? Вы не знаете, можно или нельзя? Конечно, можно, раз вам позволили.
— Я не понимаю, о чем вы говорите.
Но я не отвечаю, и он, вероятно, по моему лицу видит, что я не поеду на Сан Джорджио Маджиоре. Он осторожно берет мою руку и держит ее в своих теплых, больших руках. Где-то играет оркестр, кругом продолжается праздник, здесь ходят люди, которым весело, но мне не весело, и... «ропщет мыслящий тростник».
— Вы знаете, Эйнар, — говорю я, не отнимая у него руки, — у меня в юности было однажды тяжелое разочарование (это я вам рассказываю о русских стихах), когда я узнала, что наш великий поэт Тютчев свою лучшую строку украл у одного француза. Я, собственно, до сих пор от этого не оправилась.
Он смеется, и я смеюсь, и тихонько отнимаю у него свою руку и придвигаюсь ближе к нему.
— Я завтра уеду, Эйнар, — и я смотрю на него внимательно и близко вижу его глаза, — и я хочу вам сказать на прощанье, что я кое-чему научилась за эти годы. Теперь, когда приоткрывается дверь или приподнимается решетка — слезы благодарности больше не душат меня, нет, не душат! Я не всякой возможностью пользуюсь и не всякому разрешению кланяюсь. После всего, что я видела, мне не хочется быть, даже в самом малом, той серой скотинкой, которую мобилизуют, муштруют, гонят куда-то, кормят пломбирами или морят голодом, наказывают или дают орден за хождение по струнке.
— Вас никто не наказывает и не кормит пломбирами.
— Я хочу сказать вам еще: если кому-нибудь дать разрешение устраивать твой по man's land, то в конце концов, логически рассуждая, дойдет до того, что тебя посадят в роскошный номер роскошной гостиницы, и сожгут твои книги, и прогонят от тебя всех, кого ты любишь. Только уступи — и не будет границы, где остановиться, все будет отнято; где предел, Эйнар? Где тогда будут тайна и свобода? Два городовых (один, между прочим, был чем-то похож на Марио!), следователь и судья — все поселятся на твоем участке.
Теперь он понял, я это вижу по его глазам. Он понял все, до конца, я слишком хорошо его знаю. Он даже понял, что я писала ему, что я люблю его. И что меня коробит от его спокойной радости, что ему все позволили. Вот проходит минута, другая, но он не отвечает мне ничего. Но я и не жду ответа: я ни о чем не спросила его.
Мы возвращаемся домой, и я начинаю укладывать свои вещи, а он молча сидит на подоконнике. Я ставлю будильник на половину восьмого, чтобы завтра утром не опоздать на поезд.
Когда они возвращаются из театра, Эмма удивлена:
— Вы дома? Вы никуда не ездили?
— Нет, — говорю я, — это как-то не вышло. Мы посидели у Флориана, а потом я укладывалась.
Мы все четверо идем в столовую, и там я замечаю, пока мы закусываем, что Марио и Эмма с плохо скрываемой неприязнью смотрят на меня. Я замечаю тоже, что между ними обоими пробегают какие-то искры. Когда она передает ему стакан, он кладет свою руку на ее пальцы, а Эйнар в это время говорит:
— Они расчистили первый слой, сняли краску, а под ней оказался святой Себастиан... Кто мог предположить такую историю!
«Как только они надоедят друг другу, или жена потребует возвращения Марио, Эмма с наслаждением прогонит меня, — думаю я и пью свой четвертый стакан. — Этой радости я ей не доставлю».
Я ухожу от них, говоря, что хочу лечь рано. Спасибо за все. И мы, может быть, когда-нибудь еще увидимся в Париже, если они приедут — не в этом году, конечно, и не в будущем, но, может быть, года через два? Эмма обнимает меня, мы звонко целуемся в обе щеки. «Прощайте, Марио, прощайте, Эйнар»,— говорю я.
Утром пароходик везет меня на вокзал мимо дворцов, по зеленой воде Большого Канала; я едва поспеваю к поезду, носильщик впихивает меня в вагон. Свойство Венеции: исчезать мгновенно, не бежать за поездом, не кивать то слева, то справа, как делают другие города, которые оставляешь, а куда-то проваливаться в один миг, будто ее нет и никогда не было.
1958
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





