ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
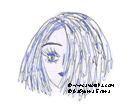
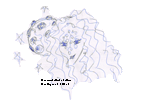

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Шульжук Зинаида 1966
Хлысты, резина, палки — что хотите,
Всегда побои, слезы, смерть и кровь.
Вы в памяти все это сохраните,
Как сохранили первую любовь.
Неизвестный поэт
из лагеря Заксенхаузен
Несколько раз наш барак пополнялся новыми узницами, я и мои одноэтапники были здесь старожилами. Мы уже усвоили, что от нас требовалось и что запрещалось, заучили по-немецки свой номер, изо дня в день ходили на работу и возвращались всегда замученные, голодные, продрогшие. На работу ходили в одно и то же время, но на разные участки. Кое-кто из моих подруг попал на швейную или ткацкую фабрику, некоторые — на фабрику «Сименс», большая группа, в том числе и я, трамбовала и расчищала лагерный двор.
На работе за нами неизменно следили ауфзеерки [Надзирательницы.]. В своих длинных черных накидках с капюшонами, с овчарками на цепи, они напоминали ворон, слетевшихся на добычу. Стоило одной из узниц на секунду остановиться с тачкой, как плеть надзирательницы опускалась на спину, плечи, голову подневольной женщины. И тогда приходилось хватать груженную шлаком тачку, бегом везти ее, напрягая последние силы, чтобы не разрыдаться, чтобы не упасть.
Холодный ветер сушил слезы, пронизывал до костей, колючие струи дождя, как иглы, кололи лицо, шею, сводили судорогой замерзшие пальцы. Мы дрожали всем телом, казалось, дрожит даже сердце, дрожит от холода и физической усталости, от обиды и возмущения и, главное, от бессилия, от невозможности что-либо изменить.
...Я рывком столкнула с места груженную доверху тачку и бегом покатила ее к ложбинке, куда высыпали шлак. Это была моя последняя тачка на сегодняшний день. Но я торопилась, чтобы помочь самой слабой из нас, Вере Ивановне из Луганска. Это была средних лет женщина, старшая среди нас и болезненная. Она как-то сразу упала духом и быстрее других теряла силы: работала вяло, медленно, редко когда выполняла норму вовремя. Ее почти каждый день били, а раза три травили собаками.
Однажды я рискнула помочь обессилевшей женщине. Когда тачка ее была наполнена шлаком, я стала рядом с Верой Ивановной, молча отстранила ее, поставила возле нее свою пустую тачку, а полную покатила вперед. Девушки с чувством волнения, испуга и благодарности наблюдали за нами. Я уже подъезжала второй раз, третий. Вот и сирена. Конец работы. Все вздохнули с облегчением. Вера Ивановна была очень взволнованна, глаза ее лихорадочно горели. Она отыскала мою руку и молча крепко пожала. Я улыбнулась в ответ: ведь разговаривать в строю не разрешалось.
...Ужин, отбой. Сон крепко сковал уставших телом и душой узниц. Ночью я и еще несколько девушек встали. В бараке было темно, шли на ощупь. Вдруг кто-то вскрикнул. Все отпрянули назад. Потом одна из девушек, осмелев, протянула руку и нащупала в воздухе висящие ноги. Все с криком кинулись в спальню. Одна за другой просыпались девушки. Войти в столовую не решались. Терзались всякими догадками. Переговаривались сначала тихо, потом поднялся галдеж: ведь в бараке было 600 человек.
Вбежали ауфзеерки, зажгли свет. О, ужас! Над столом в петле из полотенца висело тело Веры Ивановны. Оно было холодное и навеки спокойное.
Тихий плач пронесся по бараку.
Много в эту ночь я передумала, взвесила, оценила и пришла к выводу, что так умирать — глупо. Надо жить, надо бороться. Надо сделать все, чтобы дожить до победы, вернуться на родную землю и рассказать всему миру, что такое фашизм. Надо поддержать слабых духом, укрепить в них веру в спасение.
Вскоре меня перевели на фабрику «Сименс». В цехе за длинным столом работали 24 женщины. Рядом со мной сидела немолодая чешка с добрым, ласковым лицом. Это была Аня Новак, умная женщина, горячая патриотка своей родины. Мы с Аней полюбились друг другу; она была для меня не просто лагерной подругой, а старшей сестрой, матерью. Аня делилась со мной коркой хлеба или картошиной, любила слушать и легко запоминала сочиненные мной корявые песенки, давала советы, предостерегала от необдуманных поступков.
Неподалеку от нас сидела француженка Клод Барановски. Мы ее называли просто Клавой. Клава жила в Париже, ее муж — коммунист, был арестован, и она ничего не знала о его судьбе. Клод — тоже коммунистка с большим стажем, свободно владела русским языком. Ее мать была русской, отец — француз. И, как одинаково она любила отца и мать, так же одинаково любила свою Францию и Россию.
С другой стороны стола работала Милка из Югославии. Белокурая, голубоглазая, задумчивая, она очень редко улыбалась. Ее отец был убит фашистами, а жених и старший брат ушли с отрядами Сопротивления в глубокий тыл. Милка тоже стала партизанкой.
Она рассказывала, как однажды пришла в село навестить больную мать и маленькую сестренку. К селению подошла поздно вечером и долго ждала, пока не погаснут окна во всех хатах. Потом тихонько пробралась в свой дом. Вошла в комнату и застыла от ужаса. Мать, ее старенькая добрая мама, лежала посреди комнаты в луже крови с обезображенным лицом. Тут же — маленькая сестричка, изрубленная шашкой. Девушка не слышала, как скрипнула дверь и осторожно вошел старик сосед. Он был белый как лунь, руки тряслись. Пугливо перекрестившись, заторопил Милку:
— Убегай, дочка, скорее убегай. Они снова придут. Им нужны ты и твои братья.
Милка поняла все. Так фашисты расправлялись с семьями партизан.
Через две недели по заданию комитета Милка пошла в другое село собирать медикаменты и попала и облаву. Никто не выдал ее как партизанку. И ее привезли на военный завод в Германию, а за отказ от работы — в концлагерь Равенсбрюк...
Все мы работали так, чтобы делать как можно больше брака. Не спешили выполнять норму, за что не раз были биты надзирательницами.
Когда ауфзеерок в цехе не было, мы вполголоса разговаривали, делились своими бедами, вспоминали прошлое, ругали тюрьму, не боясь, что разговор услышит мастер цеха.
Наш мастер — очень худенькая, молодая блондинка, немка по происхождению, с польской фамилией Масальская. Работа с заключенными ее тяготила. Но на ее плечах была семья, и рисковать работой она не могла.
Фрау Масальская ни разу не наказала ни одну из нас, многое видела, но никого не выдавала. А когда мы хорошо узнали друг друга, она, улучив минуту, незаметно клала в чей-нибудь рабочий ящик кусочек сахару, моркови ими ломтик хлеба. Узнав, что Клава хорошо знает английский язык (Масальская тоже знала его отлично), вполголоса передавала Барановски новости о ходе войны.
Однажды (это был конец 1944 года) Масальская так была увлечена разговором с Клод, что не заметила, как подошла и встала рядом ауфзеерка. Надзирательница внимательно прислушивалась, но, не в силах что-либо понять, подозрительно щурила глаза. Требовалось срочно выручать мастера. Я громко спросила по-немецки:
— Фрау ауфзеерин, можно обратиться к мастерице?
Масальская подняла глаза и побледнела. Овладев собой, она грубо обратилась ко мне:
— Чего тебе? Тоже не понимаешь ничего, как эта дура, которая, кроме своего французского, ничего не знает и еще меня заставляет говорить на чужом языке.
Надзирательница одобрительно улыбнулась и, решив, что ничего подозрительного нет, пошла дальше, в глубь цеха. Фрау Масальская с благодарностью взглянула на меня и, чуть прикоснувшись к локтю, шепнула:
— Спасибо, подруга!
Самым распространенным наказанием в лагере были штрафы. Конечно, чаще всего штрафы «зарабатывали» русские.
Однажды наш блок лишили пищи на три дня. Случилось это так. Перед кухней на большой зацементированной площадке разгружали повозки с овощами. Их охраняли несколько полицаек. Старшей над полицайками была высокая, худощавая, сутулая, почти горбатая, немка средних лет, Тури, по прозвищу Конек-Горбунок. Часто с ней ходила Шурка-палач, большая и разжиревшая скотина, которая отпускала по 25 палок в карцере.
В этот день моросил дождь, холодный и назойливый. Надзирательниц не было видно, и, заметив, что за нами не наблюдают, мы подхватили по кочану красной капусты и бегом пустились в свой барак. А там стали щедро потчевать всех лакомой добычей. Подруги оживились, заулыбались... Но еще не вся капуста была съедена, как раздалось громкое: «Ахтунг!» (внимание!)
Все моментально выбежали в столовую и выстроились за своими столами. Старшая по бараку (блоковая), пани Зося, недоуменно мигала глазами. Воцарилась гробовая тишина. У дверей стояла старшая надзирательница Бинц. Казалось, она как хищник готовится к прыжку, чтобы растерзать свою жертву. За ее спиной стояли запыхавшиеся Тури и Шурка.
— Открыть рты! — завопила Бинц.
Наши язык, губы, зубы — все было синее, как после шелковицы или черники. Бинц наотмашь без разбору стала бить всех по лицу рукой, затянутой в кожаную перчатку. На помощь ей кинулась Шурка. Ее широкая ладонь оставляла огненные следы на лице.
Бинц поравнялась с блоковой и била ее, приговаривая: «Кто воровал, подлая? За чем смотришь в бараке, гадина!» А пани Зося еще выше подняла свою красивую голову и ничем не выдавала волнения. Правда, о капусте она ничего не знала, но если бы и знала, то не выдала бы других. Не сговариваясь, мы решили отстоять свою блоковую.
— Все ели капусту! — хором закричали мы. — Все!
Бинц взбесилась.
— Что? Скрывать виновных? Защищать польскую собаку?! Свиньи неблагодарные... 10 суток карцера! — приказала Бинц, указывая на Зосю.
— Три дня без еды весь барак!
На несколько минут воцарилась гнетущая тишина. Все чувствовали себя виноватыми перед Зосей. А она, словно угадав наши мысли, гордо тряхнула головой, брезгливо глянула в сторону ушедшей Бинц и, улыбнувшись, сказала:
— Hex жив капуста, дивчинки! Не умрем! — И засмеялась звонко, заразительно.
Три дня чешки, польки, француженки, голландки, югославки тайком делились с нами своим скудным пайком.
Желая натравить польских узниц на русских, начальство лагеря решило отдать посылки полек русским. Вызвали один барак русских, но все категорически отказались взять чужие посылки. Вызвали другой, третий. То же самое. Тогда рассвирепевшая Бинц пообещала отдать эти посылки цыганскому или немецкому блоку.
Девушки 26-го блока забеспокоились. Нам было жаль своих польских подруг. Посовещались и решили взять присланное. Пусть успокоится Бинц. Все равно мы вернем эти посылки их владельцам. Так и сделали.
Бинц ожидала ссоры между блоками, вражды, может быть, даже драки. Но каково было ее удивление, когда через день вечером, в субботу, проходя лагерной улицей, она заметила, как дружелюбно разговаривали польские и русские девушки.
Она все-таки узнала истину. Русские были наказаны: на сутки их оставили без пищи, а полек на месяц лишили почты.
И так на каждом шагу — штраф, избиение, смерть.
Но глубоко ошибается тот, кто думает, что мы только терпели обиды и плакали. Это далеко не так. Не такой в лагере был народ, чтобы его легко можно было превратить в покорных рабов. Люди сопротивлялись, боролись, насколько это было возможно. Многие отказывались работать на военных заводах, хотя это стоило жизни. Многие, наоборот, ехали туда с целью как можно больше делать брака, портить станки. Одни слагали песни, чтобы поднять дух слабых, другие писали листовки, призывая к борьбе.
В лагере была центральная подпольная организация, в которую входили лучшие дочери Франции, Чехословакии, Польши и, конечно, русские женщины во главе с Евгенией Лазаревной Клем, человеком большой воли и большого ума.
Рядом с этой организацией боролись маленькие группы. Об одной из них я и хочу рассказать.
Бригада девушек, в которую входила Клава Яценко, работала за зоной. Иногда проезжая поселками на машине, они видели много русских со знаком «Ост», полек, француженок. Это натолкнуло Клаву на мысль написать листовки — воззвания к 1 Мая — и постараться выбросить их из машины работавшим. Клава стала подбирать достойных доверия девушек. Так организовалась подпольная ячейка из 15 человек. Руководила ячейкой сама Клава, в прошлом студентка Киевского университета, умная, серьезная девушка.
С большим трудом мы достали бумагу. Клава написала передовую. Женя нарисовала карикатуру, я сочинила песню, Юля переписывала, Света стояла в карауле. Писали ночами, в умывальнике. Это было большим риском.
...Вот и все готово. Завтра листовки унесут за зону. А утром в 26-й блок вдруг вошли солдаты СС, с ними несколько надзирательниц, Бинц. Начался обыск. В постели Клавы и Лили Семеновой, самой молодой среди нас, нашли свертки с листовками. Лиля стояла мертвенно бледная, Клава — спокойная и даже гордая. На вопрос: «Чьи листовки?» — ответила Клава:
— Листовки мои. Лиле в матрац положила их я. Ни Лиля, ни кто другой об их существовании не знал.
— Врешь! — закричала Бинц. — Ты была не одна. Не скажешь добром — запорю, шкуру сдеру! Каждого пятого расстреляю.
— Только я! Одна я, и больше никто! Это мои листовки. А если вы убьете невинных людей... Всему бывает конец. Вы, изверги, захлебнетесь в крови ваших жертв.
— Молчать! — взревела эсэсовка. — В карцер ее!
Бинц с дикой ненавистью смотрела ей вслед. Потом по списку она вызвала других участниц.
Арестованных в бункере избили до полусмерти. Но они не выдали, не сказали ни слова. Потом их увезли в Ное-Ролау на военный завод. Лилю Семенову и Женю Пивоварову после бункера посадили в штрафблок. Клаву Яценко били, пытали, но ни слова не вырвали из ее уст. Ее держали в карцере, потом в штрафблоке, снова в карцере и, наконец, куда-то увезли.
Через несколько месяцев пришли вести из Ное-Ролау. Рассказывали, что, когда узниц везли из Равенсбрюка, одна из наших, Юля, где-то раздобыв кусочек мыла, написала на стенках вагона: «Будь проклят тот, кто носит имя Гитлер! Россия была и будет советской!» Юлю приговорили к смертной казни.
В это же время в Равенсбрюке кто-то неизвестный разбросал по всем баракам листовки с призывом сплотиться и бороться за свои права. Значит, живет подполье! Значит, нет такой силы, которая могла бы задушить веру в победу, разрушить единство, сжечь дружбу, рожденную в муках ада.
Наша жизнь в лагере заметно изменилась. И не к лучшему. Хлеб теперь давали через два дня на третий микроскопическими кусочками. День и ночь горели печи крематория, пожирая сотни тех, кто ослабел больше других и не мог уже работать. Все мрачнее и злее становились нацистки. Били на каждом шагу. На «Сименсе» во всех цехах ввели ночную смену. Однажды, когда я работала в ночь, произошел такой случай.
Надзирательница вывела нас в уборную. Мы шли попарно узенькой асфальтированной дорожкой. Ночь была лунная и очень светлая. Вдруг до нашего слуха донесся отдаленный гул самолета. Он приближался, нарастал, и вот над самыми крышами, над нашими головами, почти касаясь верхушек деревьев, как мимолетное видение счастья, промчался советский самолет. Нет, невозможно никакими словами передать радость и волнение, охватившие нас, и ужас на лице надзирательницы.
Это был первый советский самолет, увиденный нами за тяжкие годы неволи. Значит, совсем рядом фронт, значит, скоро конец войне!
На следующий день после этого случая рабочих «Сименса» снова срочно перевели в общую зону лагеря, а еще через день началась эвакуация завода. На работу водили не всех, в цехах царил хаос. Разбирались станки, аппараты, все упаковывалось в ящики.
А в главную зону Равенсбрюка в один из этих последних дней явился отряд СС и заминировал стены лагеря. Многих охватила тревога — взорвут! Взорвут лагерь, чтобы замести следы своих зверств, чтобы не оставить свидетелей кровавых преступлений. Люди встревожились, помрачнели, пали духом. А фронт приближался с каждым часом.
В эти дни я чувствовала — нам нужна песня. Подбадривающая, сильная. И мне захотелось сложить ее на знакомый всем мотив «Трех танкистов».
Я писала, перечеркивала, снова писала, исправляла. Как трудно писать! Почему я не поэт? Но ведь надо, надо. С песней верят и надеются, с песней выживают. Пусть у этой песни старый мотив, пусть не совсем гладка рифма, но если она зовет к жизни — ее любят, берегут, поют. И я написала:
Над Берлином тучи ходят низко,
Наш концлагерь тишиной объят.
Знаем мы, что день Победы близко,
Наши братья нас освободят.
И хотя концлагерь весь на минах,
И как змей шипит все фрау Бинц,
Наши братья мчатся на машинах
И несут свободу нам и жизнь.
Эта песня быстро пошла по блокам русских девушек.
26 апреля 1945 года в 11 часов утра забегали в панике надзирательницы, приказывая всем собраться с вещами и построиться в колонны перед своими бараками. Наскоро пересчитали колонны и, не поинтересовавшись, все ли построились, повели нас к выходу из зоны.
Мы шли и шли вперед, окруженные с обеих сторон плотной цепью надзирательниц с собаками. Шли долго, до глубокой темноты. Ночью в лесу был короткий привал. А потом брели лесом, сбивая ноги, обдирая о кустарник лицо и руки. Снова привал. Пожевали галеты. Хотели пить, но воды нигде не было. Чуть забрезжил рассвет, мы вновь отправились в путь.
30 апреля, на рассвете, проснувшись от грохота канонады в чужом лесу, мы оказались без охраны. Ни одной надзирательницы...
С востока донесся шум. Все насторожились. Рассветные сумерки разрезал яркий луч прожектора. Совсем близко загремели машины, взвилось облако пыли. Могучее, радостное эхо прокатилось по лесу: «Наши! Наши!»
О, эти неповторимые минуты! Их ни забыть, ни описать невозможно!..
Люди выбегали из своих укрытий, спотыкались, задыхаясь от волнения, бежали к дороге, размахивая белыми лагерными косынками.
А стройная колонна танков двигалась навстречу. На переднем танке, освещенном прожектором, развевалось гордое Красное знамя свободы. Ведущий танк затормозил, за ним остановились другие. Один за другим соскакивали на землю танкисты. Их мгновенно окружили. Слезы, объятия, поцелуи!
Я, как и все остальные узницы, смеялась и плакала, целовала и обнимала советских воинов-освободителей, братьев, отцов. Сердце мое билось, будто хотело вырваться навстречу счастью. Мне казалось, что я обнимаю не просто своего спасителя, воина, брата, а обнимаю всю свою могучую и любимую Родину.
1 мая 1945 года открыло нам двери в жизнь.
После войны многие из нас вернулись к своим мирным профессиям. В 1956 году по призыву нашей Коммунистической партии я поехала на целинные земли. Участвовала в строительстве совхоза «Шуйский» в Атбасарском районе. Сейчас работаю на новостройке вблизи молодого города Рудного в селе Елизаветинке библиотекарем при средней школе. Каждый раз, когда провожу читательские конференции, шумные и занимательные пионерские сборы, всегда вижу, как дети проявляют живой интерес к страницам истории Великой Отечественной войны. Как их глаза жадно ищут по книжным полкам повесть или рассказ о героических подвигах своих сверстников-комсомольцев. К сожалению, наши писатели в большом долгу перед юным сельским читателем.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





