ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
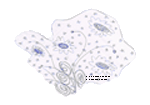


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Форш Ольга 1925
I
С севера на юг как снег на голову свалилась Марья Ивановна с сыном Колей на последний неуплотненный диван своего кума.
Два дня ели непрерывно, приговаривали:
— Это тебе не жмыхи, не вобла, не конская голова.
— И профессора хороши, ведь открыли — «съедобные дикорастущие»... Перечисли-ка, Коленька!
— «Одуйплешь, пустодуй, молочайник, попово гу-мёнце, кулибаба и прочее...»
— Нет, пусть только голод, — как бы изумляясь на то, что вынесли, тихо плачется Марья Ивановна, — а то градус мо-ро-за! Это не то что градус тепла: тогда спишь хоть и в шубе, да носу безвредно...
— Здесь поживете, нашей браги хлебнете — тоже не мед!
Кум — черный, как черт, брови дугастые, и словно не брови, а сами усы, не говоря плохого слова, переехали из-под носа да над глаза, а под носом пусто: гуляет тут досиня бритва.
Рассердился вдруг кум — плоха москаливщина, да и тут непорядок:
— Допустим, сейчас блины, так это мы граммофон просвистали — в деревне мода на машинку, «що сама грае да спивае», на прочее уж не глянут, по два самовара у них: на чай и на кофий — разжились...
— Боже ж мой, до чего нынче хвостят перед возами, — вступилась няня. — И учителя, и дамочки в грязи топчутся, а сама на мешках сидит — пава. Гуськом, словно в царство небесное, идут, над головами добро подымают, а она: это не треба, не треба! А что поцикавее, глазом нацелит да чрез людей кнутовищем: «Ось це!» Смотреть жалость. Другой — белый как лунь, в очках, по ученой части, а как порскнет, ровно заяц в норе, к мешкам этим, а за картошину и кресты свои сыпет, и медаль заслуженную.
— Хвостить начали — деньгам, значит, вера. — Кум вытащил бумажник. — Правительство обсиделось, три месяца не бахкают, а то не угодно ли? Чертова пропасть денежных знаков, и ни одному нет хода!
И кум быстрыми руками, как фокусник колодой карт, мелькнул перед Марьей Ивановной и петлюровской белой, и державной гусеницей, и сруликом, и дробными метеликами, и деникинской боярыней, и носатым Костюшкой.
— А правительства-то у нас за три года шишнадцатая, — почему-то с гордостью пояснила нянька. Человеку иной раз все равно чем, только б хвастнуть.
— У нас Ванечка от орудия говорить обучился. А ну, покажи, Ваня, крестной перемены правительства!
Ваня, большеголовый хлопчик, сидя у няни на руках, откинув голову, запустил палец за щеку:
— Ж-ж-ж-пу! — И, выпучив глаза, вдруг изо всех сил: — Тра-та-та... та-та...
— Пулеметы! — одобрил отец.
А Марья Ивановна вдруг сникла: пайков тут нет, пока должность получишь, чем жить? Неужто вещи продать? Ведь последнее — чемоданишко. Да и тот добывать еще надо.
— На пересадке чемодан у меня ведь до места не приняли, — говорит она вслух. — До местечка квитанцию дали, дальше какой-то батька с повстанцами путь перерезал. Самой ехать не хочется, не наймете ль кого?
Марья Ивановна нащупала рукой тайное место, где зашита была вместе с деньгами квитанция, побледнела, метнулась в другую комнату, сбросила платье, белье — перебирала, трясла, щупала — пиши пропало. Вырезали — одни нитки болтаются.
Кум утешал, как умел:
— Безрассудны приверженцы железнодорожного передвижения. Границы карманов, своего и чужого, — давно пережиток, да и чертова давка такая, и не хочешь — сопрешь. По логике вещей чемодану забвенье и вечный покой.
А Марья Ивановна вдруг ростом больше и как орлица за птенчика:
— Опять Коленьке зимой мерзнуть? Найду чемодан!
— Да поймите, по логике...
— Ничего теперь нет по логике!
— Оно себе так: профессор математики за припек — хлеб печет. Другой бедняга у вас в столицах без пайков пухнет, а, между прочим, пишет: председатель комбеда изловчился паек выудить, ну, как бы вы думали, кому? Солитеру! Так и так, изложил, червь мое все съедает, дайте вдвое. Не разобрали, выдали и ему, и червю. И гнусное беспозвоночное жрет, как граждане.
— Ничего теперь нет по логике, — причитает Марья Ивановна; уже в ней ни шума, ни гнева, одни слезы так и каплют. Сама маленькая, лицо мелкое, взглянешь — сейчас позабудешь; лицо как у всех, на голове порыжевший от времени кружевной хохолок.
— Ничего нет по логике; у нас бабенька, царство небесное, ангел была, всю-то жизнь для других, и к смерти готовилась, чтобы забот о ней не было: место куплено, воздух от гроба господня, и венчик, и все припасла. Одна была воля: хоронили чтоб с белыми, а не с черными лошадями — словом, первый разряд! Кому какое дело, бабенька мухи не обидела, могли б люди уважить. А вышло-то как по логике по этой? Умерла бабенька на плите: изредка кухню топили, забралась в кои веки согреться — и кончилась. Три дня по хвостам бегали с Коленькой насчет ямы да гроба, какие уж лошади? Раздобыли бумаги, да тут же и вытрясли из мешков, в голове-то ведь с голоду кружит, вниманья прежнего нет. Вернулись к последней печати: «Наверно, нас помните, разрешение сейчас давали». — «Как же, говорит, бабушку хоронить». — «Так украли бумагу сию минуту и деньги украли», — грешу для солидности. «Нет директив, — говорит печать, — начинайте сызнова!» А хвост к вечеру уж на улице — сыпняки сотнями мерли. Сунулись мы, никто не пускает — свои покойнички залежались; очередь, кричат, очередь... Еще трое суток валандались, бабеньку в холоде заморозили. И ведь и на кладбище ей удачи не было: и там в хвост попала, неделю наруже ждала. Так гуськом гроб за гробом и ждет, а собаки их нюхают. Вот и первый разряд!..
— Значит, плюньте логике в самые очи и валяйте в местечко, а я вам бумагу за всеми печатями раздобуду, — решил кум. — Перепишите-ка вещи...
Ни шума, ни гнева в Марье Ивановне, в комочек сжалась и, поди ж ты, — надеется.
Вещи переписала и для крепости отправилась в свой любимый собор помолиться. Глянь, а на воротах доска новая, словно вывеска: «Св. София Украиньска».
И под доской два человека: украинец и русский; и ведь о чем спорят?
Об этой самой логике.
— Это ж ведь не мать многочисленных именинниц, не семнадцатое сентября, a Pistis Sophia — понятие отвлеченное, премудрость божия; это украинизировать нелогично, нельзя.
— Як це не можно, як можно?
— Так мы напишем: Логос Московский.
— А вы себе...
— Где же логика?
— А на що вона вам зробилася?
«Это мне указание, перст, — обрадовалась Марья Ивановна, — непременно надо ехать, а логика эта — бог с ней!»
II
И кум не зевал; добыл бумагу, от кого было надобно и не надобно, и в один дождливый день, благоприятный, как говорится, урожаю и неприятный обывателю, Марью Ивановну кум протиснул к вагону.
— Знакомая старуха в местечке, Маринчиха, навестите ее, коли вспомните, про сынов узнайте — два у ней сына.
Поезд, как роем, обметан был тучей буферных, крышных и так себе пассажиров, висевших простодушно из окон. Кум изловчился, подхватил легкую, мелкую Марью Ивановну да и метнул ее, словно бомбу, в какое-то спущенное на минуту оконце.
Едва канула Марья Ивановна во тьму, стекло вздернулось кверху, и за ним проступили сердитые, густо насаженные одна над одной, словно отрубленные, головы и медленно отплыли вдаль от вокзала.
К утру притащились в местечко. Марья Ивановна тотчас к багажному.
Просунул заспанную голову в оконце:
— Квитанция?
— Квитанцию, представьте, украли, но тут бумага, вот печати, Че-ка...
Человек и не глянул, протянул мимо Марьи Ивановны крепкие пальцы.
— Печати от Че-ка, — еще пискнула Марья Ивановна.
Длинный ус только дрогнул:
— Езжайте себе со своими печатями до дому!
— Но в чемодане все зимнее, Колино и мое...
— Езжайте себе до дому!
Хвост продвинулся, Марью Ивановну оттерли.
Совсем было светло. Сейчас за станцией, куда она прошла, шелестели тополя, белел чистый домик, под липами пили чай. Золотом горел на совесть чищенный самовар; завидев его, рябая большая курица с пушистым выводком понеслась к столу клевать крошки.
Успокоилась Марья Ивановна; опять за свое: бог и курицу промышляет. Разыскать надо старуху Маринчиху, передохнуть у нее, а дальше видно будет.
Тополевой аллеей идти в местечко; по сторонам зеленый лужок, вдоль дороги — хаты с огородами да с вишнями. У плетня на широкой лавке сидит дед с внуками. В церкви благовест к ранней. Не спеша снял дед шапку, не спеша кладет крест.
Девчонка гусей выгнала; посчитала Марья Ивановна — десяток. На севере гусь — что добрый прежний рысак стόит, сказать разве девчонке? А то она, глупая, гонит их, ровно прежних, рублевых: рот разиня, глаза ягод ищут...
А весело на гусей, на девчонку; а в луже-то, в луже — ну, право же, свиньи — две матери с поросятками.
— Совсем рай у вас, — говорит дородной дивчине Марья Ивановна, — и гуси, и поросята.
— Свинья опоросилась.
— Хиба ж не знаете, что свиньи поросятся? — усмехается дед.
— Да то ж когда было, теперь все другое...
— Весной свинья всегда поросится, — говорит дед, — оно так было, оно так и будет!
Села Марья Ивановна к деду на лавку.
— Рай, говорю, тут у вас, дедушка, и не уйти б.
— Куды же идти, когда скрозь люди бьются, всем свою смерть ждать докучило... А чего бьются?
— А правда, как думаете, дедуся, чего люди бьются?
— На что мне думать, старому, — уклоняется дед и опять, глядя на свинью, разомлевшую под тяжестью розовых поросят, будто укоризной кому говорит: — Оно так и было, оно так и будет!
— Где тут Маринчиха, недалече? — припомнила Марья Ивановна старуху кума.
— А недалече, — указал дед за озеро, — она редьку садит, гарная у ней редька...
И он рассказал, как пройти.
III
Озерко чистое такое, словно дно у него подметено, песочком посыпано, и кто-то, играючи, голубой, как небо, воды напустил. И лодка с рыбаком, и зеленый аир вдоль берега; недалеко отступя, лепятся друг к дружке полукружьем городские дома, все как один белые, голубой ставень, садочек с махровыми мальвами.
С детскую голову цветы: и желтые, и розовые, и такие, как жар, ну, как червонное монисто у идущих в церковь дивчат. Тут же и базар. Сидят на рядком сложенных кирпичах, сели прочно, надолго. Тут и торговля, и клуб, и живая газета. Заграничного любопытства нету, свой, тутошний интерес.
Окликнет тетка тетку: что в садочке, как огородина, на что уродило, что червь съел, что растащили хлопцы?
«Может, и не знают, что на свете творится?» — дивится на здешних людей Марья Ивановна, но вспоминает, что и дед так же прочно на лавке сидит, на свинью смотрит, а думает... Кто ж его знает, что думает?
Мелькают вывески: «Совецкий портной»; под «Голярней» приписка мелом: «Буржуев не стригу!» На базаре при кинематографе большая звезда, а под ней — «Отдых красного пролетария».
— Что это, всегда у вас тихо, никто через вас не шел, не стрелял? — не утерпела, спросила теток Марья Ивановна.
— Как так не шли? — встрепенулись, словно от обиды, тетки — и ну взапуски: — Все тут шли...
— Еще говорят, ктось пойдет!
— А нам што? Нам ничего. Побахкают себе на вокзале, добре всюду чутно, и пойдут себе дале...
— Убьют, кому смерть пришла...
— У нас инженер, спасибо ему, со злости, что город хабары не дал, взял да за две версты и отвел вокзал, да еще к городу раком поставил. Лаяли того инженера немало, однако вокзал своего часа дождался.
— А много народу убили?
— А есть-таки, есть. У кого еще на войне забили, у кого теперь, на свободах. Живем себе, как люди живут.
— А как тут к Маринчихе?
— А там вон, за рогом, свернете — и Маринчиха. Она редьку все садит да сынов своих ждет. Добрая у нее редька; а сынов не дождется Маринчиха.
— Один у ней белый, другой червонный; может, сами один другого забили.
— Мать до смерти ждать будет!
— Известно, мать.
IV
Марья Ивановна через калитку, скрытую пахучей жимолостью и жасмином, вошла в палисадник к старухе Маринчихе.
На крыльце в расшитой рубахе дивчина грызет семечки:
— Они чай пьют в садочке, проходьте себе...
Балкон, как японским занавесом, заткан частой тугой бечевой; по ней от земли на крышу змеятся вьюнки. Роса горит в глубоких чашах нежных цветов: белых, розовых, лиловых.
— Садитесь, чаю выпейте, а может, и молока внесть? — обрадовалась ласковая Маринчиха и поклону из города, и незнакомой гостье. Мимоходом, идя в кладовую, указала на тяжкие ветви сливы, пригнутые до земли. — Так и гнет их: урожайные сливы это лето!..
Вернулась, поставила варенье в пузатом горшке, и масло, и знаменитую свою редьку: «жемчужина огородов».
— Про вашу редьку уж слышала, — сказала Марья Ивановна.
— Это ж дед, верно; я ему на семя давала. Одна отойдет, другую сажу — сынов своих жду: до нее оба охотники.
В старом лице, как свет за прозрачной картиной, вызывающий к жизни краски, такая проступила печаль, наметились круче морщины, дрогнули губы.
— Они ведь близнятки у меня, — говорит тихонько Маринчиха, — а так не по правилу вышло! Близнятам, учат старые люди, бог одну душу дает, а они — брат на брата. Белые наше местечко возьмут — ищу своего среди красных; красные возьмут — я у белых, покойников. Сейчас еще не ходила, верст за пять лежат, когда ветер — дух доносит. Много неприбранных, говорят, а уж неделя, как тихо. Горе мое — ноги колодами, пухнут. «От сердца у вас», — сказал доктор, не пройти столько верст. А вот завтра пойду, возьму лопату и пойду, хоть чужого зарою. Все легче...
Посидели, помолчали.
Рассказала Марья Ивановна и про свое, хоть и не такое, конечно, а все-таки: последнее ведь. И где Коле зимнее взять, когда чемодана не сыщешь?
— Да чего же ему пропадать? Он, говорите, в багажном?
— В багажном.
— Ну, а там и Микола, и Степан Петрович. Обедать только до дому ходят, хата близенько, а жинка у Миколы — хозяйка...
— Да без квитанции не дадут!
— Как так? Чемодан ваш, а что за важность квитанция? Кто письменный, тот и сам напишет. — Вдруг, глянув в просвет между вьюнками, Маринчиха плеснула руками, словно дирижер оркестра, и, тяжело перевалив со ступеньки в сад, закричала: — Хроська, лядащо, нажени хлопцив з сливняка!
Бурей пронеслась Хроська; алая лента мониста огненным змеем забилась по белой рубахе:
— Тикайте, тикайте...
Тяжкими мешками хлопнулись о землю хлопцы и — мах через плетень. А Маринчиха снова кроткая, в старческой мудрости предваряя события, сказала:
— Нехай себе и урожайные сливы, а не достоят. Так зелеными обнесут их хлопцы. А за чемоданом, серденько, не журитесь: раз он ваш, так он никому тут не нужный. А какие теперь правила? Никаких правил нет: что захочет человек, то и сделает. Вы себе познакомьтесь с багажным, чайку с ним выпейте...
V
Вечерело, когда Марья Ивановна шла опять на вокзал. Опять чистое озеро, только базара уж нет. На вытоптанном кругу одни в кучку сложенные кирпичи. Придут завтра опять с молоком, с зеленью, снова сядут на привычное место, лениво перекинутся словом и до полудня будут тихонько поторговывать.
Такое прочное все здесь, кем-то ладно, добротно слаженное: трава ярко-зеленая, озеро и к вечеру не мутнеет. Определенным красно-желтым кружком ложится на гладь его солнце. Плывут степенно, по заданной кем-то линии гуси, и почти по-прежнему сытые ребятишки, радуясь чистому мягкому дну, не плескаясь, шаг за шагом, медленно идут в воду.
Вдруг подул ветер и донесло... сладкий тошнотный дух. «Много неприбранных», — говорит Маринчиха. Припомнила Марья Ивановна свинью с поросятками, и базар утренний, и озеро это вот чистенькое — и в пяти-то всего верстах, может, оба сына Маринчихи, может, как раз брат брата... Ну как этому всему вместе быть?
Маленькая головка у Марьи Ивановны, и вся она такая мелкая, ничем не отметная, только хохолок кружевной на реденьких волосах. Думать ей — мука.
А над белой дорогой, убегающей в поля, где последние, отступившие бились, какой закат! Не прозрачный золотой воздух, а какой-то сплошной, словно медный, ярко начищенный таз. Непроницаемая желтая стена восходит кверху, и на ней, как вырезанные, наклеены почти черные очертания трех косматых собак. Не по-собачьи поджались, присели на задние лапы, а передними врывались во что-то большое, раздутое.
Дрогнула Марья Ивановна, а идет, не минует. Палая лошадь с обглоданной мордой, и собаки какие-то не собачьи. Не отрываясь, роются в падали и, осев, как тигры, на задние ноги, рычат жадно и хищно. По дороге навстречу две женщины: одна высокая, другая пониже; издали кажется — они ссорятся, вот-вот подерутся: одна руками вскинет, кричит, другая за руки ее хватает, и та вдруг заплачет, тонко так, жалобно. Дорога белая, женщины черные на ярко-желтом, лощеном небе — смотреть тяжко. Вдруг остановились, почти поравнявшись с Марьей Ивановной, дошла она и тоже стала как вкопанная. На большой дороге, во всю ширь, плоскою, противною лужей стояла кровь.
Высокая женщина вдруг как-то рухнулась рядом с лужей на землю и закричала таким нарочным, пронзительным голосом:
— И здесь убили! А-а...
— Встань, Сонька, заткни свою глотку, — хрипло увещевала, словно лаяла, подруга, — назад не воротишь, пойдем, запьем, забыть надо...
— Тебе можно забыть, твой целый; в гроб положила, крестом покрыла — и есть он опять. А мово-то, бо-о-женьки, лю-юди добрые...
Она стала на колени и, кланяясь и как-то округло и нежно забирая по воздуху руками, будто делая какую-то условную фигуру, заголосила тоненько, нестерпимо:
— Ма-амоньки, боженьки, мово-то мово — псы обглодали! Собирала его — не собрать. По рученьке, по колечку своему признала. Ой, головку томит, ой, я б скрылася!
И, сдернув платок с плеч, она укрутила им голову и легла в белую пыль перед лужей крови.
VI
В багажном отделении, верно сказала Маринчиха, ужинали.
— Приятного аппетита, — пожелала Марья Ивановна, — а кто здесь Степан Петрович?
— Я самый, а чего вам треба?
Это был тот багажный, что и не глянул, когда Марья Ивановна просила дать чемодан без квитанции.
— От Маринчихи вам поклон!
— У нее редька гарно родила — «жемчужина огорода».
И здесь знали, все знали про редьку Маринчихи.
— Чемодан у меня здесь, — говорит, осмелев, Марья Ивановна, — чемодан застрял, уже три дня, верно, будет...
— А, так вы та, что без квитанции? Без квитанции ничего не выйдет! Тут в каморе столько чемоданов понаперли, что человек и с квитанцией придет, очи вытаращит, а своего не найдет, а без квитанции — одна хвороба.
— Сейчас все такое необыкновенное, — твердит свое Марья Ивановна, — может, и чемодан я найду, право. Пустите взглянуть в кладовую!
Степан Петрович нахмурился, стал вдруг начальником, сказал строго по-русски, с сильным гаком:
— Кладовая при багажном отделении — учреждение официальное, и вход посторонним лицам строго воспрещен.
«Помяни господи царя Давида и всю кротость его...» — про себя думает Марья Ивановна, а вслух с горя несет уже невесть что, слышит себя и дивится:
— Это я посторонняя? Да я вам поклон от Маринчихи принесла, да мне и город ваш нравится, и в озере вашем я чуть не искупалась.
— Ставок у нас первый сорт, и карасей в нем... — сказал вдруг, осклабясь, Степан Петрович. — Микола, не пойти ль до свита с удкою?
— Куды же карась теперь потребен? — отозвался с презрением Микола. — Карась — путящий в сметане, и не так, чтобы только сверху, а так, чтобы и хвост потонул. Да еще житный хлеб до карася и не пасует, карася надо есть с паляницею.
— Вот вы здесь как! Разбираете еще, с каким хлебом есть! — И рассердилась маленькая Марья Ивановна, хитрости все позабыла. — А хотите вовсе без хлеба, на жмыхах? Да не на путевых каких-нибудь, а на конопляных, которых и кабан без размола не сгложет. А мы еще кооперативу спасибо сказали, потому что без этой жмыхи извольте-ка день в день одну зелень: слыхали про дикорастущие съедобные растения? Слыхали — одуйплешь, пустодуй, молочайник, попово гумёнце — хорош борщ!
— О боже ж мий, що це люди претерпляють! — подпершись кулаком, сказала дивчина.
А Микола, здоровый, плечистый, щеки словно крашены бураком:
— Э, у нас такого бурьяну хоть убей есть не будут. У нас известно: квасец, цибуля, часнок, крип, квасоля... да еще панские выдумки — цветная капуста, ну, я в ней никакого смака не вижу.
— Ну, пусть себе голод, — завела уже смело шарманку Марья Ивановна, — а холод-то! Шкапы, стулья спалили, как татары сидим на корточках, дрогнем. У вас думали отогреться, а чемодан не дадите, и здесь пропадать. Все добро в чемодане...
— Микола... Ни, я сам!
И Степан Петрович, почему-то тронутый бедами Марьи Ивановны, встал из-за стола и, побрякивая вязкой громадных ключей, пригласил:
— Идем со мной в камору; может, такое ваше счастье, что чемодан ваш найдется.
— Да их там до бисова батька... — начал было Микола.
— Непотребна ваша рецензия, Микола... — оборвал Степан Петрович и провел-таки Марью Ивановну через рельсы в огромные двери сарая.
Как вошла Марья Ивановна в кладовую, как натиснулись на нее ящики да корзины, где тут думать свой чемоданишко вызволить?
Пропало дело; знай одно твердит, как заводная, уж без всякой надежды и смысла:
— Найди, господи, ну, найди...
А Степан Петрович нажимает:
— Швиденько, а ну!
Крутится Марья Ивановна, трепыхает на редких волосах кружевной хохолок, и — подумайте!— чемоданишко. Тут как тут, в стороне, не загруженный, приметы налицо: сам в клеточку, замок на кольцах, бок выдран, подштопан.
— Он!
— А коли он, берите себе...
Схватилась за ручки чемодана, и Степан Петрович вдруг потемнел: не по нраву что-то пришлось, поспешность ли Марьи Ивановны или что другое, — не дает. Руку отвел.
— Погуляйте себе, придите ночью — получите.
Марья Ивановна руки сложила:
— Да уж выдайте вы сейчас!
— Що? — Степан Петрович вспыхнул и опять стал начальником. — Хиба же вы не знаете, что багажу без квитанции давать не можно. И кладовая е казенное учреждение, вход посторонним лицам воспрещается. Да что с вами размовлять, у меня дело...
И, выйдя с Марьей Ивановной за ворота сарая, он щелкнул ключом громадного замка и пошел себе в сторону.
Не пошла гулять Марья Ивановна, села под тополями покорная, терпеливая — до утра сидеть будет, высидит чемодан.
Луна бежала по небу, обвитая легкой венчальной фатой — сквозистыми облаками, а дивчата пронеслись куда-то с хлопцами, стуча монистами и каблуками.
Прислонилась к тополю Марья Ивановна, дремлет; кто-то тяжелый сел рядом, затянулся, сплюнул и вдруг тронул легонько за руку:
— Чего же чемодана не взяли?
Степан Петрович.
— Да вы сами мне не дали.
— Як це не дал? — ухмыляется. — Ваш чемодан, так и берите свое. — Ми-ко-ла, — прогудел он в гущу защитных рубах, — Микола, выдайте чемодан, они опознали!
Марья Ивановна бегом за Миколой — и откуда сила: с ним вместе тащит в багажное.
— Степан Петрович, проверьте вещи, все печати под моим показанием.
— Непотребны нам ваши печати, — и, не глядя, отвели прочь бумагу короткие крепкие пальцы.— Скажите сами, что у вас там цикавого, по-вашему — дорогого.
— Ну, шуба черная с воротником.
— Микола, гляньте. А спод какой?
— Драная подкладка, знаете, не поспеешь чинить.
— Спид дуже подертий, — удостоверил Микола.
— То це и ваше, забирайте его... а марка?
— ?
— Треба марку, та гербовую.
Ахнула Марья Ивановна. Полночь, какая тут марка? Поезд вот-вот подкатит: его прозевать — новые сутки на станции, а то и неделя, и месяц — такое сейчас время.
А Степан Петрович, как дятел, свое: эта бумага официальная, на официальной бумаге полагается расписаться через марку. Она и недорогая, марка, всего пятьдесят копеек.
— Где же это ночью сыскать? — плачет Марья Ивановна. — Вот двести, триста тому, кто купит завтра и налепит, отпустите вы меня с этим поездом.
Степан Петрович презрительно глянул на дрожавшие в руке Марьи Ивановны керенки, хлопнул по столу крепкой ладонью, сказал:
— До официальной бумаги всегда нужно марку в пятьдесят копеек. — И, не обернувшись, такой ладный, сбитый навеки крепыш, топая добротными сапогами с подковами, пошел в свою хатину.
— Монолыт, — гордясь начальником и ученым словом, сказал ему вслед Микола. — Сказав — зробив!
Неживая вышла Марья Ивановна на крыльцо вокзала. Луна в небе стояла сейчас такая яркая, такая же круглая, как днем было солнце. И небо ночное, как дневное, было здесь без облачка, нежно-зеленое. Тополя и парубки с дивчатами — все словно в подводном царстве в этом покрове тихого зеленоватого света.
Звезды проступили какие-то крупные, одни низко свесились, к земле тянутся, другие над головой вспыхнули — ну, в такой глубине смотришь и тонешь — ничего помнить не хочется. Загляделась Марья Ивановна, чужое горе, свое горе забыла и чемодан тот несчастный...
Ее, маленькую, легкую, всю втянула в себя глубина эта с звездами. Есть отдых каждому человеку.
И вдруг над ухом повелительно:
— У него спытайте. Знакомый человек, коммерцийный.
Вздрогнула Марья Ивановна, вскочила — опять он, «монолыт», Степан Петрович. Длинный ус крутит, совсем добрый. Смотрит на Марью Ивановну, что с нее взять? Хочешь — с кашей ешь, хочешь — в ступе толки: покорная.
— Слухайте, у вас, верно, есть гербова марка?
А коммерцийный человек веселый:
— И почему же нет, если да!
И тут под луной предлагает на выбор какие ни на есть разновидности.
Марья Ивановна обмозговать не поспела, как снова она в багажном отделении, за столом против монолита, и такой его памятный короткий крепкий палец, упершись в страницу отчетности, указывает, где лепить, что писать.
— На марке и распишитесь. Как фамилия?
— Федорова.
— Хва или хве?
— Хва? — озадачилась Марья Ивановна. — Ах, это вы про фиту. Так ведь по новой орфографии фиту отменили
— Как для кого...
Вдвоем с Миколой Марья Ивановна сволокла чемодан в хвост отъезжающих.
В багаж она его больше сдавать не хотела.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





