ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

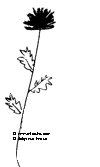

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Форш Ольга 1925
I
В день, ничем не отмеченный в крестном календаре, в институте, с подъезда родных и с подъезда графини, взвился флаг, и не трехцветный, а ихний флаг, красный. Но девочек с места не тронули. Уже поздно осенью какие-то не совсем штатские пришли с бумагой о выселении.
— Футуристы, — догадались девочки, — у тех на портрете вместо двух глаз всегда один за ухом, а у этих — погоны с плеч вдруг сползли справа на локоть.
Сколько ни плакали, никто не помог. Почетные опекуны все как сквозь землю провалились. Были слухи: в белых камергерских панталонах и при звездах давно уже свезли их куда-то.
Братья, кузены, моншерики, которые еще здесь, такие надели кепки, так сразу сделались вроде «этих», что многие девочки приняли революцию.
Хорошо тем, кого разобрали домой. А сестрам Тате и Аллочке — им куда? Женихи Коко и Куретов бежали, тетенька умерла, и сейф ее стал рабоче-крестьянским.
Если бы не Зельма Карловна, они бы тоже: взяли бы и умерли. Но Зельма Карловна — вдруг — такая божественная. Достала бесплатный проезд на юг и на какое-то там помещение. Всю дорогу учила, как надо жить. Из этого даже неприятности вышли. В вагоне битком набито, а Зельма Карловна в толпе очень любит, чтоб ее считали за русскую, и говорит непременно по-русски. Каждый свой совет так начинает:
— Я вам говорю... wie eine Mutter, по-материному...
А контроль, быстрый, военный, как обернется, как зыкнет:
— Пожилая гражданка! Чему молодых учите? Новое правительство у нас не одобряет, чтоб выражаться...
А весь вагон на контроль:
— Да вы и сами ничего, кроме как выражаетесь...
А контроль вагону:
— Прошу не относиться...
И долго они этак-то...
Девочки плакали, а Зельма Карловна уже без перевода, на одном немецком, бранила и Россию, и русских.
И на юге Зельма Карловна сирот не бросила: уплотнились в комнатушке вшестером, и сейчас записочки, цветочки, журфиксы...
— Всех пристрою... — сулит Зельма Карловна, — нос привесил, чего не весел. Со мной никто не пропадет... Я огонь, я вода, я медная труба... все умею...
На фабрике, что ли, когда-то служила, в классных дамах скрывала, а теперь фабрики в моде, чего ей скрывать!
Прежде, бывало, только в саду в уголочке, от надзора подальше, споет девочкам из оперетки и ножкой покажет: дрыг, дрыг, но сейчас глаза к небу, и все хором: «Hoffnung» Шиллера.
Вот беда — недолго длились журфиксы. Как-то, в течение одного вечера, Зельма Карловна сама вступила во вторую молодость с латвийским подданным и замыслила в Латвию. Трех девочек она успела пристроить на очень хорошее продовольствие, конечно — одним советским браком, «покуда это правительство». Но вот Тата и Аллочка остались ни с чем.
Напрасно трудилась с ними Зельма Карловна.
— Мелкий рыбка делает тоже сладкий уха. Хорошо один синица тут, чем один журавль там. Старые женихи zu Grunde gegangen [Погибли (нем.). — Ред.], берите советских.
Сестры не сдавались. Шли толки о скорой перемене.
Прощаясь, Зельма Карловна окончательно со слезами наставляла, и совет ее напутственный вот:
— Шейте мужское белье. О, по заказу мужчину узнать можно без ошибки. Numero eins [Номер первый (нем.). — Ред.]: он несет целую штуку и не знает, в ней сколько аршин, и не знает, что ему надо, и стоит совсем глупый, и просит: шейте мне сами знаете что, — такому сейчас белый шар, такой хороший в мужья. И не скупой, и смотрит всегда через пальцы.
A Numero zwei [Номер второй (нем.). — Ред.] — мужчина, всегда знает, сколько в штуке, и фасон, и какие швы. Он и лоскутки просит назад. О, это feiner Schelm [Продувная бестия (нем.). — Ред.], очень способный для удовольствия, но такой женится поздно и только на богатой...
Numero drei [Номер третий (нем.). — Ред.] — тоже мужчина. Такой несет три старых, чтобы шить одно новое. Он хозяин — очень полезный. Но даром такой не делает, а надо его обхитрить: обещай и не дай. Надо брать — цап, как кошка, und gleich [И сразу же (нем.). — Ред.] вольтижирен, вольтижирен...
И Зельма Карловна всем полным станом изобразила упархивающую от преследования бабочку...
II
Уехала Зельма Карловна. Тата с Аллочкой нарисовали на голубом небе белую сорочку, подписали: «И из старого новое». Повесили на улице под огромной подошвой, прочно прибитой с прошлого года; на подошве стояло: «Каждому, при этом спешно, подшиваю валеные сапоги».
Размышляли сестры о том, стоит ли вырезать указующий перст в их квартиру, но решить не поспели.
Вдруг на улице опустело; на тяжких грузовиках, страшно сверкая черными глазами, носилась с громом грузинская охрана и гнала граждан с улицы. А граждане, смекнув о смене правительства, памятуя одну ненасытность домашних буржуек, жадно кинулись расхищать «агитацию» для топки. Наперебой срывали плакаты, рвали на части фанерную подбойку, по кустам тащили «Красного командира» и «Одна вошь хуже десяти социал-соглашателей».
— Один вошь экспроприации не подлежит, — шумела грузинская охрана, сверкая белками. — Нэт красный вошь, нэт белый вошь...
— Плакат бессменный, — соглашались граждане и, смеясь, тащили по улицам до того увеличенного паразита, что издали виднелся он пароходом. Расхитили и деревянный мосток, перекинутый на главной улице так, что мешал он движению, но тем более льстил восхождению оратора.
Через два дня на месте плакатов — везде приглашения: гусары, уланы... Зовут на обед... И банкет, и парад, и аксельбанты, и музыка. А в саду на музыке, под старинные «Дунайские волны», Тата и Аллочка встретили своих женихов, Коко и Куретова...
Они были с полновесными дамами. Коко — с брюнеткой. Куретов — с перекисеводородной, кудри — чесаный лен. Дамы с сознанием власти и прочного навыка тяжко висли «под ручку».
— Бобелины полночные... — сказала злая Тата, а младшая, Аллочка, как вскрикнет:
— Коко!
Повернулся, узнал, вспыхнул. Подошли оба, здоровались, красные, молча. А бобелины вслед:
— Познакомьте и нас.
Коко вписал в книжку адрес и сказал, целуя Аллочке ручку:
— Сегодня вечером буду.
А Куретов поцеловал ручку Тате и сказал то же самое.
Ну, что же: они пришли. Не успели притворить двери, как в открытом окошке мелькнули два белых платья, и капризно сказал голос:
— Если вы будете долго, мы тоже уйдем.
Тата прищурила на женихов глаза, как от солнца:
— Вы не свободны — зачем же пришли?
Коко был длинный, в обтянутых рейтузах. Куретов тоже в рейтузах, но коротенький и такой ловкий, что ему целый день говорили: «Куретов, почему вы улан, а не летчик?»
Куретов спустил на окно занавеску, придвинул стул к Тате, и сразу они о деле, оба хоть молоды, а деловые. Коко взял Аллочку под руку, и они шептались в углу.
— С предрассудками кончено и у нас, — сказал Куретов невестам, — как прежде, не лжем; тем более вы видели, дамы у нас, скрывать нечего, приручились... Однако иначе нельзя: две жены — норма. Одна — походная, другая — оседлая... С оседлой — браком законным. Но от церковного мы не отказываемся, а это ведь не советский какой-нибудь, подумайте. Хотите, завтра?
— Завтра и я готов, — отозвался Коко.
— А как же походные?.. — Тата не кончила.
Куретов понял.
— Видите ли, не ровен час, наше дело военное...
— Дурак, — через плечо послал Куретов. — Видите ли, на случай, так сказать, долгих маневров, вообще операций, ведь не тащить жену с эскадроном... время... видите, военное. Но законной женой и, заметьте, княгиней останетесь вы.
— Те у нас маргариновые, — объяснил Коко, — для продления рода и титула — черта с два!
В окно настойчиво застучали.
Куретов вскочил бешеный:
— Мы их сократим, Коко. Марш!
Оба кинулись к двери.
— Какая наглость!
Тата металась по комнате, Аллочка плакала.
Женихи скоро вернулись, но всего на минутку. Их, оказывается, искал вестовой, спешно требуют в штаб. Целовали ручки, обещали прийти завтра.
— Они что-то врут с этим штабом.
Не успокоится Аллочка, плачет. А Тата с характером. Как стукнет кулачком по столу:
— Покажем им завтра, как врать. Или мы, или бобелины. Уль-ти-матум — и кончено!
III
Ультиматума ставить не пришлось: женихи больше не приходили.
Зато очень скоро вдруг рано утром взбесились автомобили, умчали всех военных через мост. Говорили они: на маневры. А город-то знал, что маневр этот зовется побег.
Зеленые стали лица, и дрожали губы, забыв все слова, кроме двух букв:
Че-ка. Она знает.
Была паника. У кого стоял штаб, где пекли пироги, где к красному знамени были пришиты полотнища белое и синее. Она знает все.
Теперь портачили наскоро из этого белого и синего что попало, готовясь выставить одно только красное. Но лучше бежать.
Великан за рекой уже стал выколачивать свою мебель. Ух, ух — туго падал удар на пружины, и сказал обыватель: «Вот пушки».
За стеклом магазинов проворные руки подставили вместо сыров и колбас одну картонную символику этой снеди. По тротуарам плелись на окраины с узелками старорежимные старички и старушки, записанные разведкой куда следует. В интервал революции они укрывались к знакомым прислугам и крестникам, красным дворникам, красным прачкам. В интервал контрреволюции красные граждане вступали под их покровительство.
Случалось: чиновная старушка, пожалев молодого коммуниста, объявляла его племянником. Он вскоре вписывал в трудкнижку ее своей бабушкой и носил ей паек...
Дамы с сумочкой в руках, где у них будто бы самое дорогое, на самом деле зашитое в потолстевшей вдруг талии, профессора, педагоги бежали к вокзалу. Бледного, как воск, генерала бережно вел юный прапорщик, свежий и розовый.
Немногие буржуи с деньгами, не страшась никаких перемен, скупали в мешки все подряд, что не скрылось с базаров, — и желтую тыкву, и сито, и гвозди.
Ахали, охали в богадельнях бабушки: боялись бомбардировки.
Не знали, будет ли лучше. Хуже быть не могло. Раз в день давали кипяток с крупой — «промывательное», так острил сторож Казатыч, у которого от этой самой крупы толстели куры.
Веселились одни лишь мальчишки: перекинув через плечо ремень с плоским лотком, полным рыжей, самотопной, паточной дряни, которую для блеска гладили языком, они катились по тротуарам на одном ролике и вопили:
— Карамель ирис, ешь — не давись!
IV
Тата и Аллочка приделали на своей вывеске к белоснежной сорочке красный галстук и красной краской вывели наверху:
Белошвейная «Красные маки».
Зельму Карловну помянули: мужчина номер первый, и второй, и третий — который придет?
Звонились многие, но приносили совсем не белье. Кто чайник лудить, кто искал козу, шерсти черной, один рог сломанный.
— Здесь нет козы, здесь белошвейная «Красные маки».
— Все одно, ежели указавшему лицу, где она находится, вознаграждение...
И вот вошли двое, галифе на ногах, краги — новенькая карета, смотрись, что в зеркало; в руках штука полотна, а руки — руки с маникюром. Шаркнули, пальцы к козырьку...
— Просим сорочек, сколько выйдет, — начал один, а другой — словно блюдо выхватил скорее подавать:
— Инициал просим гладью...
— Конечно, красным, — сказала Аллочка, трудясь вспомнить, где она видела эти лица, одинаковые, как у близнецов, здоровые, сероглазые, с плутовским ярославским носом...
— И не угадали! На белье это совсем моветон... Забыли, мадемуазель Аллочка, как сами учили...
— Федя! — вскрикнула Аллочка. — Федя и Сенечка из старшего отделения!
— Так точно, а сейчас товарищи Дедины: комиссарствуем.
— Таточка, смотри скорее, из Смольного! Садитесь, пожалуйста.
Сели скромно. Печниковы мальчишки, старого Василия дети. Сенечка конфузливей брата — смотрит, как тот: каблуки сомкнул, в одну руку фуражку, другую вольно.
— Вот из печников да комиссарами, — ухмыляется Федя, а Сеня за Федей:
— Да, да, комиссарами.
— Ах, расскажите. За отличие в поведении?
— Точно так. Как и вы, с института, мы приучены к твердой власти, и самой природой избавлены от воображения, как прочие... на митингах... Сегодня их меньшевик разговорит, а назавтра эсеровские...
Федя говорил и любезно, как кавалер, и вместе с тем важно — по должности.
— Немало таких, — вступил Сеня, — намитингуются, мозги распухнут и, без сомненья, на Удельную, сумасшедший дом уплотнять.
— Никуда мы не ходили, ничего не искали, в Смольном выросли царскими, в нем же обернулись советскими. Д-да, как увидели: власть, как прежняя, всех одолела — словом, «единый фронт пролетариата против буржуазии».
— Ах, пожалуйста, — пискнула Аллочка, — этих слов не надо.
— Помилуйте, разве это слова, что вы? — Сенечка даже со стула привстал. — Мы слов не говорим, так про нас известно: братья Дедины не выражаются. Мы среди вас воспитаны, нам это очень неприятно.
— Молчи, — покраснел Федя, — извините, мадемаузель Аллочка. Мадемаузель Тата, он еще малосознательный, объяснить не умеет. Единый фронт — это как у вас, примерно сказать, считались военные против всех прочих «шпаков». Увидели мы, значит, что власть обсиделась, и без сомнения примкнули. Натурально, как несвоевременное, все прежнее мы отбросили и стали учиться уже специально. Вместо вашего благородия — товарищ, и все прочее в соответствии...
— Поведенью другому учиться не пришлось, поведенье, я вам скажу, вполне одобряется, как и раньше: «Даже казну можно красть, только в воры не попасть». Помните, в дортуарах все пели, это братец одной барышни научил...
— Ну вот еще, казенное — какая тут кража! Никогда не считали.
И вдруг Аллочка:
— Знаете, тут казенное близко — совнархозов огромный малинник, пойдемте вечером.
И совсем как бывало горят и глазки, и щечки, только бы пошалить... Но Федя не сдает, почти строго:
— Достояние коммуны — достояние народное, незаконна лишь частная собственность, превышая потребность гражданина.
— Бросьте, Федя, бросьте, — и Тата, и Аллочка хлопают ручками, — идем вечером в совнархозову малину.
Федя встал, за ним Сенечка. Откланялись. И два пальца к козырьку:
— Разрешите зайти за вами вечером в кинотеатр?
— В совнархозову малину.
Смеялись.
И еще сказал Федя:
— Польщены нашей встречей. Мы здесь теперь уж надолго. Последний фронт пал, предстоит культурная работа на местах. Нам с братом желательно по-французски.
— Редкая, знаете, есть одна книжка, у нас нарасхват. — Сенечка чуть замялся, боясь переврать.
— «Три мушкетера», — спас брат Федя, — мы побились в пари, что прочтем по-французски.
— «Les trois mousquetaires»? Ну, еще бы не книга! Я вас буду учить.
Аллочке весело, Аллочка институт вспоминает.
— А ну-ка, Сенечка, как припев из Мальбрука, учила вас, помните?
И Федя с Сенечкой оба:
— Мирантон, мирантене...
— Ах, как чудесно, что мы встретились, ведь мы — одного воспитания. — Аллочка просто прыгала, ну как «малявка». — А еще помните, Сенечка, как потом-то скучища, все книжки отобрали, а мы вас обоих с Федей поймаем всем классом, завяжем глаза и платки даем нюхать. Федя скоро выучил. Ну, чем душилась Тата?
— «Грэб Эпль», — не моргнув, сказал Федя и, вынув из кармана платочек, развеял в воздухе нежнейший запах. — В память о вас сам душусь.
Он шаркнул Тате.
Аллочка покраснела и чуть не заплакала: у нее сейчас ни платков, ни духов.
— А барышня Тумская душилась «Кержанет»...
— Де, де, «Кер-де-Жанет», — поправила Тата. — Останьтесь пить чай, вскипятим на буржуйке.
— По долгу службы, — заторопились братья, — уж разрешите нам вечерком.
Они окончательно откланялись и на прощанье Федя вынул розовый конвертик и с хитрым лицом, чуть краснея, подал Тате.
— Письмецо от Зельмы Карловны. На пути встретились, весело провели день в теплушке.
— Что же вы раньше-то, ах какой!
— За приятным разговором из памяти вон, — лукаво сказал Федя. — Итак, разрешите до вечера.
V
«Мои детки, шлю вам мое матерное благословение», — опять наслаждалась по-русски Зельма Карловна, и на розовой бумаге детскими буквами сообщала, что братья Дедины сейчас комиссары и первый сорт заказчики по всем трем номерам: «И пробовано, и верено», — шутила она в конце и целовала и благословляла на «благополучную жизнь».
— Отлично себя держат, каковы комиссары! — одобрила Аллочка. — Но все же зачем ты, Таточка, их позвала и чаем поить хотела? Еще в малину с ними можно пойти и разок посмеяться, но быть знакомыми, как с господинами... Все-таки, се ne sont que des [Это всего лишь (фр.). — Ред.] печники... для знакомства... mersi.
— Они нам не для знакомства, — сказала строго Тэта, — они нам вот для чего: чтоб за них выйти замуж советским браком. И Зельма Карловна сватает...
— Ты с ума... ты с ума сошла!
— А ты дура. Но историю вспомни: Сикст Пятый «выпрямился, глаза его сверкали» — он стал римским папой, и кто же вспомнил, что он был пастух. Меньшиков — пирожник, Годунов — татарин, и, главное, вот, — Таточка стиснула Аллочку за руки. — Главное — мода!
— Мода, — это Аллочка поняла. — У tante Софи столько было карточек, все дамы с турнюрами, просто срам. A ma tante говорит: «Глаз привык, так привык, что без турнюра — уж будто без всего».
— Ну, то-то же. Теперь мода на демократию. Виктор Гюго, «Девяносто третий год» — это помнишь? Если высшие должности у простых, то любить их вовсе больше не стыдно. Сейчас французская революция у нас. И главное, Аллочка, милая, самое разглавное: они не уйдут, и продавать нам, понимаешь ты, продавать нечего...
Аллочка плакала:
— Мы в дортуаре при них раздевались и умывались, и даже классухи их не гнали: «Се ne sont pas des hommes» [«Это не мужчины» (фр.). — Ред.]. А на приеме, бывало, перед Коко спустишь
платье с плеча, классуха сейчас подзовет: «Стыдитесь! Ne faites pas rougir votre ange gardien! [Не заставляйте краснеть вашего ангела-хранителя! (фр.) — Ред.] И вдруг замуж не за Коко, а за этих!..
— Ну, жди Коко, иди в «оседлые» жены. Оседлая и походная... А уж эти-то верные...
— Но их целовать — все равно что плюшевых мишек.
— Да что ты все «их» да «их». Твой один — Сеня, а мой — Федя. — Тата сердилась. — Придут вечером, и конец. Надобно сразу как женихов.
Аллочка плакала-плакала.
— Мне все равно: что два, что четыре, мишка плюшевый... И кто обманул нас, кто выдумал: les mariages se font dans les cieux [Браки совершаются на небесах (фр.). — Ред.].
— Глупая, так ведь это про церковный брак сказано, а ведь мы только советским. — И Тата, как старшая, целовала сестру. — Мы ведь только советским.
VI
Вечером, когда вошли Федя и Сенечка, сестры были нарядны, напудрены, в бантиках и в последней непроданной паре чулок-паутинки. Духов не было и в помине, и поочередно натерлись обмылком уцелевшего мыла, à la «Reine des abeilles» [Наподобие «Царицы пчел» (фр.). — Ред.].
Звонок. Братья шаркнули, сестры ловко продели им под руку ручки и пошли парами в кинотеатр: Аллочка с Сенечкой — впереди младшие, сзади — Тата и Федя.
Тата настойчивая, с убеждениями, она не уступит.
— Значит, после кино мы за город, в малинник совнархоза?
А Федя тоже сознательный: хоть он улыбается и старается ногу ставить легко, чуть звеня шпорой «с малиновым звоном», как, бывало, звенело у «тех», однако вызов принял и не сдается.
— Я поспел навести справки: есть малинник частный, в генеральской усадьбе Ерагина, генерала, пойдемте туда.
Но Тата древним женским знанием знает, как надо вдруг сделать и ножкой, и карим глазом, и вообще как-то так, чтобы сломить все-все упорство...
Она говорит и тягуче, и тихо:
— У меня свои убеждения, я пойду лишь в малинник совнархоза.
И как эхо — Аллочка:
— У нас убеждения. И ультиматум: малинник совнархоза.
Засмеялся Сеня, сказал:
— Федя, ну чего упираешься? Ведь малина одна, что генералова, что совнархозова. Малина — сладкая.
И Тата опять как-то так, и сдает Федя позицию...
— Что ж, уступим гражданкам прекрасного пола. Малина, если об ней специально... без сомнения... сладкая...
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





