ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Кожухова Ольга 1959
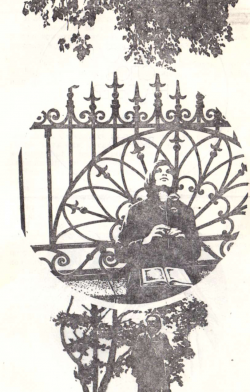
1
КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ
На Тверском бульваре под окнами Литературного института, знаменитого Дома Герцена, в маленьком скверике растет дерево. Оно раньше других разворачивает свои клейкие почки и покрывается зеленовато-бурыми, темными листьями, а осенью рано желтеет, становится малиновым, красным, и каждый, кто живет или учится на Тверском, хорошо его знает.
Под шумящею кроною этого дерева целые поколения прозаиков и поэтов читали стихи, спорили и влюблялись. И, будь это дерево говорящим, оно рассказало бы нам немало тайн. Но, увы, оно сурово и молчаливо охраняет покой Литературного института, стоящего позади него, в глубине двора.
Дом Герцена! Родные пенаты! Наш отчий дом... Кто о тебе не писал и не пел и сколько еще напишут и споют? Перечитывая романы и повести друзей, просматривая утром газеты, нет-нет и увидишь: мелькнет что-то очень знакомое — институтская шутка, или деталь того, прежнего, студенческого быта, или то настроение, отголоски шумного спора, тех раздумий, какими жили пять лет сообща. И прямо ли, косвенно, а ни один, наверное, не обойдет в своем творчестве ни этого скверика, ни института, ни красных, огненных листьев осеннего клена.
Эти пятипалые резные листья были для нас вполне вдохновляющим подручным поэтическим материалом, и символом связи с природой, и единственным украшением в нашей «Большой девичьей» комнате в общежитии. В те голодные послевоенные годы единственно, чем мы могли украсить свою жизнь, — это багровыми с лиловыми прожилками осенними листьями. В белой вазе, неведомо кем и неведомо где раздобытой, они стояли всю зиму на круглом столе, напоминая о плодотворной пушкинской осени в Болдине и о том, что «не бродить, не мять в кустах багряных лебеды и не искать следа».
Осматривая институт в сопровождении нашего директора Федора Васильевича Гладкова и каких-то важных дядей из высших инстанций, Александр Александрович Фадеев однажды увидел эти листья и на мгновение вдруг странно умолк. Он глядел на них задумчиво и чуточку грустно. И потом уже ходил вместе со всеми по институту рассеянный, молчаливый. Может быть, и ему они что-то напомнили.
На Тверском бульваре в доме № 25 прожито в общем-то не так уж много. Всего пять лет. Одна пятилетка. Но впечатления, сложившиеся за это время, по яркости напоминают красные листья институтского клена. Они, как следы неведомого зверя, отпечатались на тех самых дорожках памяти, по которым ходим каждый день, и не дают покоя.
Прошло уже много лет с той минуты, когда в нашем старом «колонном» зале председатель государственной экзаменационной комиссии Константин Михайлович Симонов вручил нам дипломы об окончании Литературного института имени А. М. Горького при СП СССР. И многие мои однокурсники уже стали маститыми, лауреатами и просто хорошими прозаиками и поэтами, драматургами и переводчиками. Иные же бродят по стране с репортерскими блокнотами в руках. Иные сидят в редакциях и важно кивают заглянувшим на огонек однокашникам. Иные, еще безвестные и немаститые, в течение уже долгого времени готовят миру удивительнейшие произведения, ибо если не верить в то, что эти произведения удивительнейшие, то нет смысла их и писать. А иные уже и вообще никогда ничего не напишут. В жизни всяко бывает. Но дружба, закаленная в ожесточенных спорах и литературных боях в Доме Герцена, останется нерушимой, наверное, до скончания наших дней. И еще не раз бывшая «молодая» литературная гвардия — ныне она становится седой и почтенной, ведь годы-то идут! — добрым словом вспомянет Тверской бульвар, институт, общежитие, наши шумные коридоры, наши тихие аудитории, где мы взрослели и становились мудрыми.
Добрым словом хочу и я их помянуть.
И пусть это будет не цельный, пышный, яркий букет — я не хочу обламывать клена, — а только отдельные, разбросанные, сорванные ветром листья: как легло на дорожку...
2
«ДОМ ТИРЕ МУЗЕЙ»
Дом, в котором некогда родился один лишь Герцен, а теперь ежегодно «появляются на свет» десятки молодых писателей, очень дряхлый и ветхий. Это — старинное двухэтажное здание, и оно ремонтируется всеми аккуратно сменяющимися, подобно временам года, институтскими директорами. И каждый из директоров привносит в его древний облик что-то свое. Один перестроил и сделал для себя из двух аудиторий обширнейший кабинет. Другой обрубил старый балкон, выходящий на сквер. Третий отгрохал подъезд под гранит и мрамор. Четвертый...
Впрочем, там дело найдется и пятому и шестому. Низки своды узеньких коридоров, до смешного малы аудитории, пахнут сыростью и плесенью темные подвалы, а каменные лестницы с истончившимися ступенями, несомненно, видали лучшие дни...
Я помню, как в том, первом послевоенном году начальник военно-физкультурной кафедры института полковник Иван Александрович Львов-Иванов на одном собрании печально сказал:
— Наш дом тире (!) музей приходит в упадок...
В те времена, о которых я говорю, вы, войдя в дом и поднявшись по лестнице, поворачивали налево и попадали в небольшую переднюю с деревянным диваном и деревянными креслами, расставленными вдоль стен. Старинное зеркало в резной черной раме, несомненно, отразит вас во весь рост. И если вы пришли в тот час, когда кончились занятия в аудиториях, вас немедля здесь же, у входа, строго допросит наш сторож, знаменитый дед Тарасыч: кто вы, куда вы, к кому и зачем. Потом он величественно махнет вам рукой, мол, что ж делать, идите, а сам сядет в резное деревянное креслице перед старинным высоким окном, распахнутым в сад, и опять погрузится то ли в чтение газеты, то ли в свое стариковское, медлительное, раздумчивое забытье. Вы же можете шествовать дальше.
Вот в коротеньком, куцем коридорчике, в проеме между окнами, доска приказов. Ее следует внимательно изучить, потому что вся внутренняя жизнь института отражена здесь, как в зеркале: тут серия строгих выговоров на все буквы от Агашиной до Шорора, приказы, решения, списки исключенных, списки лишенных стипендии и скромные объявления: «Все, кто не сдал в срок зачеты, обязаны явиться на кафедру...» Или: «Нашедшего англо-русский словарь убедительно прошу сдать в библиотеку...»
На другой стороне коридорчика — институтская стенная газета, длиннющее, разрисованное всеми цветами радуги коллективное «Творчество». В газету, конечно, новичку не пробиться: «затирают». Так, по крайней мере, объясняет нам, первокурсникам, заведующий канцелярией, наш дражайший «Виктуар Иванович».
Здесь же, у окна, батарея центрального отопления. Когда-нибудь и ее, быть может, украсят мемориальной доской — столько замерзших классиков грелось возле нее долгими зимними вечерами! Посчитаться славою с этой батареей может только большая отопительная труба, которая находится несколько дальше, в еще одной, на этот раз темной, прихожей, перед главным коридором, идущим через весь корпус. Труба эта была у нас самым популярным местом свиданий, выяснения отношений и чтения «самых новых» стихов.
Справа и слева от главного коридора расположены кафедры, кабинеты начальства и аудитории — душные, тесные комнатки нелепых форм, с трудом вмещающие микроскопические курсы: каждый курс в пятнадцать-двадцать человек, не больше.
По сути дела, наш дом и состоит из одних таких комнаток, фойе, вестибюлей, коридорчиков и переходов. Он весь словно предисловие к чему-то, обещание, недоговоренность, загадка. Кто и зачем, например, создавал эти темные низкие своды? Кому надобны эти чуланчики, каморки и бесчисленные кладовые внизу, в подвальном помещении? Зачем там, внизу, такой длинный и неуютный зал, выходящий одними окнами на Тверской бульвар, а другими — на Большую Бронную?
О таинственность седой старины! Кто тебя разгадает? Мы молоды, и нам тесно здесь, в твоих темных прихожих, в твоих пахнущих плесенью, промозглых подвалах. В распоряжении института только и есть, что эти подвалы, коридорчики да комнатушки первого этажа. Самые лучшие, светлые, теплые помещения заняты Литфондом, грозной и воинственной страной «Литфондией», жители которой с равнодушным презрением посматривают на нас с высоты своего положения.
Я говорю: «заняты Литфондом», так как в 1945 году нам действительно еще негде повернуться. Вместе с нашим курсом, окончившим институт в 1950 году, ушел из Дома Герцена и Литфонд. И те блага, какие нынче выпадают на долю новых литературных поколений, нам тогда еще и не снились.
3
СТО И ОДНА БЕССОННИЦА
Над Европой еще не рассеялся дым войны. Рейхстаг в Берлине весь расписан солдатскими автографами. Каменные прусские генералы с отбитыми носами и канцлеры в Тиргартене робко жмутся и озираются: от развалин несет мертвечиной.
Всего лишь на днях капитулировала Япония.
Поэтому нет ничего удивительного, что на свое первое в жизни занятие в институте мы приходим в армейских гимнастерках, кителях и мундирах. Другой, цивильной, одежды у нас пока нет.
Кавалерист с алым башлыком поверх венгерки. Разведчик с тяжелым, как синяя гроздь винограда, курчавым чубом. Инвалид в солдатских обмотках, с палочкой. Десятиклассница с комсомольским значком на синем школьном форменном платье. Студентка, пришедшая на первый курс из Цветмета. Человек с профилем Байрона и скрещенными пушками на рукаве офицерского кителя: иптаповец [ИПТАП — истребительный противотанковый артиллерийский полк.], артиллерист. Железнодорожник, рисующий на нас карикатуры и шаржи. Он небрежно отбрасывает ладонью назад свои светлые волосы и глядит тебе в лицо излишне близко и пристально. И еще офицер. И еще офицер. Мы пока не друзья, не товарищи. Мы только собраны в одной комнате. И объединяет нас всех пока одна любовь к поэзии. К литературе.
А что такое поэзия? Литература?
Что нового мы можем сделать в поэзии, в литературе, когда уже есть столько славных, великих имен и столько написано великолепных книг?! Когда уже созданы «Сказка о царе Салтане», «Метель», «Демон», «Казаки», «Война и мир», «Нос», «Дедушка Мазай и зайцы», «Скифы», «Облако в штанах», когда есть Дон-Кихот и Гамлет, Иудушка Головлев и Обломов, Павел Корчагин и Наташа Ростова и вечная, неувядающая любящая и несчастливая Дама с собачкой? Что мы можем прибавить к этому? Что?..
Старшекурсники — в основном белобилетники — с любопытством и уважением поглядывают на наши загорелые, смуглые лица, на костыли и ордена. В тоже время они ревниво и с подозрением следят за каждым нашим поступком, вслушиваются в наши споры: ну, эти, мол, сейчас начнут рубить сплеча! Солдафоны! Фельдфебели. Добра от них не жди. Небось и не смыслят в литература, а туда же — в писатели!..
Иногда кто-нибудь из «старичков» выходит в разведку:
— Скажи мне, кто твой литературный учитель, и я скажу тебе, кто ты!
— Ну, ну, скажи!
— Так кто твой учитель?
— Комбат Павлик Маношин. Он ходил в атаку, не пригибаясь.
— Нет, серьезно...
— Куда серьезней! Жизни своей не жалел... Разве кто-нибудь этим шутит?
— Но ведь я говорю тебе о другом.
— Ах, ну, если о другом! Тогда конюх Роман Васильевич из нашего совхоза. Он, бывало, когда чистил рысака, всегда приговаривал: «Вот, милый! Овес ты исправно жрешь, а работы твоей нигде не видать. Ишь гладкий какой! На тебе, черте, можно землю пахать, а ты в белых чулочках танцуешь!»
Собеседник, оскорбленный в своих лучших чувствах, сердито машет рукой и хлопает дверью.
Мы робеем, ершимся и говорим старшекурсникам дерзости вовсе не потому, что любим дерзить. Мы сами еще не знаем себя и тайком, с недоумением приглядываемся друг к другу: действительно, братцы, а кто мы есть? Кому в своем творчестве мы должны следовать и кого слушаться, чтобы не сбиться с дороги? Кому подражать? И вообще, выйдет что-нибудь путное из нас или не выйдет? Не потеряем ли мы драгоценное время даром?
Говорят, писателем нельзя сделаться, им нужно родиться.
Но вот какие-то люди — а у них есть имена и фамилии, и они не скрывают своих должностей и званий — принимают тебя в институт и тем самым как бы говорят: «Послушай, товарищ! Мы можем помочь тебе стать настоящим, толковым писателем. Но для этого ты должен учиться... Всего-навсего хорошенько учиться...»
Кто откажется, видя столь деловую постановку вопроса?
— А Горький вон никаких институтов вообще не кончал... И великий писатель!
— Ну и что?.. Ну и что, что не кончал? Может, он с радостью бы его кончил, сложись иначе вся его жизнь!.. Может, тогда ему не пришлось бы с таким трудом постигать всю эту науку, наживать чахотку, губить здоровье... Может, он потому и создал для нас институт, что сам на себе испытал, каково это — в литературе работать самоучкой!
— Нет, по-моему, на все нужен свой собственный опыт. Человек сам рождается, сам женится, сам плодит детей и сам умирает. И писателем он должен становиться сам, пробиваться собственными силами. На то и существует в природе естественный отбор, чтобы выживало только крепкое, сильное, смелое...
— А зачем же ты-то здесь тогда? Если ты и в самом деле считаешь, что без учения лучше, забирай документы — и валяй себе к ляху, на все четыре стороны. Тебе-то тогда чего здесь надо?
— А вдруг да действительно чему-нибудь научат?.. А?.. Как же это я свое счастье упущу?
В эти первые дни с непривычки голова разламывается от разных новых проблем.
Например, нам сразу сказали, что гения рождает усидчивость и трудолюбие. И при этом сослались на Бальзака. Хорошо, если это действительно так. Тогда все очень просто. Но, однако, тогда, что ж, Боборыкин, выходит, тоже гений? Уж в чем, в чем, а в трудолюбии ему не откажешь. Он прожил очень долгую жизнь. Он родился, когда умер Пушкин, и умер, когда родился Гудзенко, и всю жизнь трудился, писал романы. Он написал их сто. А кто сейчас знает такого писателя? Кто читал эти сто романов Боборыкина?
И откуда тогда вообще графоманы? Как они размножаются? Простым делением клеток?
Наш курс сразу распадается на два лагеря.
Одни молча приглядываются друг к другу, внимательно изучают обстановку, вникают, желая прежде во всем разобраться, дабы не попасть впросак. Другие сразу же лезут в литературную драку, в жестокие споры: кумир, только что превознесенный выше небес, тут же и ниспровергается. То, что вчера цитировали как классику, как образец, сегодня выбрасывают на литературную свалку. «Так ты в самом деле считаешь, что ассонансная рифма — дерьмо? Ах ты, бездарность, дурак!» — «При чем здесь рифма?! Я за смысл, я за содержание...»
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют...
Поздно вечером на втором этаже, там, где библиотека и комната для тихих занятий, можно слышать треск каблуков, отбивающих чечетку, разудалый мотив:
С красоткой Гоффи
Мы пили кофи...
Взбудораженная, сбитая с толку, я выхожу после занятий на Тверской бульвар и долго брожу по осенней грязной, неприютной Москве...
Кружатся трамваи по московским бульварам. Кружатся по асфальту желтые листья. Кружатся мысли в голове.
Неужели действительно можно научиться писать стихи? То есть я, конечно, их пишу, стихи, и даже печатаю. Но научиться писать хорошо?!
Когда-то, еще до войны, я прочла в одной книжке довольно забавную фразу: «Кто бы научил меня таланту?!»
В самом деле: кто бы?
Эх!..
4
ВОЗДУХ ПОЭЗИИ
Был у нас в Воронеже отличный писатель — Борис Глебович Песков, высокий, задумчивый человек с удивленными, широко раскрытыми серыми глазами. Любил он охоту, рыбалку, поэзию и ребятишек. В те годы по городам и весям было много таких влюбленных в природу и поэзию талантливых «чудаков».
Песков водил нас, ребят из Дворца пионеров, в еще грязный и серый от талого снега Ботанический сад и учил слушать, как поют зяблики, малиновка, пеночка; смотреть, как на орешнике разворачивается золотая, в пуху, похожая на гусеницу сережка; как впитывает в себя перенасыщенный влагой чернозем густую, зеленоватую, сетчатую пыль весеннего дождя. Потом садился на сырое бревно и долго слушал, что мы рассказываем. Почему-то он любил нас слушать.
Потом мы снова бродили по скользким глинистым склонам оврагов, рвали подснежники: в лесах СХИ [СХИ — сельскохозяйственный институт.] и за Парком культуры их росло такое множество, что земля под деревьями казалась синей. Устанем, намаемся, а Песков все идет и идет вперед. Зовет за собой. Увидит, воробей купается в луже, усмехнется:
— Глупóй!.. Мало ему дождика...
И опять бредет дальше, в глубь леса, раздвигая большой загорелой рукой влажные ветки кустарников.
В те золотые довоенные годы Борис Глебович мне не раз говорил:
— Учиться тебе нужно, вот что! Обязательно в Литературном институте. Там сам воздух насыщен поэзией! Эти встречи с писателями, споры, общение с людьми думающими, пишущими, — они очень много дают... Гораздо больше, чем мы привыкли об этом думать. Обязательно поезжай. Я тебе настоятельно это советую.
Так я стала мечтать о Литературном институте — единственном в мире учебном заведении для писателей. Кончив в июне 1941 года десятилетку, я написала письмо в Москву. Мне ответили: «Иногородних не принимаем. Нет общежития». Ну на том и закончились мои попытки. Жить-то негде... Ничего не поделаешь... Подала документы в Воронежский государственный университет на филологический факультет. Меня приняли без экзаменов, по аттестату. А через день началась война. И сам Борис Глебович, и все мы, его ученики, надели шинели и пошли в свой первый, а для многих и в последний бой.
И вот спустя долгие годы я здесь, на Тверском бульваре.
Нелегкая фронтовая дорога привела меня наконец к заветной цели. Дорога, растянувшаяся на целых четыре года: через картофельные поля Белоруссии, через сожженные, черные, в голых вербах поля Западной Польши, через Берлин и Рослау-на-Эльбе — есть такой немецкий городок, где в мае зацветают под окнами розы...
Поезд медленно, недоверчиво, словно прощупывая колесами прочность рельсов, втянулся на мост через Буг. Мелькнул часовой, русский белоголовый парень с винтовкой. Потом вдоль состава замелькали такие же травы, как и на той, на польской, на немецкой, земле: одуванчики, мята, цикорий, белоус. Все такое же, а все-таки родное, свое, чем-то новое после долгой разлуки.
Хотелось соскочить со ступенек вагона на полном ходу, пробежать по траве босиком, упасть в эти травы, прижаться к самой родной на свете земле... Так, наверное, космонавт, возвращаясь из диковинной дальней дали, пытается сквозь отуманенный дыханием иллюминатор рассмотреть на лету эту дикую мяту: у нее даже запах свой, памятный, русский...
Может быть, поэтому воздух поэзии я ощутила еще на границе.
На Тверском бульваре он был во всем: в листьях красного клена, в отцветших георгинах, в смутном запахе пролитого на асфальт бензина и московского серенького, как госпитальная марля, дождя. Борис Глебович не ошибся. Здесь была совершенно особенная атмосфера.
Не обманул моих надежд и сам институт:
Знакомые дорожки и тропинки
И коридоров тесненький уют.
Здесь гении в изодранных ботинках
Высокое искусство создают...
«Гениев» действительно у нас очень много. Даже с избытком. Они много шумят и машут руками. И поэзия у них яркая, как... мухоморы в лесу: поначалу даже глаза разбегаются. Не перестаешь удивляться. Здорово! Очень здорово!.. Однако где же он, главный запах в лесу, крепкий, добрый запах белого гриба-боровика, незаметного под ворохом палых листьев?
На перерывах возле отопительной трубы, у батареи в коридоре, на подоконниках — везде читают стихи. И поздно вечером после занятий, когда в институте уже нет никого «взрослых», кроме ночного сторожа, — стихи. И утром, до занятий, вместо зарядки тоже стихи.
— Послушай, что я вчера вечером написал.
Целый день стихи, стихи, стихи...
Сто пятьдесят километров
строем прошла пехота... —
это читают под дверями Литфонда.
Все ушли одной дорогой,
Воротились разными... —
это в аудитории, за столом, укрывшись втроем одной шинелью.
Мы пойдем с тобой в песню, если ты одинок,
Ты, конечно, расскажешь, что видел когда-то
И какие дожди полоскались у ног
И слегка тяжелили одежду солдата... —
это в темноте на лестничной площадке.
И вдруг совершенно неожиданно, даже кощунственно звучат строки, читаемые сухим, жестким голосом, после звонка на лекцию, за две секунды до прихода преподавателя:
А там по мановенью Файера
Взлетает стая Лепешинских,
И фары плавят плечи фраеров
И шубки женские в пушинках...
Нам, воспитанным на суровом аскетизме военных лет, фронтовикам, прожившим на войне четыре года без отпуска, это кажется почти клеветой, чем-то невероятным. Неправда, чушь, ерунда! Не может быть, чтобы, пока мы сидели в окопах, кто-то стряхивал пушинки с женских шубок, наслаждался жизнью, всеми радостями, всеми благами огромного города... Не может быть! Это ложь!
И двое, один — с нашивкой тяжелого ранения, в военной форме, другой — без нашивок, сшиблись и покатились между столами клубком. С грохотом летит на пол тяжелый костыль.
— Ребята, да вы что, обалдели? С ума сошли! Разойдитесь! Опомнитесь...
— Не подходи! — В груди хрип и клекот. В глазах ледяные слезы ненависти. — 3-зашибу!
5
ГОЛУБОЙ ПОДВАЛ
К дому, к городу, как и к человеку, привыкаешь не сразу. А наш Дом Герцена, наш единственный в мире, еще и с норовом. В нем действительно нет общежития: каждый должен сам позаботиться о крыше над головой. Но... мы люди военные. То, что раньше казалось неодолимым препятствием, теперь выглядит пустяком, о котором нечего и раздумывать.
Не имеющие жилья вечерами расходятся, разбредаются кто куда: одни в гости к знакомым здесь, в городе, в надежде задержаться там до закрытия метро и последних трамваев, другие — за город, на дачи, но с той же корыстной целью, третьи — на собственные частные квартиры и углы. А самые необеспеченные и одинокие — а их большинство — собираются в наиболее теплом и просторном кабинете, сдвигают столы и мирно располагаются на ночлег, подложив под голову учебники, старые книги и подшивки газет.
Бездомные у нас не только «мальки» — первокурсники. Вместе с новичками на столах «квартируют» и старшие: краснодарский поэт Виктор Гончаров, ленинградская поэтесса Вера Скворцова, осетинская «драматургиня» Раиса Хубецова.
Случается так, что столов не хватает. Тогда запоздавший забирается внутрь огромной дубовой кафедры и сворачивается клубком — в другой лозе в ней лежать невозможно, а прозаик Алексей Бельянинов взгромождается на широкий ланельный книжный шкаф.
Потом, спустя год, мне пришлось побывать на открытии «Литмузея», организованного кем-то из остряков. В качестве главного экспоната там выставлялся стол, на котором «ел, пил и спал критик Александру Лацис».
Великий цыганский табор являют собой аудитории ночью! Кто-то, сидя по-турецки на своем жестком ложе, чистит воблу, мечтая о пиве. Кто-то, заткнув уши, зубрит английский. Возле батареи собрался «хорик», по выражению Федора Васильевича Гладкова, и, отстукивая себе аккомпанемент по крышке стола, горланит наш институтский гимн:
Если ты к нам попадешься,
В царство голода и тьмы,
И за сутки не загнешься —
Значит, ты такой, как мы...
День сотворения общежития почему-то затерялся в памяти местных летописцев. Никто не помнит, кому и когда «пришла идея в голову» очистить от грязи и вымыть институтский подвал и переоборудовать его под жилье. Однако несомненно — это был великий день в истории института.
Профкомовцы Настя Перфильева и Лева Кривенко в тот день никого не упрашивали остаться на субботник, исполнить свой гражданский долг. Им достаточно было объявить: «Будем делать общежитие». И на зов откликнулись все, даже те, кто имел в Москве папу, маму и теплую квартиру.
С лопатами, метлами, ведрами горячей воды мы спустились в мрачное помещение, стены которого были выкрашены голубой масляной краской. Этот голубой, небесный цвет немного смягчал пустоту и унылость подвала, чуть-чуть раздвигал мрачные низкие своды, напоминая о чистоте и высоте открытого ясного неба.
Даже с грязным цементным полом, заваленным кирпичами, грудами песка и глины, в обрывках бумаг и обрезках досок, голубой подвал выглядел библейским раем, обетованной землей, исполнением всех наших надежд и пределом мечтаний. И хотя окна были закрыты решетками и тускло глядели под ноги прохожим — на Большую Бронную с одной стороны, а с другой, со двора, упирались в груду дров, сложенных возле сарая, все-таки это была уже крыша над головой, это уже были стены, да еще какие — голубые!
Сперва, конечно, мы выгребли мусор, потом вымыли окна, полы и лестницы. И сразу в длинном несуразном помещении посветлело. Оно стало «жилым».
Через день пришли плотники, перегородили подвал пополам: дальняя часть стала «Большой девичьей», проходная перед нею «Манежем», ибо здесь всегда «ржали и топали», а ближняя, меньшая часть подвала, примыкающая к куче дров, отошла во владение к «мальчишкам» и называлась «Корчма».
Стенка, сделанная из фанеры и тоже окрашенная в голубой, немеркнущий цвет, отделила отныне овн от козлищ, оставаясь — увы! — проницаемой для каждого звука...
Узкие солдатские койки, серые солдатские одеяла, большой учебный стол посредине, несколько стульев да голубая вешалка, перетащенная из раздевалки, — вот и вся обстановка. Но зато сколько радости, сколько шума и разговоров на новоселье! Еще бы: «Голубые стены — розовая жизнь!»
6
ГОЛУБЫМ ОГНЕМ
Нигде во всем институте нет места более ледяного, душного и сырого, чем наши «Большая девичья», «Манеж» и «Корчма».
Обогреть огромное помещение двумя-тремя еле теплящимися батареями центрального отопления — дело, заранее обреченное на провал.
Поэтому мы спим, накрываясь всем, что есть в комнате и на вешалке: матрацами, выданными комендантом взапас, шинелями, шубами, даже ковровой дорожкой. И все равно сыро и холодно. За ночь чернила замерзают в чернильнице. На обуви, оставленной на два дня под кроватью, нарастает зеленый мох плесени.
На лекциях мы сидим не раздеваясь — в пальто, шубах и шапках — и дома, на кроватях — в тех же самых пальто, шубах и шапках. Иного выхода нет. Правда, можно затопить печку-голландку в «Корчме», да дров нет ни палки. А ходить воровать те, что беспечно лежат под окнами, — дело опасное. Они — собственность очень грозного учреждения, самой матушки-милиции.
Однажды после лекций мы зазываем гостей в подвал на «голубой огонек». Спрашивают, что это такое.
Отвечаем:
— Словами это не передашь. Нужно видеть!
Вместе с нами приглашенные спускаются по темной лестнице, их торжественно усаживают на лучшие места, возле самой печки. Видно белое дыхание людей.
— Спичку! Скорее спичку!
Дрова в печке разгораются сразу — поразительно красивым голубым огнем. Это и в самом деле трудно передать словами. Гигантскими голубыми бабочками, цветами невиданной величины, голубыми звездами, листьями, ящерицами необыкновенной раскраски прыгал по дровам, расцветая, огонь. Что-то таинственное было в его голубых извивах, в этом блаженном тепле, струящемся из раскрытой дверцы печи. Все смотрят на огонь задумчиво, серьезно, и лица выражают самое неподдельное счастье.
Догорели угли. Погасли. Покрылся пеплом печной под.
— А что это было — голубое? — спросил вдруг кто-то из непосвященных гостей.
— Тш-ш! Комендант! — крикнул страж у дверей, и все вскочили с мест, сгрудились толпою. Рита Агашина торопливо захлопнула дверцу печи.
Вместе со всеми гости идут к нам, на нашу «девичью» половину. Здесь все так же холодно, сыро. В комнате стало немного светлей от белых салфеток на тумбочках, от занавесок, но вместе с тем чего-то и не хватает. Глаз скользит по стене, по углам, не останавливаясь ни на одном предмете.
— Да, а где же ваша знаменитая вешалка? Она так украшала... — спрашивает кто-то из вошедших с удивлением. — Вы ее убрали?
Взгляд, устремленный на гостя, чист и ясен.
— Вешалка? Так ведь это она и горела... голубым огнем. Разве ты не догадался? Комендант к нам обычно приходит инвентарные номерки из золы выгребать...
7
ДВЕ ЛУНЫ
Как-то вечером в пустой и темной аудитории — в темноте, как мне кажется, теплее, уютней сидеть — мы остались вдвоем с черноволосой румяной девушкой с нашего курса. Она расспрашивает меня о моей жизни до института. Это звучит как «до нашей эры». Я отвечаю несколько односложно. Всего сразу ведь не расскажешь. Я отшучиваюсь словами Горького:
— Я вам лучше напишу!
— Когда напишешь?
— Когда-нибудь напишу. Обо всем напишу.
Я прошу ее почитать стихи.
Ведь именно это главное, что определяет человека в нашем доме, а совсем не то, что человек говорит о себе, и даже не то, что о нем говорят другие. Стихи — это вся твоя жизнь, твоя душа, твой характер, твое отношение к окружающему. Тут не прикинешься, не солжешь.
К тому же я слыхала, что Инну приняли в институт за «военную» поэму, а на фронте она не была, и мне интересно услышать, как она представляет себе войну — что это такое.
— Поэму читать не буду. Это уже пройденный этап. Новые стихи прочту.
В доме тихо. Ни голосов, ни шагов в коридоре. Изредка только скрипнет дверь от сквозняка да в саду ветер качнет деревья, и они жалобно, по-собачьи заскулят на морозе.
Я внимательно слушаю. Это чтение и для меня своеобразный экзамен, не только для Инны. Я хочу проверить: сумею ли я сразу разгадать человека, понять его так, чтобы вся дальнейшая жизнь лишь подтвердила мои первые выводы? Что-то видится мне в моей однокурснице легковесное, торопливое.
А она читает:
Две луны — в темном небе звездном
И в холодной большой реке.
Очень ветрено. Очень поздно.
И руке хорошо в руке.
Вдруг берешь ты меня за плечи
И сквозь зубы: «Люблю, пойми...»
Серебристую гладь калеча,
Ветер воду рябит в Томи...
Говорят, для того чтобы стать писателем, надо хорошо узнать жизнь. Но что может знать о жизни восемнадцатилетняя школьница, да еще с этой вечной болтовней, с вечным смехом. Но откуда тогда взялись «две луны»? Фантазия? Выдумка? Ведь не может же Инна пока знать ничего ни о сложностях жизни, ни о том горьком опыте, который приходит с годами, когда постепенно постигаешь скрытый смысл явлений и слов. Почему она все же берется так смело за внешне, казалось бы, непосильное дело и его выполняет? Может быть, талант иногда идет не от жизни, не от собственного опыта, решаю я, а от чужого, может, он иногда умеет угадывать, что-то чувствует интуитивно?
Лев Толстой и тот никогда не расставался с записной книжкой, заносил в нее все, что видел и слышал, не надеялся на собственное воображение, подстерегал и ловил деталь с изумительной зоркостью. Прежде чем стать писателем, Горький обошел пешком всю Россию и на собственном опыте узнал жизнь миллионов обездоленных. Чехов, как врач, хорошо понимал, что такое страдание. Салтыков-Щедрин видел множество городов, прежде чем написать свой прославленный Глупов.
Но откуда, каким опытом рождена, например, такая фраза: «В Китае, как ты знаешь, все люди китайцы и сам император — тоже китаец»? Не в учебнике же географии у Н. Н. Баранского ее вычитал Андерсен?! Что исходит от точного знания и что от фантазии, от игры, от усмешки? Никто не спорит: писатель может домысливать, но до какого предела? И не слишком ли мы старательные ученики у будничной повседневности? Может быть, у талантливого, животворящего ума бывают и свои особые праздники?..
Я часто встречала в жизни людей, которые своим талантом обязаны отнюдь не жизни и не школе, а только самим себе, вопреки тем условиям и среде, в какие их жизнь поставила. И от этого они не были ни беднее, ни суше. Летя мыслью вперед, обгоняя свое суровое время, они, видимо, восполняли недостающее знание каким-то особенным художническим чутьем, безошибочным шестым чувством. И тут можно только удивляться и разводить руками: почему оно так безошибочно, это их шестое ли, десятое ли чувство, которого нам иногда так не хватает? В чем его психологическая основа, какова историческая природа его? Может быть, ученые XXX века откроют и снимут покров загадочности с того, что мы называем «вдохновением», «талантом от бога», а то даже и «гениальностью». И, может быть, это будут просто биотоки, улавливаемые чутким, отзывчивым мозгом, или какие-то переданные по наследству, от предков, особые качества и особые чувства, подобные тем, которые мы испытываем, когда во сне летаем или падаем с дерева? Как знать! Мы сейчас до одурения спорим о труде, об усидчивости писателя и все еще не различаем, не отделяем одно от другого: когда пробивается мощь и не находит еще выхода на страницу и когда вымучивается и потеет бессилие...
Раздумывая над этим, я молчу и не отвечаю на столь неизбежный в нашем доме наивный вопрос: «Ну как рифма? А образ?» В стихах о двойной, отраженной луне я в первую очередь вижу упрек себе. В жизни, видимо, человек не всегда обращен к нам именно той стороной, какая в нем главная. Поэтому мы и судим о людях поверхностно, торопливо. И я с грустью думаю: наверное, и во мне есть эта другая, до времени еще не освещенная сторона. Но какая она? И когда она наконец повернется к людям? Чем хорошим откроется?
Я молчу. О стихах мне не хочется говорить: об эпитетах, рифме, размере, о том, насколько тот образ удался, а этот не удался, то есть разбирать недостатки профессионально. Поэзия, как и музыка, вызывает в душе иногда целый рой новых мыслей и чувств, может быть лишь весьма отдаленно и косвенно связанных между собой, возникающих бурно, стихийно... И чем больше этих мыслей и чувств возникает в душе у тебя и чем отдаленней и тоньше их связи, тем, наверно, сильней и правдивей поэзия.
При чем же здесь тогда отглагольные или ассонансные рифмы, эпитеты и метафоры? Разве они не кирпичики в стройном, возвышенном здании, не живые клетки в сотворенном и живущем по всем житейским законам теле стихотворения? Восхищаться удачною рифмой или смелым, новаторским образом в стихотворении — все равно что сказать композитору, прослушав симфонию: «Знаешь, милый, мне больше всего запомнилось твое верхнее «до»... Оно у тебя гениально!»
8
ЧТО ЕМУ ГЕКУБА?
Постепенно мы привыкаем друг к другу. Начинаем дружить.
Сначала на курсе: с соседом по аудитории. Потом с товарищем по творческому семинару, а на семинарах можно встретиться и со старшекурсниками. Потом среди прочих уже различаем единомышленников по литературным симпатиям, по взглядам на жизнь, по перу. Прозаики уходят к прозаикам, драматурги — к драматургам. Поэты, поскольку их большинство, живут «стадно» и шумно. Они часто меняют друзей, легко сходятся, быстро ссорятся и находят себе врагов даже там, где их нет.
Уже всем известны наши курсовые «звезды» первой величины. Они часто выступают с чтением стихов в нашем институтском клубе, в Доме литераторов, в Союзе писателей, на студенческих вечерах в других вузах и быстро приобретают популярность: Расул Гамзатов, Инна Гофф, Рита Агашина, Наташа Бурова, Игорь Кобзев, Григорий Куренев. Критики держатся солидней, спокойней. Когда Андрей Турков или Володя Огнев о чем-либо спорят с преподавателем, тот смотрит на них с уважением и отвечает не сразу, а подумавши, очень серьезно. Прозаики больше молчат: у них жанр тяжелый, неповоротливый. Лишь изредка бросают словечко-другое.
— В бездарных произведениях своеобразное единство формы и содержания, — доказывает во время перерыва Геннадий Калиновский. — Банальные мысли в них и выражены банально...
Был хмурый снежный денек.
Прозвенели звонки на лекцию, а преподавателя все еще нет.
Мы сидим тихо, тесно, плечом к плечу, как в окопе: уж больно мала отведенная для нашего курса комнатушка. Настроение у всех спокойное, раздумчивое, может быть, потому, что за окном так плавно, невесомо кружатся в воздухе белые снежинки. Они летят и поврозь, и сцепившись в крупные хлопья.
Русской сказкой дышит эта первая наша мирная московская зима.
Дверь открылась, и в аудиторию вошел невысокий, худой человек, узколицый и тонкогубый. Лицо его бледно, в глубоких складках. На висках седина.
Лев Николаевич Галицкий — так зовут нашего преподавателя по западной литературе — начинает свою первую лекцию для нас, новичков.
Он прошел боком между тесно сдвинутыми столами к окну, задумчиво опустил голову, и мы замерли.
Устремив куда-то вдаль отрешенный взгляд и стоя на фоне серого зимнего неба, он начал тихо, но твердо:
— Я очень рад, что мне выпала честь познакомить вас с поэзией Вийона и Петрарки, с новеллами Боккаччо и Деперье, с творчеством таких гигантов литературы, как Данте, Шекспир, Рабле, Сервантес... Нет ничего прекраснее того, что сделано этими людьми. Учитесь у них быть мудрыми и глубокими и в то же время понятными и простыми. Любите людей так, как любили они. Без человека нет литературы. Это подтверждает тысячелетний мировой опыт наших лучших писателей. Поэтому будьте внимательны к человеку...
Галицкий ходит по узкому промежутку между столами и черной доской. Иногда он останавливается, умолкает, подыскивая более точные слова. Потом снова приближается к окну и долго вглядывается в белые легкие снежинки, которые кружатся перед его взором. Мы уже знаем: Лев Николаевич тяжко болен, говорят, на войне у него погиб сын.
Мы догадываемся, о чем он думает в эти короткие минуты. На запад от Москвы лежит не одна солдатская могила под красной фанерной звездой, и точно такой же снежок сейчас кружится над ними...
Более всего мне запомнились лекции Галицкого о Шекспире. В эти дни Лев Николаевич был взволнован, говорил быстро, нервно. Он не видит, не замечает нас и как бы наедине беседует с королевой, шутит с Офелией. Вот он смотрит представление бродячих актеров. Он спрашивает со вздохом: «Что ему Гекуба?» И вдруг смеется тихим, нервным смешком.
Он говорит нам об алчности Шейлока, о любви Ромео и ревности доверчивого мавра Отелло, о коварстве и властолюбии леди Макбет, о слепой доброте короля Лира. И, слушая его, мы начисто забываем о сюжетах, завязках и кульминациях, о законах построения диалога и развязках. Кажется, сюжетов нет вообще. Есть только человеческие страсти и их столкновения. Именно страсть — вот кто единственный сюжет всех трагедий на сцене и в жизни, пружина действия, разоблачительница «красивых» слов и коварных проступков.
О человеческих страстях говорят и круги Дантова ада. Разве это случайно, что люди, ничего не свершившие за всю свою жизнь, не сотворившие ни зла, ни добра, ютятся в прихожей, в преддверии ада? Они не достойны даже мучиться с грешниками!
Писатель, по Галицкому, — это не тот, кто умеет написать звонкую фразу или выдумать яркий, «пронзительный» образ — это умеют и графоманы, а тот, кто видит в цепи фактов идею, в ряде поступков — характер, а в мыслях — закономерность. Кто умеет по частности, по одной голой кости — детали воссоздать всего мамонта: Госпожу Действительность.
Эти лекции не о литературе, а о жизни, о человеке.
Иногда Галицкий уходит от темы занятия, шутит. Говорит:
— Гений имеет право на все, на что не имеет бездарность: на дурной, сварливый характер, на драные локти, на глупую мещанку жену, на невежливость, даже жадность. Единственное, что дозволяется посредственности и чего не должен делать талант, — это быть подлым.
В другой раз он заметил:
— Прежде всего нужно быть беспощадным к себе самому. Только тогда поможешь другому быть добрым...
Галицкий очень скоро и как-то незаметно для нас, студентов, умер. Ходил, ходил на лекции, шутил, улыбался — и вдруг объявление в черной траурной рамке.
«Смерть — несчастье не для умершего, а для оставшегося в живых», — говорит Эпикур. Мы потрясенно перелистываем Шекспира, оглядываемся на дверь после звонка на лекции: вдруг Лев Николаевич войдет своей быстрой, мелкой походкой, сядет боком за стол и устремит задумчивый, отрешенный взгляд за окно?
Но вместо него приходит кто-то другой.
Профессор-фольклорист Сергей Константинович Шамбинаго обычно в аудиторию не входит, а вплывает, как величественный дряхлеющий сорокапушечный корабль.
Его молодость отшумела в бурных схватках в литературных кружках символистов и декадентов в начале века, а впоследствии в борьбе за свою точку зрения в науке. Пережил он, как видно, немало, потому что и сейчас, очень грузный, отекший, все кипит еще ненавистью к своим литературным противникам, каждый день предает их анафеме с кафедры. Однако врагов своих Шамбинаго называет уж как-то по-свойски, по-родственному, по-домашнему, словно свыкся с ними за долгие годы, сроднился и теперь уже вроде бы не представляет себе жизни без этих всех Колек, Сашек, Андрюшек. И если бы в один прекрасный день эти Кольки, Сашки и Андрюшки перешли в его «веру», он, видимо, первый бы жестоко огорчился. Иногда Сергей Константинович забывает о нас: что-то шепчет свое, сидя нахохлившись за столом и опершись на палку, глядит вдаль, поверх наших голов, потом вновь возвышает простуженный голос.
Он любит исконную русскую речь.
Иногда Шамбинаго мне кажется колдуном-всеведом, который знает, где растет разрыв-трава и куда надо кинуть заступ, чтобы добыть столь насущно необходимое тебе «петушиное» слово. Но сам он не ищет каких-то особенных слов. Он раскапывает перед нами простейшие глиняные черепки древней речи, и своей древностью и точным служением делу черепки эти почему-то всегда перевешивают над словесной сегодняшней мишурой.
Я уверена, кто-нибудь обязательно меня упрекнет: почему именно Галицкий, Шамбинаго? А где братья историки Радциги? А Ульрих Рихардович Фохт? А Василий Семенович Сидорин? А Валентин Фердинандович Асмус? А Яков Михайлович Металлов? А Лидия Александровна Симонян?
Их было много, замечательных педагогов, учивших нас уму-разуму. Но они пришли к нам уже в последующие годы, а я говорю о начальном, самом остром для восприятия периоде времени.
Сейчас трудно все перечислить и подсчитать, чему нас за эти годы научили и что более всего пригодилось в дальнейшей жизни.
Каждый из педагогов по-своему заставил уважать и любить свой предмет. Одних профессоров было трудно записывать, зато интересно и весело слушать, как Реформатского. Другие читали, может быть, несколько традиционно, излишне спокойно, как Металлов, но зато сообщали самое важное, и в их изложении была та последовательность, та логичность и стройность, без которой нельзя охватить явление в целом. Третьи помнятся простотой в обращении с нами, как Симонян и Сидорин.
Мы, подобно бочкам Данаид, готовы впитывать в себя все бесконечно. Все, что существует на свете: теорию прибавочной стоимости и историческую описку попа Упыря Лихого; подвиги Геракла и скабрезные фаблио; романы и пьесы Симонова и песнь о Роланде; символистов и войну Белой и Алой розы; круги Дантова ада и «всеобщую любовь» Людвига Фейербаха; теорию «ножниц» и тысячи прочих других вещей, из которых и состоит теперь вся наша жизнь...
Мы прилежно изучаем чужие горести и ошибки, дабы нам было легче жить в этом мире; и каждый, ликуя, открывает для себя какую-нибудь очень «новую» истину.
9
НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ
Нас учат всерьез. Солидно. Обстоятельно.
Нам опешат рассказать все и обо всем.
Педагоги, конечно, помнят, что мы пришли в институт не со школьной скамьи, что перерыв в четыре года — и не каких-нибудь, а в четыре года войны, — дело сложное и не всякий может сразу забыть, отрешиться от пережитого, снова стать школяром, постигая премудрость многочисленных наук. И все-таки нам рассказывают обо всем сразу, взахлеб: политэкономия, литература, история народов СССР, история средних веков и так далее, плюс теория перевода, теория драмы, история драмы, история живописи, история музыки, медицина, военное дело, культура речи, история критики, спецкурсы по творчеству таких писателей, как Гоголь, Лермонтов, А. Н. Островский, Маяковский, Шолохов, факультативные языки: армянский, казахский, украинский, белорусский, польский, болгарский, сербский...
Преподаватель спецкурса по белорусской литературе начал свою речь следующей фразой:
— История белорусской литературы не столь интересна, сколь трагычна...
Впоследствии он, видимо, приложил все усилия для того, чтобы это и в самом деле для нас было «трагычно», ну, попросту, «скучно».
Под унылый, чуть-чуть завывающий говорок «белорусского деда» мы честно отсиживаем академические часы. Кто читает, кто шепотом начинает декламировать стихи Глебки, Тетки и Витки. Кто-то быстро рисует портрет незадачливого нашего лектора на листе бумаги, вырванном из тетради, и мы сообща сочиняем к рисунку подпись: «посадил дед Глебку, выросла Глебка большая-пребольшая... Стал дед тянуть Глебку, тянет-потянет, никак вытащить не может. Позвал дед Тетку, Тетка за дедку, дедка за Глебку...» и т. д. и т. п.
Читают нам курс из древнерусской литературы. Вернее сказать, мы сами ее себе читаем, так как занятия эти «ведет» заведующий учебной частью, человек, вечно занятый и вечно спешащий куда-то. Он обычно просит нас раскрыть учебники на такой-то странице и посидеть часа два, не мешая остальным курсам, а сам уходит.
Однажды он явился, окрыленный замечательной идеей:
— Вот вам книги!.. Читайте о Евпатии Коловрате! После перерыва напишите на эту тему стихи! Я приду, обязательно проверю...
Он ушел, а мы погрузились в сомнения.
Конечно, Евпатий Коловрат — национальный герой, с ним шутки плохи. Но как отнестись к самой идее — писать стихи «на тему» и что же это будут за стихи?
Два часа мы занимаемся очень тихо: одни читают книги, предусмотрительно взятые из дому, другие готовятся к очередному занятию по языку, третьи играют в «балду» или пишут пародии друг на друга, на задних скамейках беседуют просто «за жизнь».
И только Рита Агашина и Инна Гофф вдохновляются подвигом Евпатия Коловрата.
Вернулся наш «древнерусский» Лев Романыч. Мы притихли перед расправой. Начался строгий допрос:
— Где стихи? Почему не выполнили задания?
И вдруг Инна и Рита встают и докладывают:
— А мы написали!..
— Читайте!
И весь курс слушает с изумлением:
В степи под Рязанью высокие травы.
Изрытые плугом стократ.
Лежит под курганом, овеянный славой,
Старинный герой Коловрат.
Он шел на Рязань, из Чернигова выйдя,
В засаду попался отряд:
Налево — татары, застава — направо,
И нету дороги назад...
Стихи были длинные и кончались совершенно откровенным ликующим плагиатом:
Подсолнух высокий, а в небе далекий
Над степью кружит самолет...
После этого нам больше не давали заданий писать стихи на древнерусские темы.
10
ХОЖДЕНИЕ ПО НАУКАМ
Но на Евпатии Коловрате наши научные «мытарства», к сожалению, не кончаются. Долгие годы до нас, и при нас в течение пяти лет, и спустя годы, по свидетельству младших поколений студентов, в институте без устали «уточняют профиль», ищут, варьируют, улучшают, сокращают и чего только еще не делают с нашей многострадальной учебной программой! Случается всякое и в наше веселое время.
Ах, не всегда это достоинство — быть «единственными в мире»! Иногда такая исключительность нам дорого обходится, ибо самое досадное на свете — это зря потраченное время.
Для одних курсов у нас, например, читают так называемую культуру речи, другие же и понятия не имеют, с чем ее едят. Около двух лет мы изучали казахский язык, но так и не выучили ничего, кроме крыловской басни «Мартышка и очки» в переводе с русского. Вероятно, нашим добрым учителям всерьез кажется, что у нас действительно «в запасе вечность» и нам ничего не стоит «потерять часок-другой». А между тем на творчество такого писателя, как Лев Толстой, по программе отводится всего несколько торопливых беглых обзоров: «Война и мир» — четыре часа, «Анна Каренина» — два часа и так далее.
Много странностей в нашем доме!...
Но среди «высоких» административных увлечений науками начинается еще увлечение и «снизу» — самодеятельное, изнутри, по инициативе самих студентов, наших будущих прозаиков и поэтов.
Так, одной прекрасной весной в коридорах института вдруг потянуло резким запахом бензина. То и дело кого-нибудь вызывают с лекций, и в темной передней звучит зловещий шепот:
— Скорей!.. Инструктор ждет во дворе...
Через минуту раздается треск мотора, и грузовик с надписью «Учебный», вихляя, выкатывается на Тверской бульвар...
— Не выйдет из меня писателя — пойду шофером в колхоз... Не пропаду! — шутит, отмывая бензином руки, Володя Тендряков.
Легкомысленные поэты и в увлечениях своих остаются легкомысленными. У них другое занятие, более подходящее им по вкусу. После лекций они собираются в зале, там гремит рояль, слышится топот многих десятков ног. Свистящий голос танцмейстера отсчитывает такт: «Шáсси вправо, шáсси влево»...
Рита Агашина, поглядев на эти «безумства», сказала:
Тут шасси, там шоссе, —
Обалдели, что ли, все?
11
ВАМ РАНОВАТО ЕЩЕ НА ПАРНАС
Почему-то в литературе существует предрассудок, что о тайнах профессии, о технологии литературного творчества может думать и думает только мастер. Подмастерью, ученику подобные сложные эмпиреи недоступны.
— Ты так судишь, как будто у тебя за спиной два десятка романов и повестей! — заметил кто-то из старшекурсников новичку на творческом семинаре.
— Я сужу об этом так, как я об этом думаю, — ответил тот твердо. — Если я неправильно думаю, то так мне и скажите. Я жду возражений по существу. Но если мысли мои правильны, какое вам дело, что я еще ничего не написал? Разве это важно? Разве истина от этого перестает быть истиной? В литературе вообще нет ни шиита, ни суннита, ни правоверного. Все равны перед белым листом бумаги...
Мне кажется, этот самонадеянный товарищ был не прав. Новичок должен думать не меньше, а больше мастера. У мастера уже многое найдено: у него есть свой стиль, своя манера обработки материала, своя тема. Он во многом опытен, «поднаторел». А юнцу искать и искать, для него все — потемки. К сожалению, бывает и так, что чем больше он сомневается, размышляет, примеряется, тем труднее ему становится писать, делать нужные выводы. Иногда он вообще в своей трудной аналитической работе уподобляется сороконожке, о которой нам рассказывал Паустовский: задумавшись над сложным механизмом ходьбы, она взяла и... разучилась ходить. Может быть, действительно надо писать... не задумываясь? Петь как птица? Как бог на душу положит?..
Мы ждем с нетерпением своего первого творческого семинара, потому что хотим уяснить, чего же мы стоим.
Мы сами еще не знаем себя. Мы хотим, чтобы кто-то чужой, посторонний, а следовательно, объективный, пришел и сказал нам, что нас ждет впереди. Как будто бы можно заранее угадать, как сложится та или иная поэтическая судьба!
Чехов в письме к А. С. Суворину с усмешкой писал: «Надо быть богом, чтобы уметь отличать удачников от неудачников и не ошибаться». Но мы пока этих слов еще не читали. Они будут прочитаны после. Пока мы жадно слушаем вестников из большого, только что открытого нами мира: что сказал Смеляков? А что Исаковский? А Леонов? А Федин?
В дни творческих семинаров мы вглядываемся в наших писателей-педагогов. Даже не верится, что здесь, в коридоре, можно встретить живого «классика». Вот навстречу тебе идет человек и в ответ на твое взволнованно-приглушенное «Здравствуйте!» улыбается и смущенно кашляет, и ты видишь, что он такой же, как ты, человек. Курит. Морщится. Шутит. Или строго глядит на тебя. Как и ты, бывает весел или не в духе, в зависимости от погоды и обстоятельств. Как и ты, может опаздывать или же приходить на занятия раньше времени и бродить по глухим, лишенным солнечного света коридорам, что-то бормоча себе под нос. Может быть, вот сейчас и рождаются какие-то удивительные стихи, гигантские образы, дивные фразы?
А пока он так бродит в одиночестве, томимый хорошо нам понятной и такой уважаемой жаждой творить, мы терпеливо ждем звонка, сидя за столами в аудитории, и шепотом переговариваемся. Все о том же, о том же:
— Вот читаю «Казаки» Толстого. Как просто! — говорит один, наклоняясь к соседу. — Как все непостижимо просто! Нет, мне никто не докажет, что гения рождает усидчивость! Ничего она не рождает! Это гений сам рождает все, что захочет... Возьми зрение у Толстого — это же силища рентгеновских лучей! А язык? Какая мощь!.. А какая свобода, небрежность во фразе! Читаешь иного хорошего писателя и вдруг видишь: вот слабость, вот оговорка, вот длинноты и думаешь: «Ах, брат, ты такой же, как я. Ничто человеческое тебе не чуждо...» А читаю Толстого — и на каждом шагу повторяю: непостижимо! Я такого никогда не достигну! Мне даже слабостей его не дано.
— Толстой — это голова.
— Послушайте, что пишет Мюссе: «...нечего обманываться: во всех советах, обращенных к молодым, есть... скрытое желание заставить их подражать; им говорят о независимости, им открывают широкую дорогу, а втихомолку толкают их на узкую колею, уже проторенную отцами».
— Ну и что?
— Подумаешь, Мюссе! А сам-то он чего нового изобрел? Помесь Руссо с Шатобрианом...
— Повернем истории колесо, как сказал Жан-Жак Руссо!
Рядом кто-то жалуется негодуя:
— На издание книги затрачиваешь больше усилий, чем на писание ее...
— Ну, в этом мы сами виноваты! Автор всегда знает, где ему лучше: он забирает рукопись там, где его охотно напечатали бы, и несет туда, где не знают, как от него избавиться...
— Господи! Кто скажет: как писать?.. Есть книги, все в роскошных деталях. Читаешь их с наслаждением, а прочел — и забыл. Другие и лохматые, словно бы сроду не чесались, и фраза звучит, как немазаная телега, и образы вкривь и вкось, ни на что не похоже. Сидишь и плюешься! Зато каждый жест героя — отчетливо, крупно, как в блеске молний. И через пять лет будешь помнить, как он встал, повернулся, пошел... Так вот, что из этого — настоящая литература? А? Мне-то как надо писать? Бисер метать? Или же эти тяжеленные глыбищи, необработанные, ворочать?..
— Пиши, как умеешь. Как проще.
— Ох уж эта мне простота! Как легче, как проще. Как серей, как бледней...
— Да, кстати, о серости... Ты знаешь, как рождаются серые статьи? Обыкновеннейшим образом. Берут в руки красный карандаш и начинают черкать: «Это выражение слишком субъективно. А это хоть и ярко, образно, да неточно. А вот это обидит главного редактора. А здесь дважды на странице повторяется слово «который». Ну а зачем же вы ссылаетесь на Энгельса? Стоит ли по пустяку привлекать себе на помощь столь высокие авторитеты! И зачем так запальчиво критиковать? Ведь вас же, вас, дорогой, от нападок оберегаем...» Когда все непохожее вычеркнуто, остается то, что похоже на другие статьи как две капли воды. После этого захочется ли писать вообще?..
— Ах, не делайте вы из поэзии, обольстительницы и колдуньи, приходящую домработницу!..
— Маяковский не гнушался себя и ассенизатором называть...
— Все мы — желуди с одного дерева, все идем и оглядываемся на Толстого...
— Мы слишком серьезны в литературе. Мы боимся и не любим смеяться, дабы нас не обвинили в легкомыслии... Анатоль Франс был прав, когда говорил, что гений человека измеряется его веселостью. Спорить о литературе всерьез — дело критиков. Писатели же должны относиться к ней снисходительней, проще. Ибо свободу обращения с предметом дает абсолютное знание его, взгляд сверху вниз: «Как-никак сами делаем!» Однако, видимо, не каждый осмеливается таскать за усы тигра...
Прозвенел звонок, и все смолкли. Затихли даже самые рьяные спорщики: Василий Федоров, Игорь Кобзев. Обычно они делают больше всех шуму. Тише всех на курсе Расул Гамзатов — он все время пишет стихи.
Что может быть удивительней зимнего вечера, когда за окном вьюга, а в коридоре едва слышны шаги уходящих с последнего семинара, а ты все сидишь еще в маленькой комнатке, в облаках табачного дыма, и вокруг тебя смутные, удивленные лица и тишина, затаенное дыхание, лишь изредка робкий вздох, взгляд, улыбка. А большой и красивый человек с нависшими на глаза мохнатыми бровями еще гулко басит.
Но ты мне приснилась, как мужеству — отдых,
Как мужеству — книг неживое соседство.
Как мужеству — вождь, обходящий заводы,
Как мужеству — пуля в спокойное сердце.
Прощай, если веришь, забудь, если помнишь...
Сколько времени нам дано дышать этим воздухом? День? Два? Пять лет? Всю жизнь? Может, вечность?..
В литературе, как и на войне, не всегда выигрывает тот, кто одерживает сразу одну победу за другой.
Как знать, может быть, тот, кто сегодня ходит в гениях, завтра уже ничего не напишет, а бездарность, над кем посмеиваются, указывая пальцами, на кого сегодня посматривают свысока, как раз и совершит то, чего не сумели совершить другие?..
Поэзия, она... баба капризная!
12
ВИТАМИН «ОПТИМИН»
Мы семья. Нас четверо: Инна Гофф, Рита Агашина, я и рыженькая старшекурсница Эвелина Зингер, или Элла, которая нас, «малышей», встретила в институте приветливей остальных. А это обычно не забывается.
Так как мы с Эллой старшие по возрасту, то в нашей четверке как-то само собой сразу же распределились обязанности: я — «мама», Элла — «папа Фитих», а Рита и Инна — наши «дочери». Затевая эту веселую игру, вряд ли кто из нас думал, что к своим обязанностям «отцов» и «детей» мы должны будем относиться серьезно. Это меньше всего входило в наши планы. Но в институте о «семье» очень быстро узнали и сделали соответствующие выводы. Однажды в коридоре меня встречает строгая бухгалтерша и говорит:
— Ваши дочери очень невоспитанны! Вы уж, пожалуйста, за ними следите.
Честно говоря, мои «дочери» действительно отличаются. Им ничего не стоит, например, завернуть в одеяло полено и с эдаким «увакающим младенцем» пойти в магазин без очереди или сесть в трамвай с передней площадки. А то, получив по карточкам сгущенное молоко, они съедят его по дороге специально для этой цели припасенными ложками. Мне же с Фитихом принесут только грязную посуду. А то в ответ на злую фразу Володи Шорора: «В институте нет талантов», — сочинят частушку и горланят ее под дверями творческой кафедры специально в часы заседаний.
Разбегались консультанты
И кричали по пути:
В институте нет талантов,
Хоть Шорором покати...
Когда мы все вместе, нам трудно быть серьезными.
Нередко нас спрашивают, отчего нам так весело.
— А мы покупаем витамин «Оптимин», — ответила как-то моя «старшая дочь» Рита. — И едим его с хлебом.
Мила Городецкая, известная своей легковерностью и к тому же слишком уважающая Риту, чтобы усомниться в ее словах, глядит на нас с откровенной завистью и любопытством.
— Ну?! А где же он продается?
— В аптеке на площади Пушкина. Как съешь пять таблеток, так весь вечер тебе будет смешно...
На другой день, вызывая у присутствующих гомерический хохот, Мила простодушно говорит:
— Обманули! Никакого «Оптимина» там нет!
Может быть, в аптеке на площади Пушкина действительно такого витамина нет и наша промышленность его еще не научилась изготовлять, но у нас он есть, и в избытке. Это он окрашивает «подвальное» существование в жизнерадостные, светлые, солнечные тона. Запеканка из лиловой мерзлой картошки благодаря ему называется пирожным, подвал — нашим домом, а наша четверка — семьей.
13
ТИШИНСКАЯ ЭПОПЕЯ
...Ордера, ордера, ордера
не доведут нас до добра.
Наш отчий дом — «единственный в мире», так нам говорят, когда нужно поддержать бодрый дух в немощных телах будущих классиков.
«Вы на общих основаниях» — когда как-то нужно отбиться от наших требований.
Да, мы знаем, что институт организован на «общих основаниях», что стипендия в нем — самая маленькая из всех существующих стипендий. И профком института развивает бурную деятельность, чтобы помочь нам в житейских делах.
Большинство студентов — участники войны, инвалиды, контуженые и просто люди со слабым здоровьем. Надо научить их верить в себя, дать возможность им пережить самое трудное, послевоенное время, не допустить, чтобы бросили учиться или — что еще хуже — исхалтурились на легком заработке.
Правдами и неправдами добываются в обкоме союза так называемые ордера. Ордер — это бумажка, дающая право купить в магазине пальто, обувь, платье, необходимые вещи. К ордеру нужно прилагать еще «единицы», причитающиеся на промтоварную карточку. «Единицы» — весьма ходовой товар. На базаре они — рубль штука. И если ваша промтоварная карточка израсходована — не печальтесь, ступайте себе с богом на Тишинский рынок, будут вам «единицы»!
Когда на руках есть ордер и «единицы», недостает еще одного весьма немаловажного предмета — денег. Но и эта проблема решается довольно просто. Вы идете к директору Ф. В. Гладкову или его заместителю В. С. Сидорину и тихонько просите взаймы рублей 200—300 «до завтра».
А когда пальто, ботинки, платье или костюм уже куплены, вам нужно их... срочно продать. И не просто продать, а сбыть с рук так, чтобы окупились расходы на приобретение «единиц», чтобы можно было отдать долг, взятый «до завтра», и чтобы, кроме всего прочего, у вас осталось хоть немного денег на житье до стипендии. На языке богини правосудия ваши действия называются очень точно: спекуляция. Но что делать?
Продавать «товар» обычно отправляются несколько человек, избранные «обществом», — так легче, удобнее, не обманут жулики, никто не обидит.
Морозный, мглистый полдень. Зима. Наше «семейство» на базаре. Одна из моих «дочерей» стоит на тротуаре с огромными сапогами в руках и выкрикивает:
На огромных две ноги
Покупайте сапоги!
Другая «дочь» держит нечто крохотное, состоящее из одних переплетений, и пищит:
У кого крошки ножки,
Покупайте босоножки!
Публика знает, что мы студенты. К нам относятся дружелюбно, доброжелательно.
Какой-то военный с шутками и смехом отсчитывает деньги за сапоги. Босоножки быстро исчезают в кошелке перекупщицы. Все довольны. Мы покупаем горячие пирожки и тут же, на базаре, их съедаем. Совесть наша чиста. После расплаты с кредиторами чисты и карманы, но... ведь можно занимать под будущий ордер!
И — жизнь продолжается...
14
И ГОРЕЧЬ СЛЕЗ, И СЛАДОСТЬ СЛЕЗ!
Думала ли я когда-нибудь, что именно здесь, в Литинституте, я войду в конфликт с поэзией? Стихи я люблю с детства.
В доме всегда было множество книг: зимой я их читала под завывание вьюги, забравшись на русскую печку; летом — сидя где-нибудь на дереве или в лодке, на пруду. Поставишь плоскодонку носом в заросли камыша, чтобы волна не качала тебя с борта на борт, и сидишь целый день под реденькой полосатой тенью куги и осоки. Сонно гукает вдалеке водолюб. Неразборчиво верещат и бормочут лягушки. С легким, сухим треском, как маленькие вертолеты, над самой головой замирают в тяжелом зное стрекозы.
Жизнь без тревог — прекрасный светлый день;
Тревожная — весны младые грозы.
Там — солнца луч и в зной оливы сень,
А здесь — и гром, и молния, и слезы...
О! Дайте мне весь блеск весенних гроз,
И горечь слез, и сладость слез!
Мои старшие сестры на зиму уезжают из Каменной степи в Воронеж, в школу, и оттуда каждый раз привозят что-нибудь новое: Жуковского, «Наль и Дамаянти», стихи А. К. Толстого, Тютчева, Фета.
Мы читаем стихи на память, перебивая друг друга. Мы мыслим стихами. На каждое замечание взрослых, на обиду или шутку отвечаем стихом.
Особенно много стихов я узнала за время болезни. Однажды почти целое лето я тяжело проболела и сидела на строгой диете. Поэтому всякий раз, когда домашние садились обедать, а из столовой до меня долетал веселый стук ножей, звон стаканов, тарелок и доносились мучительно-ароматные запахи кушаний, я хваталась за книгу. Руки были слишком слабы, чтобы держать толстый том; от голода, от сознания своей слабости и полной зависимости от взрослых я заливалась слезами и, чтобы не шептать ожесточенно: «Жадины, жадины, жадины...» — начинала заучивать какую-нибудь стихотворную фразу.
Так я выучила массу стихов.
Вечерами сестры дежурили попеременно возле моей постели, читали мне вслух Кольцова, Никитина, Бунина, и переполняющая мою душу тогда еще безотчетная, но горячая любовь к русской природе навсегда соединилась в одно целое, неразрывное с любовью к великолепному русскому стиху.
Книги, служившие мне до болезни игрушкой, развлечением, незаметно стали чем-то вроде святыни. Я ревниво прячу их на ночь под подушку и долго, уже во сне, вспоминаю и мысленно повторяю слова, вижу, как плывут перед глазами знакомые строчки.
Как только мне разрешили подняться с постели и я впервые вышла в степь, я громко запела на свой собственный, может быть, несколько дикий мотив только что выученное стихотворение:
Боже мой! Вчера — ненастье!
А сегодня — что за день!
Солнце, птицы! Блеск и счастье!
Луг росист, цветет сирень...
Стихи пелись свободно, легко, так, что забытое ненароком слово само становилось на место. В них звучала скрытая музыка. А главное — они отвечали тому настроению, которое царило в моей душе. Это было подобно чуду. Значит, кто-то совершенно неведомый мне понимает сегодняшний день точно так же, как я? Даже больше: он сумел это выразить, в то время как я еще ничего не умею. Он откликнулся, передал в стихе все мои чувства: счастье быть здоровой, радость встречи со степью, с цветами, с птицами, с ярко брызжущим мне в глаза ослепительным солнцем, ощущенье свободы, раздолья и пьянящего воздуха лета.
Я села на камень, лежащий на вершине кургана, и долго смотрела в беловатую от облаков высь жаркого неба. И вдруг в голове как-то сами собой сложились странные, незнакомые мне строчки. Они вылились словно помимо моей воли:
Тростники перебирает ветер
Тонкими проворными руками.
Первый раз меня ты в поле встретил
У межи, где придорожный камень...
Как только я сложила эти пришедшие мне в голову слова в одно целое, я вдруг подумала: «А удобно ли рассказывать людям о том, что мы с ним встречались? Ведь я выдам тайну...» Эта мысль меня страшно смутила. Как все подростки, я ужасно ревниво хранила собственные тайны, которые, вероятно, были давно известны всем окружающим. Но стихи уже имели свою особую силу: они не распадались. По крайней мере, в моем сознании они уже не могли распасться на составные части, перемениться. Они должны были остаться такими, как есть. Не хуже и не лучше, а именно так, как я сказала. И это опять меня смутило: значит, я теперь над ними не властна?!
Это было так ново, что я вскочила с камня. Кузнечики градом посыпались с меня.
Я, наверное, должна была завизжать от радости, оттого, что у меня получились мои первые в жизни, не бог весть какие, а все же собственные стихи, но я опечалилась. Я не знала: а что же сказать дальше? Что именно можно высказать? Следующие строчки почему-то ускользали от меня. Кажется, вот-вот я их поймаю — и нет ничего. Все, что я придумала дальше, выбивалось из размера. Слова нагромождались беспорядочно, без мысли.
Я легла на траву поудобнее, но сердце билось уже неспокойно. Мысли путались. Настроение пропало. Myзыка, звучащая внутри меня, смолкла.
Я еще долго сидела на кургане, обхватив колени руками, и ждала, когда ко мне возвратится необычное настроение. Но внутри меня по-прежнему все молчало. Тогда я встала и лениво поплелась домой, к хутору, белевшему аккуратными домиками среди зелени акаций. Разочарование и боль сжимали мне сердце. Хотелось плакать.
Домой я пришла недовольная и мрачная и на вопросы старших отвечала дерзко и грубо. Все пропало! Ни на что хорошее я не годна! А раз так — пускай все катится к черту!
Однако удовольствие создавать уже было познано, и оно мне запомнилось больше всего. Больше, чем неудача. Кстати, это очень странно. Никто еще до сих пор не объяснил, почему удовольствие создавать образы — самое сильное, самое острое изо всех существующих на земле удовольствий. Если б это было не так, отчего бы сотни, тысячи и десятки тысяч людей на земле, забывая о себе и близких, пренебрегая своим здоровьем и лишая себя простых земных радостей, дни и ночи просиживали над исчерканным листом бумаги?! Неужели же это только из любви к ближнему, в назидание потомкам?
Коснувшись стиха своими собственными руками, я решила: вся моя дальнейшая жизнь будет принадлежать только поэзии. И меня не мучил вопрос: а будет ли поэзия принадлежать мне? Отдаст ли она без боя свои высоты? А что, если я, находясь в числе осаждающих вершины Парнаса, окажусь не в раненых и не в убитых, а куда хуже, то есть совсем плохо — в пропавших без вести?
Что делать тогда?
15
ЕСТЬ НЕКИЙ ЧАС
Мне кажется, некоторые наши поэты пишут только лишь потому, что ничего не читают, что их мало учили. Знай они все, что было сказано до них, и умей они сравнивать, вероятно, очень многие застыдились бы своих новых стихов и поэм.
Я приехала в Воронеж, в школу, из степной глухомани. Эти долгие зимы в деревне, на маленьком хуторке, где жили мои родители и где у меня не было сверстников, располагали к тому, чтобы вечерам сесть возле жарко натопленной печки, еще пылающей синими угольками, и слушать жалобный вой вьюги, а то и волков за бугром, в оголенных, продутых ветром посадках. Отец уезжал на охоту. Мама много читала, и мне было скучно следить, как медленно, с наслаждением она перелистывает страницу за страницей, вся отдавшись певучей волне ритмов прозы или стиха. Из желания подражать я тоже беру в руки какую-нибудь толстую и, на мой взгляд, очень скучную книгу. И вдруг погружаюсь в нее с головою, забыв обо всем окружающем. Теперь, если даже припомнить все то, что было прочитано там, очень трудно измерить обычными мерами — томами, страницами. За жизнь они, верно, сложились в огромные тонны, в бесчисленные километры строк — отсюда до Марса. Это было и счастьем и злом, потому что о многом я впервые узнаю не из жизни, а из книги, и отблеск писательской мысли, писательского отношения к происходящему уже отпечатался в голове навсегда, как единственная несомненность, даже как идеал, а живое, свое собственное, непосредственное ощущение оказалось задавленным авторитетом.
Книг у нас в степи было много. Это Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Майн Рид, Киплинг, Жюль Верн, Купер, Толстой, Чехов, Горький и множество книг неизвестных мне авторов, растрепанных, пожелтевших от времени, без обложек, а то и без конца и без начала, и тем более нравящихся, что к ним можно было прибавить и что-то свое, дожить за героя, доделать, додумать.
Читалось, запоминалось... Классически ясноглазые, гармоничные строчки тех, прошлых веков звучали как музыка. А в Воронеже на меня вдруг обрушилась периодика, издания последних лет, слепящая яркость красок символистов, футуристов, конструктивистов, громыхающие ритмы поэзии, рвущей в клочья каноны. Например, на что это похоже, неожиданное, из плоти, из мускулов?
Сидит извозчик, как на троне,
Из ваты сделана броня,
И борода, как на иконе,
Лежит, монетами звеня.
А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.
Человек — общественное животное. И не только лишь потому, что ему тоскливо в одиночестве и нужно общение, но главным образом потому, что на протяжении всей своей жизни, от рождения до могилы, он, может быть бессознательно, но все же обязан соотноситься с кем-то более знающим, куда более мудрым, чем он сам, на кого-то равняться, и этим, стоящим выше себя идеалом, проверять, контролировать свои помыслы и поступки, перед кем-то раскаиваться в совершенном, от кого-то услышать слова одобрения. Этот кто-то должен узнать и твое самое-самое тайное, что гнетет тебе душу, и, услыша, не ужаснуться, а понять и простить.
Таким собранным в одно целое идеалом для меня были книги.
Я читала запоем: и до школы, вместо того чтобы делать уроки, и в школе, во время занятий, положив книгу под парту и лишь слегка склонив голову, чтоб учительница не заметила. И после школы, до поздней ночи, а то — до утра. Керосиновая лампа прикручена, чтобы свет никому не мешал, загорожена с трех сторон, а прямо перед тусклым оранжевым лепестком огня я одна, одна в целом мире, на тайном свидании с Шекспиром, Сервантесом, Гёте...
Мать проснется, пробормочет: «Ты еще не спишь? Сейчас же ложись спать!» — и снова забудется тяжелым сном измученного трудом и заботами человека. А я все сижу — и волшебная жизнь, чудесные, пронзающие душу мысли, незнакомые страны и люди удивляют меня своей жизненной логикой застраничного бытия. Писатель во всем равен богу, он творит жизнь на свой собственный лад: строит замки и города, убивает человека и оживляет его, заставляет одних плакать и мучиться, а других веселиться, одного делает храбрым и умным, другого — трусливым и подлецом, поклоняется пьянице и обжоре, придает нищему или вору черты благородства, раскрывает перед читателем боязливую, нежную душу убийцы...
По утрам по дороге в школу я все еще во власти чужого воображения. Я гляжу на окружающий меня мир, не подозревая, что в грубой его реальности тоже есть высокая тайна, горячая искра поэзии. И уж если меня и влечет к себе эта улица, то пока лишь двойными рядами деревьев, волосатых от белого инея, повторяющимся их ритмом, низким, сумрачным небом, звенящим трамваем. Сами люди мне кажутся неинтересными, они слишком будничны, грубы, суетливы.
Сущность этих людей, их значение открывает мне все тот же Песков, наш воронежский молодой писатель, по профессии педагог, редактор детской газеты. Мне думается, если бы этот человек не встретился в моей жизни, я, наверное, никогда бы не увидела в людях того, что вижу теперь. Никогда бы не поверила в труд, в чудесную силу терпения в работе над словом, в себя.
Мир, открывшийся передо мною во встречах с Песковым, как бы ожил, заговорил на родном для меня языке, стал понятным и близким. Я увидела в тихих бревенчатых избах с горшками герани на окнах, в этих женщинах в белых платках треугольником, в мужиках, идущих весною за плугом, огромную цельную скрытую силу. Она сдержанна, неповоротлива, как сдержанно, неповоротливо солнце, как медлительны круговороты времен года. Зимы, весны и осени, сколько их в человеческой жизни! А хлеб рождается только раз в год. А чтобы вырастить дерево, например яблоню, или лошадь, корову, нужны годы и годы... А город, живущий совсем по соседству, он торопится жить... Что ему, молодому, голодному, биология и законы землепользования!
Борис Глебович ощущал эту двойственность русской деревни, с одной стороны скованной по рукам и ногам, как железом, медлительностью биологических циклов, а с другой — взбудораженной небывалыми переменами, как свою личную большую трагедию. Он внес смуту и в мою несмышленую душу, научив меня видеть. Мы с ним много ходили по полям и лесам, любовались неярким русским пейзажем, останавливались, разговаривали с каждым встречным, уважая в нем кормильца и человека.
А главное, Песков научил меня ценить прозу, которую он знал, как стихи, наизусть и цитировал целыми страницами. Он прислушивался к живой, на мой взгляд, звучащей так грубо и резко, простой речи народа, восхищаясь инструментовкою фразы, каким-нибудь метким словцом. Говорил:
— В стихах этого не передашь...
Он хвалил меня, когда видел четкий образ в моем новом стихотворении, поясняя, что всякая мысль поэта, подобно беззвучно рыдающей влаге Бахчисарайского фонтана, должна, ниспадая, переливаться из одной строфы в другую и логически завершаться прекрасно звучащей концовкой.
Он умел похвалить — прилюдно, — хорошо понимая, какое будет иметь значение для меня эта первая взрослая похвала, каким мощным первотолчком она будет в моей начинающейся и пока еще смутной маленькой жизни.
Весна... Лес на Задонском шоссе. Россыпь синих подснежников. Мы бродим с Песковым по лесу — редактор, писатель и педагог и девчонка, четырнадцатилетняя школьница — и разговариваем обо всем, что приходит в голову. И чаще всего это проза. Он думает только о прозе. А я — о стихах, я думаю: «Проза — это чужая мне область. Я, конечно, когда-нибудь попробую свои силы и в этом, но стихи... Стихи... Это навечно».
Разве можно предвидеть, что в жизни случится?
В последний раз мы встретились с Песковым в конце июля 1941 года. Я была в Союзе писателей, в Доме книги, куда зашла попрощаться перед отъездом. Оттуда мы вместе вышли на улицу и медленно побрели по проспекту. Разговаривали о войне, о сводках Совинформбюро, о том, что вся наша мирная жизнь рухнула, переменилась. Борис Глебович записался в ряды народного ополчения и ждал вызова с минуты на минуту, я заканчивала курсы медицинских сестер и готовилась к отъезду на фронт. Вот об этом решении — ехать на фронт — я ему и сказала, и мы зашли в сад ДКА, находившийся через дорогу, и сели в тени старых лип и долго молчали, переполненные ожиданием неизвестности и тоскою перед разлукой. Что-то щемило у меня в груди. Я не думала, что война будет столь продолжительной, такой яростной, кровопролитной, такой истребительной. Мне все это казалось еще пустяком. И уж, во всяком случае, я не думала о гибели города, о своей смерти или смерти кого-либо из близких мне людей, хотя бы Пескова. А он, видимо, уже все хорошо понимал, потому что глядел куда-то в глубь разросшихся веток таким добрым, измученным взглядом, что сразу стал грустным, растерянным, постаревшим. Он говорил, что война — это совсем не то, что я себе представляю, но нельзя и пугаться ее подлинного, звериного облика, просто надо хорошо понимать, что она — такая, и все, и из этого исходить. Ему, видимо, очень хотелось уберечь меня от «окопной грязи», объяснить, не запугивая, но он не находил тогда нужных слов, торопился — ведь мы расставались не просто, чтобы встретиться завтра, а совсем, навсегда, и все это в его речи путалось и мешалось. И та боль, и тревога, которая так сквозила в его серых глазах, оставалась невысказанной. Да и я ничего ему не сказала. Я думала как-то по-детски беспечно: вернусь, вот тогда расскажу, как я его уважаю и ценю его каждое слово.
Потом мы пошли с ним в кино «Пролетарий» посмотреть военную хронику и какой-то фильм про Антошу Рыбкина, сейчас и не вспомню. Я смотрела не на экран, а просто куда-то вперед и думала о том, что нас с Песковым ожидает какое-то горе, но какое, в чем оно заключается и где поджидает, когда, я не знала. И, выйдя из дверей кинотеатра, мы очень сухо пожали друг другу руки и разошлись. Надо было спешить: комендантский час, город жил по-военному, по-фронтовому. За рекою ревели сирены, возвещая тревогу.
И вот нет Пескова, большого, широкоплечего, в сером костюме, с мягким круглым лицом и большими губами, такого всегда оживленного, доброго и внимательного. Что-то было надежное, крепкое в его косых скулах, в этих пухлых губах, в его доброй усмешке. Он так и не успел написать своей главной книги, большого романа, как хотел, написал всего две-три книжки рассказов, но он, на мой взгляд, большой, настоящий писатель. Великий по духу, по облику, по цельности восприятия жизни, по запасу увиденного, передуманного. Ему оставалось лишь сесть, записать. И вот — не успел. Нет смерти более страшной, чем смерть человека талантливого, не успевшего совершить свой писательский подвиг. Этой страшной смертью погиб мой друг Борис Глебович Песков. Он погиб на войне, разорванный прямым попаданием снаряда. А я, значащая так мало по сравнению с ним, жива. И не знаю того, что знал он, не умею того, что умел этот смелый, много думающий человек. Я даже забыла сейчас половину его наставлений. Мне приходится начинать все сначала, даже верить в себя.
Есть некий час — как сброшенная клажа:
Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества...
Я чувствую невозможность высказать все, что знаю, как прежде, стихами.
После гибели стольких людей, после фронта, войны, я не верю в стихи. Не в чужие — в свои стихи больше не верю.
16
ЧЕРТИ, КУДА ЗАДЕВАЛИ КРИТЕРИЙ?
Скоро год, как мы живем очень шумной, насыщенной разнообразными впечатлениями жизнью. Все надо услышать, увидеть, везде побывать, захватить! Обо всем надо крепко подумать.
Когда в середине недели нет клубных мероприятий в нашем собственном доме, мы разбредаемся по Москве кто куда. В Политехнический музей на вечер ленинградских поэтов. В Центральный Дом литераторов на обсуждение новой книги поэта Сергея Смирнова. В заводской клуб на чтение своих собственных стихов перед рабочими. На встречу с читателями в библиотеку. На выставку в Третьяковку. В театр. И просто к писателю в гости.
Зато в субботу, в клубный день, мы всегда дома.
В нашем маленьком институтском зале, говорят, некогда читали свои стихи Брюсов, Блок, Маяковский, Есенин. Поэтому мы с почтением смотрим на низкие потолки и стены, расписанные под восточный духан: своеобразная вершина творчества нашего коменданта. (Весною комендант сочиняет в высшие инстанции такие бумаги: «Ввиду предстоящего потепления институту грозит затопление...» И Федор Васильевич Гладков тайком показывает нам эти бумаги на заседании партбюро, громко фыркает и трясет седой головой, притопывает ногами.)
По субботам, в клубные дни, в этом зале наши общественные организации и кафедра творчества устраивают разнообразные литературные вечера. Например, сразу же после начала занятий состоялось нечто вроде концерта «Будьте знакомы!», на котором первокурсники рассказывали о себе и читали стихи. Потом была встреча с выпускниками, когда к нам пришли уже окончившие и широко печатающиеся прозаики и поэты, и тогда уже не мы читали стихи, а они. Был «Вечер одного стихотворения». Потом устраивались вечера, посвященные целиком творчеству какого-либо одного из наших институтских поэтов, наиболее интересного или наиболее спорного, и тогда готовилось целое «действо» с председательствующим, произносящим вступительное слово, с докладами руководителей творческих семинаров, с оппонентами и дежурными критиками. Иногда к нам приходят и большие писатели, «на огонек», на веселый шум, долетающий из раскрытых окон Дома Герцена, и тогда разгораются споры, накаляются страсти.
Среди разного рода «мероприятий» в институте особенно славятся наши «капустники» — юмористические представления на институтские темы. Тексты пишут Владик Бахнов, студент второго курса, Александр Лацис, выпускник, Галина Можарова и другие наши «старшие» собратья по перу. Первокурсникам пока только доверяют исполнение ролей. Но от этого им не менее весело и интересно, чем остальным. «Артисты» у нас вообще наслаждаются больше зрителей, потому что некоторым из них приходится играть самих себя, да еще пародийно, и тут открываются такие таланты, что только диву даешься, начинаешь задавать себе вопрос: почему, собственно, человек пришел сюда, в Дом Герцена, а не на сцену театра, не в цирк?..
Наши «капустники», в общем, не так-то уж и безобидны, как об этом можно подумать.
Бывает, что мы, студенты, долго ставим какой-нибудь вопрос перед дирекцией или ученым советом, добиваемся какого-либо желанного новшества в учебной программе, или хотим получить более компетентного преподавателя, или жаждем улучшить наш быт, «который невозможно ухудшить». И все без толку! Отмахнулись от нас, да и только. Велика же сила шутки, если именно после «капустника» сбываются многие наши желания! Посмотрит, посмотрит Федор Васильевич на наши «бесовские проказы», посмеется от души — и подпишет приказ. Ну, значит, так тому и быть!
Наши споры об утрате критериев художественности в поэзии, запальчивые и сумбурные, нашли свое отражение в комической сцене «хождения по Руси» трех поэтов-богатырей, которые, приставив ладони ко лбу, высматривали в проходящих мимо них толпах людей критерий.
Даже нянечка-вахтерша перебирала по пальцам:
— Кто? Кто? Критерий? Такого не слыхала. Тиберий Утан у нас есть. Валерий Дементьев есть. А Критерия нету, не знаю... Какой он из себя?
«Истина принадлежит человеку, заблуждение — его эпохе», — сказал кто-то из классиков. Заблуждение масс в нашем доме подкрепляется заблуждениями одиночек:
Хорошо живется, братцы,
Но одно неладно тут:
Заставляют заниматься,
Опошляют институт!
Да, главная тема всех наших дружеских эпиграмм и пародий, частушек, комических сцен и «капустников» — это извечная внутренняя борьба, раздирающая душу поэтов: что важнее на данном этапе, учеба иль творчество?
...Нам Парнас, нам Парнас — родимый дом.
Первым делом, первым делом — вдохновенье.
Ну, а лекции? А лекции — потом!
«Да, конечно, — размышляет в жизни иной поэт, — вдохновение — дело хорошее. Но ты-то еще не писатель, а только студент. Тебя послали учиться. Вот ты даром время и не теряй, а учись! В то же время... какая для поэзии разница, студент ты или землекоп, инженер или колхозник, если тебе сейчас, сию секунду, немедля надо выплеснуть на бумагу взволновавшие тебя чувства, запечатлеть в стихах образы, никому еще до тебя не пришедшие в голову? Ведь каждый уже испытал на себе, что «строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют!».
Поэтому-то иногда во время занятий можно, зайдя в общежитие, увидеть завернувшуюся в одеяло Маргариту Агашину. Она лихорадочно что-то пишет на обрывках бумаги. Или в читальне натолкнуться на солидного, умудренного жизнью прозаика. Он «прогуливает» урок иностранного языка и строчит новую главу для романа. Или во время лекции обернешься назад, на «Камчатку», и видишь, как кто-то, согнувшись и стыдливо заслоняя тетрадь рукой, пишет что-то отнюдь не относящееся к земельной ренте, причем длинным столбиком.
Стихи, стихи!.. Искушение дьявола...
Поэт
Недавно горний дух меня сподобил
Уразуметь ничтожность дел земных.
Что лекции?.. Доклады?.. Семинары?..
К чему они? Все суета сует...
Староста курса
Какой там дух? Учись-ка диамату,
Учебничек Леонова прочти
Да лекции прослушай Шестакова!
Вторичен дух. Материя — первична!..
17
В ПОИСКАХ ЖИВОЙ ВОДЫ
Шутки шутками, а кое-кто действительно просыпается на заре с петухами и, еще лежа в постели, подложив под тетрадь учебник или словарь, пишет повесть или поэму или, подобно Миле Городецкой, сочиняет драму. Наша Мила славится тем, что, написав одну-единственную страничку текста, тут же тащит ее своему руководителю семинара, чтобы убедиться, хорошо ли эта страничка написана...
Мне не пишется, и я злюсь и тоскую, не сплю по ночам. Ведь не лодырь же я, как одна наша очень талантливая поэтесса. Когда ни придешь в общежитие, она грустно лежит на кровати без дела. Или сидит в аудитории у окна. Или жарит на керогазе великолепные хрустики. Или накручивает перед зеркалом бигуди.
Говорят, лень — одна из форм неуважения к окружающим.
Но вот я умею ценить свое время и хочу писать, я весьма уважаю своих товарищей. А не пишется мне, да и только. Что тут делать?
Мне не пишется потому, что с недавних пор все не нравится. Я во всем разочаровалась. Что ни услышу — меня коробит. Что ни напишу сама — летит в печку. Какое-то странное чувство пресыщения и неудовольствия. Сижу в опустевшей аудитории после занятий неподвижно и ничего не делаю. Не хочется!
Однажды на фронте, в 1943 году, мне довелось разговаривать с Александром Трифоновичем Твардовским. Дело было на Смоленщине, поздней осенью. Ветер носил над крышами домов мокрые желтые листья. Уже смеркалось. Было холодно и уныло, когда к нам, в комнату к литсотрудникам, вошел армейский поэт Василий Глотов и позвал меня к главному редактору. Я накинула шинель, и мы пошли в дом, где жил наш «шеф» Николай Дмитриевич Бочин. Здесь, в полутемной комнате, при свете керосиновой лампы меня и познакомили с высоким, широкоплечим человеком в военной форме. Сейчас уж и не помню, какие у него были на погонах знаки различия. Это в нем было не главное. Главным было лицо, очень сдержанное, круглое, русское, с живыми серо-голубыми глазами и мягкой, словно смущенной улыбкой. Эта мягкость, столь необычная в армейской обстановке, меня как-то странно тронула: я давно от нее отвыкла.
Разговор поначалу был несколько скованным, необщим, пока кто-то не попросил Александра Трифоновича почитать нам новые стихи и он, не чинясь, согласился. Мы сидели вокруг грубо оструганного деревенского стола в полутьме и под шорох дождя за окном затаив дыхание слушали «Теркина». Александр Трифонович читал, чуть откинувшись из желтого круга лампы в тень. Читал негромко, глуховатым, простуженным голосом.
Потом он рассказывал что-то. Потом читал еще и еще. А потом спел свою знаменитую песенку про шинель:
Упадет ли, как подкошенный,
Пораненный наш брат,
На шинельке той поношенной
Снесут тебя в санбат.
А убьют — так тело мертвое
Твое с другими в ряд
Той шинелькою потертою
Укроют — спи, солдат!
С чем сравнить этот долгий осенний, но пролетевший, как одно мгновение, вечер? С чем сравнить эту песню, знобящую душу?
Среди приостановившегося наступления, дождей, грязи, сырости, среди скуки редакционной жизни, когда изучена каждая шутка и каждый жест соседа, когда знаешь наизусть все тирады редактора и когда с нетерпением ждешь наступления, хотя неизвестно, что оно принесет тебе лично: рану, славу, бесславие или смерть, — вдруг пришел настоящий поэт и наполнил всю нашу жизнь каким-то таинственным новым светом, напоил всех живою водой, встряхнул, как встряхивают уставшее от дождей дерево.
С удивлением и даже некоторой боязнью смотрела я в тот вечер на открытое русское лицо поэта, на светлые волосы, на мягкую, застенчивую его улыбку. Как он просто сказал!.. Удивительно, как все просто, а трогает! Разве я смогу когда-нибудь так просто сказать? Говорить просто — это ведь не всякий умеет.
В ту осень мне плохо писалось, и Твардовский на этот счет сказал так:
— Что со стихами заминка — это хорошо. Это всегда бывает перед тем, как человек начинает новую полосу работы, это преодоление барьера, иначе — рост. Правда, в этот период настроение бывает тяжелое, не верится, что ты способен на что-то, но такова уж наша доля. Не насилуйте себя, пусть даже некоторый период будет без стихов — тем лучше пойдет после...
Эти слова для меня были тогда откровением.
Они вспоминаются мне и сейчас, в институте. Но на этот раз не приносят спокойствия. Я все больше и больше тревожусь: а как долго будет длиться этот «глухонемой» период? А чем он закончится? Вдруг полной «немотой»? И нужно ли ждать сложа руки? Ведь можно, наверное, и не ждать? Писал же Брюсов: «...Вперед, мечта, мой верный вол! Неволей, если не охотой...»
А что, если я вообще больше никогда не напишу ни строчки?
Мне кажется, что весь мир вокруг меня живет, двигается, смеется, ликует, а я как заколдованная спящая царевна: вижу людей, понимаю их, но не могу ни пошевелить рукой, ни ответить, ни улыбнуться.
18
СУП ИЗ РУСАЛКИ
Утомившись бездельничать, я собираю в охапку учебники и спускаюсь в подвал «в рассуждении, чего бы покушать».
Если пища духовная в нашем доме разнообразна и обильна, то завтраки, обеды и ужины оставляют желать много лучшего. Вернувшись из столовой, уже на пороге мои «дочери» восклицают, обращаясь друг к другу:
— Пожрем?
Но «жрать» нечего.
Когда у нас водится фасоль, присылаемая Рите из дому, мы счастливы и вечерами тайком пробираемся в директорский кабинет: там единственная в институте не срезанная комендантом розетка. Мы запираемся на ключ и на электрической плитке варим дивное фасолевое пюре. Но... запах фасоли, видимо, разносится по коридорам довольно далеко и долетает наконец и до вечно бодрствующего бдительного коменданта.
Однажды среди ночи — фасоль почему-то варилась удивительно долго — кто-то властно и строго постучал в нашу дверь. Мы посовещались. Открыли. На пороге стоял сам комендант. Он качал головой.
— Так и знал! Так и знал! — сказал он, безнадежно махнув рукой. — Ну что мне с вами делать? Штрафовать? Ведь лимит же, лимит!.. Как вы не понимаете?
С этого дня директорский кабинет стал запираться особенно тщательно, на два замка.
Но вскоре в общежитии появилось чудо техники — керогаз. Уж и не помню, кто и когда «разорился» и купил его на собственные деньги. Вместе с керогазом возникли и длиннейшие очереди к нему: одному нужно манной каши сварить — отощал; другому согреть воду для бритья — собирается на решительнейшее свидание; третьему — кипяточку для грелки; четвертому — постираться, помыться. И так до бесконечности. Всегда есть желающие, а керогаз-то один!
Теперь вкусные запахи нет-нет да и воспарят под сводами ледяного «голубого подвала». Конечно, обидно, когда на кастрюльке лежит чья-либо предупредительная записка, что «автор» данного супа или каши отсутствует по вполне уважительной причине и просит, чтобы без него не «пробовали», хорошо ли сварилось: почему-то он желает непременно совершить это сам!Тогда вокруг керогаза происходят целые танцевальные пантомимы, и единственная награда за долготерпение — появление «автора», который должен щедрой рукой раздать всем по тарелке. Хоть понемногу, но каждому.
Бывает, что около керогаза находишь и такую совершенно непонятную записку: «Др. гр. в. гр. пр. не бр.» И внизу подпись «Р. Тр.». Что все это означает? Каков смысл сих невразумительных знаков?
Являются добровольные толмачи, и комментаторы, и истолкователи. Стоят, поджавши животы, и гадают. Наконец после долгих споров приходят к общему выводу. В сей грамоте, оказывается, сказано: «Дорогие граждане, воду горячую прошу не брать. Рита Трапезникова».
Сегодня же моя «старшая дочь» — Рита Агашина, — самая хозяйственная и серьезная, принесла из магазина какую-то рыбу. Конец месяца, и Рита «отоварилась». Рыба пахнет чем-то вроде солидола, она вся липкая, скользкая.
— Что это? — спрашиваю я.
— Не знаю. Судя по цене — русалка!
Срочно варится суп. Чтобы отбить у «русалки» подозрительный запах, в варево кладется неимоверное количество красного и черного перца, чей-то целый «лавровый венок», петрушка, укроп и прочие пряности. С радостным, праздничным видом Рита накрывает на стол.
В самый разгар пиршества в комнату входит поэт Наум Гребнев. Он подозрительно нюхает воздух. Спрашивает:
— Что это вы едите?
— Суп из русалки. Хочешь?
— Из русалки?! Ну-ка, дайте попробовать. Сроду не ел русалки...
С трудом проглотил одну ложку, вторую, третью. Сморщился.
— А ведь русалка-то... тухлая! — заметил он грустно.
19
ПРОНИЗАТЬ ИДЕЯМИ...
Когда не работается, время занять нечем. Оно начинает ползти как черепаха. Дни — долгие, томительные, скучные. В эти дни я приглядываюсь к окружающим. Благо в нашем доме что ни человек, то и тип.
Каждый день в коридоре сталкиваюсь с одной дамой. Другим словом эту особу не назовешь.
Дама круглолика, безброва. На ней черная бархатная шляпка, насквозь пропыленная, как если бы этой шляпкой чистили сапоги, и шерстяная, мышиного цвета, растянутая в локтях кофта. По-русски дама говорит так:
— Ви, ти знайшь ли, понимайшь ли, я фаша новая лаборантк...
Зовут ее Эрна Мартыновна. Действительно, это новая наша лаборантка.
Дама очень понравилась всем, потому что весела, безобидна и не сердится на наши далеко не невинные шутки.
На первом же занятии на курсе Эрна Мартыновна говорит:
— Ви, ти знайшь ли, понимайшь, я уже написаль диссертац! Фее готофф! Мне остался пустяк... пронизать идеями!.. Да, да, карош диссертац!
Эта «хорошая диссертация», которую Эрна Мартыновна написала, позабыв предварительно «пронизать идеями», поразила нас всех в самую печенку. В перерывах между лекциями мы толпою идем к Эрне Мартыновне на кафедру, рассаживаемся вокруг нее и с серьезными лицами начинаем расспрашивать:
— Эрна Мартыновна! Так когда же вы начнете свою диссертацию пронизывать идеями?
— О, скор, скор... Мне немножко осталось!
Она улыбается какой-то пленительно-детской улыбкой: эдакое невинное, кроткое ученое дитя. И в мою участливую душу невольно проскальзывает чувство легкой досады, неловкости, даже раскаяния: нехорошо мы так с ней поступаем. Невежливо. Бесчеловечно. Нельзя смеяться над Эрной...
И вдруг на одном открытом партийном собрании — что я слышу?! — выходит на трибуну Эрна Мартыновна в своей кофте и шляпке и с пафосом потрясает маленькими крепкими, как репка, кулачками. В ее голосе уже явственно слышен металл, пришедший на смену прежним бархатным ноткам.
— Ви, ти знайшь ли, понимайшь, таких нужно гнать! Гнать ф шею! Да, да! Я давно фижу: здесь фольнодумств! Безыдейность! — Это Эрна-то Мартыновна об идейности печется! — Надо держать фсех ф ежовых рукафиц!..
Убеленному сединами деликатнейшему профессору, преподавателю логики, Эрна кричит:
— Я ф твоих плянах нишего хорошего не нашель! Пиши другой! Ви фее здесь, понимайшь ли, лодырь!
Ай да Эрна Мартыновна, наша смиренница!
На ученом совете Эрна тоже уже обличает. Виноваты все: и директор, и зам, и секретарь партийной организации, и вообще она всех на чистую воду выведет... «Фсех, фсех гнать!»
Как притих институт! Как печальны у преподавателей лица! Какие недоуменные взгляды бросают они друг на друга, пытаясь понять: что же все-таки произошло? Отчего вся атмосфера этого некогда доброго дружного дома стала вдруг затхлой и подозрительной? Не скажи. Не пойди. Не засмейся. Не посмотрись в зеркало. Не пожми руку товарищу... Да полноте, неужели это все она, наша милая, добрая Эрна Мартыновна?
И вдруг в один прекрасный день в институте тишина. Совершенно другая, насыщенная новым смыслом, веселая умная тишина. На ученом совете — тишина. На партийном собрании — тишина. В учебной части и на кафедре — тишина. И нигде не видно ни черной пыльной шляпки Эрны Мартыновны, ни ее самой, удивительной шляпконосительницы. Кто-то объяснил: уволили.
— Как уволили? И она... ушла?! Не судясь? Без жалоб и апелляций?! Да не может быть!
— Вот ушла. Видимо, наконец поняла, что ей нужно уйти... Исчезла, как дух!
— Ну да... Как же... Такая исчезнет!..
И я долго хожу по институту и оглядываюсь. Мне все кажется: нет, не может так просто уйти Эрна Мартыновна. Очень это на нее не похоже. И если действительно ушла, то уж наверняка нашла себе какое-нибудь другое тепленькое местечко. И хоть не та теперь ее сила, и в голосе ее снова бархат и шелк, и диссертация, может быть, все еще «не пронизана», а только Эрна Мартыновна найдет себе щелочку. Такие, как она, умеют переждать, «перевоспитаться» на ходу и принять на вооружение самые смелые и самые новые мысли, подстроиться к идущим в ногу...
20
КОМАНДИР ЛЬВОВ
Я уверена: на земле нет скучных, банальных людей. В каждом скрыто что-то свое. Умей лишь только увидеть.
Впервые полковника Львова-Иванова я встретила на открытом партийном собрании. До этого мы с ним как-то не сталкивались: от военных занятий всех видов я была освобождена, по административной части ему не подчинялась, в нарушении дисциплины не была замечена, так что первое наше знакомство с Иваном Александровичем оказалось весьма поверхностным. Я сидела в зале и слушала, а он говорил с трибуны:
— Товарищи! Ведь это же сплошное безобразие! Несли с демонстрации два плаката и один эмблем (!) — и все потеряли! А ведь я говорил вам: казенное имущество нужно беречь!
О Львове-Иванове по институту ходят легенды.
Это наш институтский поручик Киже.
Во время гражданской войны в приказе о взятии какого-то города было сказано: «Представить к награде... командира Львов — Иванова И. А.». Командир «львов» потому, что отряд, возглавляемый Иваном Александровичем Ивановым, состоял из одних лишь отчаянных храбрецов, которые дрались как львы. Но писарь, совсем как исторический поп Упырь Лихой, совершил ошибку. Слово «львов» он написал с большой буквы: с той поры и пошла гулять по свету новорожденная фамилия.
В этой легенде, несомненно, есть какая-то доля правды. Ее подтверждает старый, изношенный орден боевого Красного Знамени, полученный Львовым-Ивановым за участие в гражданской, орден с очень маленьким «исходящим» номером, один из первых. Во время Великой Отечественной войны Иван Александрович, видимо, тоже не менее достойно воевал: мундир его украшен разноцветными медалями и орденами. Но... с грамотой у нашего начальника кафедры дело явно не ладится. И это дает пищу разного рода институтским остроумцам. Каждый день можно слышать какое-нибудь новое слово Львова-Иванова, которое передается с комментариями из уст в уста.
Да ведь, честно говоря, и правда смешно, когда человек вдруг скажет с «высокой трибуны»:
— Безобразие! Сломали у рояля педаль — и теперь мы имеем отсутствие музыкального прибора.
Высокий, массивный, краснолицый, весь словно налитый свинцом, Иван Александрович по-хозяйски проходит коридорами института, и ничто не ускользает от его зоркого взгляда. Добряк по характеру, он сурово хмурит брови, верно, боится: вдруг что-либо упустит или скажет не так. Что тогда? Засмеют! Ребята здесь бойкие, пальца в рот не клади! Поэтому он и кажется таким недоступным и грубым.
Но когда одна старшекурсница собралась вдруг рожать, да еще «безотцовщину», Львов-Иванов позвал ее к себе в кабинет, в партбюро, закрыл дверь на ключ и сказал:
— Можешь меня сейчас просто ударить по щеке, если тебе не понравится, что я скажу. Но... знаешь... Отдай мне на воспитание своего малыша, а?.. Я его вскормлю, пока ты будешь учиться. А пойдешь на работу — заберешь. Своего-то сына я на войне потерял...
Та заплакала и отказалась наотрез.
— Ну, разреши, я тогда деньгами тебе помогу?
Но она и от этого отказалась.
Тогда Иван Александрович попросил:
— Ну, коли так, извини меня, старика... Я ведь... от чистого сердца тебе предлагаю...
Этот случай долго был тайной, пока сама участница этого разговора не призналась однажды, за давностью лет...
Второй характерный случай был при мне. У одного из наших студентов, члена партбюро, арестовали отца. Как полагается, товарищ наш тотчас же сообщил об этом в институтскую партийную организацию.
Львов-Иванов, бессменно возглавлявший все эти годы партийное бюро, не стал произносить никаких громких слов, обличать, уничтожать. Он спокойно выслушал сообщение и предложил всем высказаться. Потом подвел общий итог:
— У меня нет оснований не доверять нашему коммунисту, которого я знаю уже несколько лет. За отца он не ответчик. Вот когда он сам провинится, тогда мы и спросим его... А сейчас предлагаю: из состава партийного бюро не выводить...
Этот мудрый и немного плакатный старик был в годы нашего учения в институте чем-то вроде эмблемы «железных» довоенных лет, воплощая в себе все их достоинства и все недостатки. В то же время он жадно стремился догнать убегающий от него быстролетный сегодняшний день: что-то читал, учил наизусть, конспектировал.
— Все течет, все меняется, — заключил Иван Александрович словами Гераклита свое последнее выступление на нашем выпускном вечере, и мы весело переглянулись: ишь ты, не отстает наш старик! Догоняет!
Кто знал, что через каких-нибудь два года в этом же самом актовом зале мы увидим его в орденах, побледневшего и спокойного, в красном гробу.
Львов-Иванов умер сразу, как только вышел на пенсию: его убила ненужность людям, убила одним ударом, наповал — могучего здоровяка, выжимавшего в шестьдесят с лишним лет пудовые гири.
21
ЖУТКИЙ ТИП
Интересно, что привлекает людей непишущих и не любящих по-настоящему литературу к нашему институту? Надежда наиболее «простым» путем пробиться в люди? Жажда легкого заработка? Эксцентричность «поэтического» быта?.. Или, может быть, просто манит к себе слава, почитаемость в нашей стране писательского труда? Трудно сказать. Пути человеческие неисповедимы.
Придет такой «жаждущий» со своими доморощенными представлениями о литературе, походит, посмотрит, обожжет свои крылышки, обидится — и уже через семестр, глядишь, его нет и в помине. Скрылся, разочаровавшись во всех и во вся.
Иной навек будет «ушиблен» поэзией, хотя и не напечатается ни разу. Иной сразу забудет, что когда-то баловался альбомными стишками. А третий и стишков не писал. Просто взял и подал документы: на авось. Бац — и попал. Бывают же такие исключения из правил.
Так однажды у нас, на Твербуле, появился некто К. Ходит он на творческие семинары, горячо до отчаянности спорит и у прозаиков, и у поэтов, и у драматургов, и у критиков и доказывает, что «надо выработывать свой собственный стиль», что «гением рождаются, а стилистом становятся». Потом начинает ронять эдакие фразы:
— Наша литература, конвоируемая критиками...
— Современная поэзия обмелела, как Каспийское море...
— Самолюбие — вот Архимедов рычаг...
— То, что написано скучно, не может быть полезным, потому что весь организм читателя, вся душа его сопротивляются скуке. А раз противятся — это значит противно.
И это уже привлекает к нему, и кто-то читает ему свое новое стихотворение, кто-то просит его на семинаре выступить в защиту. Ссылаются: К. сказал, К. сделал.
И вдруг выясняется, что К. никогда стихов не писал. Вообще в своей жизни не написал самостоятельно ни строчки. И даже более того: чтобы поступить в институт, он купил у кого-то стихи за пару сапог. Ну, просто сказать, совершил классическую операцию: «товар — деньги — товар».
Все это всплыло, когда руководитель семинара потребовал у него новые произведения.
После бурного заседания партийного бюро, после долгого обсуждения на комитете комсомола К. слушают на общем комсомольском собрании. Он стоит перед товарищами с испуганным лицом, ежится под их взглядами, то краснеет, то бледнеет.
— Просить дирекцию, чтобы его немедленно исключили из института, — предлагает секретарь комсомольской организации.
— Исключить из комсомола! — говорят комсомольцы.
И вдруг тонкая усмешка скользит по лицу К. Уж он-то хорошо знает спасительную доброту и снисходительность здорового коллектива. Он знает, чем нас устрашить.
Угрожающе замечает:
— Ну если вы меня исключите, я скачусь!..
У него это звучит так: «я скэчусь!..»
— Ну и катись! Куда ж еще ниже катиться?..
Но К. опять угрожающе замечает:
— Да, да... Я скачусь! И вообще... Не такой уж я жуткий тип, как вы думаете...
У него это звучит так: «жэткий тип».
Но «жуткого типа» все-таки исключили. Здесь, где каждая строчка товарища — наизусть, где каждый верит другому, как самому себе, проступок К. мне кажется непостижимым. И главное, непонятно: для чего он это сделал? Что он этим хотел доказать? Для чего унижал себя, своих консультантов, дирекцию, весь коллектив? Ведь не мог же бесконечно длиться этот обман! Рано или поздно его все равно разоблачили бы. Так зачем же было начинать всю эту авантюру?
Мне кажется, по сравнению с К. самый жалкий и отверженный графоман и то на десять голов выше: он хоть, по крайней мере, любит литературу.
22
ЗДЕСЬ ПОЭТЫ ПИШУТ ПРОЗУ
Блажен тот, кто сам себя знает.
Блажен тот, кто сразу находит в жизни свою дорогу и твердо ступает по ней, не сворачивая в сторону ни на какие заманчивые, таинственные тропинки.
Я чувствую: что-то во мне изменилось. Сначала была поэтическая «глухонемота» и хандра, что-то вроде инкубационного периода болезни, когда тебя всего гнет и ломает, а ты и сам не знаешь, в чем причина недомогания. Теперь медленно, с перебоями, но дело идет на поправку, на преодоление «вируса».
Однако выздоравливаю я как-то уж очень рывками. Помогает мне преодолеть мою болезнь один странный вечер.
Общежитейцы все в сборе и сидят за столами в «мечталке» — так зовут нашу институтскую читальню любители помечтать над раскрытым учебником. Эта комната маленькая и уютная, как и все в нашем доме, что весьма способствует глубокомысленному и полезному времяпрепровождению.
Здесь два окна.
На одном подоконнике меланхолическая надпись карандашом:
Весна!
Как много в этом звуке
Для сердца бедного слилось,
Экзаменом отозвалось...
Возле другого окна — склоненная голова, очки, голова в бигуди и накрученном сверху пестром клетчатом платке. Поверх пухлого тома «Мартына Задеки», то есть англо-русского словаря, на котором при желании можно великолепно гадать «на любовь», какие-то закапанные чернилами и слезами листки: не то маленькая поэма, не то большое письмо.
За столами, крашенными черной краской, — люди солидные, непростые: капитаны и майоры запаса, моряки, артиллеристы, летчики. Сидят, курят. Изучают замызганные конспекты.
И вдруг кто-то оживленно и весело говорит:
— А давайте-ка мы сейчас устроим конкурс на лучшее стихотворение, написанное прозаиком, а?
— М-да-а... Идея! Но о чем же писать? Нужна же общая тема...
— Тема? А вот хотя бы такая: ромашка. Стихи о ромашке.
— Что ж... Можно попробовать...
— Давайте, а, правда? Ну? Кто?
Часы сверены, как перед артподготовкой.
Перед каждым лежит чистый лист бумаги, осмотренный строгим и неподкупным жюри. Все остальные тетради и книги изъяты. Кто-то в муках творчества с тоскою глядит в потолок, грызет пальцы и марает листок, как Пушкин, рисуя профили женщин и ножки. Дым в «мечталке» стоит коромыслом.
Давно разлохматились аккуратные «прозаические» прически. Давно у жюри от нетерпения вытянулись шеи до размера жирафьих. А дело не движется.
Наконец время, назначенное для подведения итогов конкурса, истекло. Каждый читает свое произведение вслух.
Победил, к общему удивлению, Михаил Кондратьев, человек, принципиально презирающий стихи, никогда не выучивший ни одной стихотворной строчки и считающий всех поголовно поэтов «фитюльками». Он написал так:
Росли ромашки,
Цвели ромашки,
Сорвали ромашки,
Завяли ромашки,
Ромашки, ромашки!
Жюри единогласно присудило ему первую премию.
Константин Александрович Федин как-то сказал на семинаре:
— Писатель должен работать во всех жанрах...
Я задумалась.
Во всех жанрах — это значит и в прозе. Рассказ или повесть? А может, роман? Нет, романа я не осилю. А вот надо сесть и записать все, что я видела и пережила на войне. Хотя бы какие-то главные эпизоды. Припомнить всех погибших товарищей. Рассказать, какие это были чудесные, смелые люди. Я буду писать очень просто. Только факты. Не больше...
Мне кажется, сделать это будет легко. Ведь в нашей студенческой песне поется:
Позы, розы, грезы, слезы —
Вечный обиход.
Здесь поэты пишут прозу
И — наоборот...
Если с прозой станет лихо,
Нам не привыкать.
Есть еще хороший выход:
Драматургом стать!
Шум в «мечталке» мешает писать, не дает сосредоточиться.
Кое-кто из старшекурсников поднимается, сгребает со стола бумаги и уходит, демонстративно хлопнув дверью. За ними поднимается Иван Якушин:
— Пойду и я... мужика рисовать.
«Мужика рисовать» — это значит писать о деревне.
Каждый пишущий жаждет уединения. Но где же его взять, столь необходимое тебе одиночество, когда всех-то аудиторий раз, два, и обчелся, а желающих уединиться очень много.
Только задумаешься, сосредоточишься, предварительно закрыв дверь и заткнув скобу ножкой стула, как уже слышишь: по коридору прогремели шаги очередного «железного командора». Сейчас подойдет и будет дергать. Есть, конечно, среди этих шатающихся под дверями и «бронзовеющих заживо» люди добрые и с понятием. Подергав безрезультатно за ручку двери, они, тяжко вздыхая, уходят. Другой человек, не столь добрый и чуткий, будет дергать до той поры, пока не расшатает дверь и стул не выпадет с грохотом на пол. Тогда он войдет с невинным видом, озираясь и, конечно же, забыв извиниться за вторжение, и плюхнется где-нибудь прямо перед твоим носом: начнет сворачивать козью ножку, кашлять, тяжело дышать, шумно перелистывать страницы.
На этом и кончилась твоя творческая работа.
Или сразу собирай свою «прозочку» и уходи, или же оставайся и затевай какой-нибудь разговор, чтобы помешать и ему, черту-дьяволу, плодотворно работать.
В таких случаях разговор нужно начинать самый сердцещипательный, чтобы сразу задеть за живое.
— Слушай, друг! А ты как пишешь? — спрашиваю его. — Короткими или длинными фразами?
Собеседник угрюмо молчит: он, видимо, чувствует подвох. Но, как заскучавший в пруду карась, сразу хватает заманчивую наживку:
— Еще Чехов сказал: краткость — сестра таланта!
В этом ответе все: и уверенность в собственном таланте — ведь он-то пишет кратко! — и презрение к неумытой деревенщине — «не знает, какими фразами надо писать! Спрашивает!!!».
— Гм... Краткость... А что же тогда делать с Толстым?.. Куда девать его длиннейшие периоды с многочисленными «как» и «который», с его фразами, едва умещающимися на странице?Конечно, краткость — сестра таланта. Но длинная, сложная, с глубокою мыслью фраза — сестра гения. Доказательством тому Шекспир, Толстой и Бальзак. И вообще... К сожалению, в том-то и горе, что один лишь гений знает, когда ему быть кратким, а когда многоречивым..
В ответ мрачное молчание. Потом глубокий, тяжелый вздох. И отповедь:
— Толстой! Толстой!.. Ну пойми же ты наконец, что Толстой устарел! Сейчас нельзя писать так, как писал Толстой. Это несовременно... Тогда пахали сохой, ездили на перекладных, не знали ни радио, ни телефона... Жизнь была медленная, спокойная, вот и накручивали длинные периоды. А у нас все в быстром темпе: и жизнь и литература.
— Ну, значит, вот так: подлежащее и сказуемое, подлежащее и сказуемое? Да? Чтобы и глазу не на чем было остановиться?
— Ну не совсем, а все же... Динамизм и ясность — вот стиль современной прозы. И всегда кратко. Очень кратко.
— Значит, по-твоему, романы писать нужно так: родился, учился, женился, трудился и умер? Куда же короче!..
Собеседник хватает в охапку свои пухлые папки, растрепанные, с загнутыми углами тетради, истертые рукописи и, бросая уничтожающий взгляд в мою сторону, кидается к двери.
— Черт знает что! Не дадут человеку спокойно поработать!
А я остаюсь одна и погружаюсь в тяжелое, мрачное раздумье.
Вот как! Оказывается, сегодня нельзя писать так, как писали вчера!
Новизна, конечно, всегда радует. И не только любителей, знатоков изысканной фразы и девственно нового слова. Хорошее, свежее слово доставляет и мне наслаждение. Но главная-то сила ведь не в новых словах! Она в наполнении новым смыслом старых, затертых, изъезженных слов, ибо их большинство. Главное — в одушевлении предметов. В неожиданной трехмерности мысли, чувства и звука, в применении этой трехмерности к самому будничному и простому. Это всегда и старо, и вечно ново. Это самое трудное...
Я вообще останавливаюсь в недоумении перед некоторыми писателями: откуда и как могла родиться у них та или иная фраза? В появлении на свет подобных вещей есть какая-то еще не раскрытая тайна.
Нас в институте учат строить диалоги, завязывать «завязки» и развязывать «развязки», мы изучаем длиннейшие авторские отступления для того, чтобы уяснить себе авторское «кредо», и порою не замечаем, что короткое шутливое словцо иногда заменяет собой целые главы романа и делает ненужными объяснения, избавляет автора от комментариев к происходящему.
В романе Алексея Толстого «Петр Первый» есть крошечный эпизод. Он отбрасывает свет на весь дальнейший ход событий и является как бы ключом к сюжету романа, к судьбе Петра и к истории всего нашего русского народа.
Русские войска разбиты под Нарвой. Они отступили с большими потерями, и хотя опять что-то задумывают, бегают, возятся, строят, однако же кто теперь в Европе к их возне отнесется всерьез? И король шведов Карл XII, как обычно, просыпается в своем воинском лагере, юный, смелый, уверенный в себе и в своих храбрых солдатах, полный сил. По утрам его будит петух. Но сегодня почему-то петух не загорланил во всю глотку, «он только повозился в клетке за парусиной шатра и хрипло выдавил из горла что-то вроде «э-хе-хе...».
Петух! Всего-навсего петух, горестно вздыхающий перед новым рассветом! А ты, читатель, уже знаешь, догадываешься о переломе войны, о всех будущих Петровых викториях, о разгроме заносчивого Карла, о битве со шведами под Полтавой, о возвышении и укреплении государства Российского. Какая удивительно мощная и озорная деталь, достойная гения!..
Читая подобные вещи, удивляешься критикам: почему в обширных статьях, посвященных творчеству того или иного большого писателя, так нищенски мало, так робко говорится о мастерстве, то есть о силе оружия литератора, о меткости его выстрела? Молодому писателю научиться мастерству пока еще очень сложно: он должен сам по крупицам выискивать в монбланах книг отдельные высказывания, обмолвки и откровения: в переписке классиков, в записных книжках Толстого, Гоголя, Достоевского, в воспоминаниях писателя о другом писателе... Филдинг, например, перемежает повествование в своих книгах размышлениями о мастерстве, Маяковский сам взваливает на себя задачу критики и пишет статью «Как делать стихи?». Ну, а где же собственно критики?
Прочитав в первый раз «Тихий Дон», я долго ходила под впечатлением черного солнца, встающего над Григорием Мелеховым. Наверное, роман мог бы существовать и без черного солнца, и от этого он не стал бы беднее, продолжал бы потрясать читателя своей глубиной и правдивостью. Но черное солнце — это еще и поэтическое воплощение идеи романа, словесный разряд в миллионы электрон-вольт, ослепляющий душу. Не книга, а человечество было бы беднее, не зная его!
Поэтому, когда говорят, что писателем может стать всякий, стоит только основательно потрудиться, мне всегда становится грустно. Грустно, как от всякой откровенной неправды.
...Поздний вечер. Декабрь.
От засыпанных снегом деревьев на земле очень толстые, мохнатые тени. Оживленные улицы, яркий свет реклам, короткие промельки автомашин. Ощущение ускользающей от меня жизни, неуловимой, не ложащейся в строчки, совершенно не соответствующей тем привычным, примелькавшимся по книгам канонам, которые нам так часто ставят в пример. И чувство усталости, одиночества в этом мерцающем, пролетающем мире. Косо падает снег, такой мягкий, пушистый и очень влажный. Я иду по бульвару, от фонаря к фонарю, как от одной решающей точки к другой: яркий свет, полумрак, темнота, полумрак, яркий свет.
Фонари, как товарищи со светлыми головами, может, что и подскажут, помогут.
В такую трудную, решительную минуту, когда теряется прежняя вера в себя, в свои силы, хочется побыть одной, поглядеть на себя уже как бы со стороны чужим, осуждающим, недоверчивым взглядом, все обдумать и оценить: а зачем ты живешь? Для чего? И главное, для кого? Отчего я так мучаюсь и нужны ли мои тоска и смятенье народу иль нет? Знаю, людям приятнее только веселое, только то, что утешает и лечит, что ведет прямо к цели, минуя побочные отвлечения чувств и мыслей. Мой народ и сам много знает о жизни и смерти, я тут нового не скажу...
Но зато я могу рассказать ему, сколько раз и как я умирала и как умирали мои товарищи, а это у каждого выходит по-своему, и из каждой увиденной мною смерти и из собственных наблюдений я складываю для себя очень горький, пронзительный опыт. Может быть, для кого-нибудь все же он пригодится?
Я иду по аллее, как по белому, кружевному тоннелю. И безжизненная неподвижность кленов и лип мне понятней и ближе человеческой суеты.
Вот идет мне навстречу румяная, белолицая девочка в белой вязаной шапочке и весело приминает ботинками свежий, пышный, нетронутый снег. Разве она знает, как пахнет снег после разрыва снаряда? Каким бледным, белым, холодным, как снег, бывает лицо истекшего кровью солдата, рассеченного пулеметною очередью пополам? Разве видела она на снегу эти плоские кровяные блины, это нечто измолотое, перерубленное сочленениями гусениц танков, — то, что было минуту назад живым, мыслящим, а главное, чувствующим человеком?..
Вязьма, синяя, зеленая в свете луны... Уходящая куда-то назад, в мое прошлое. Сколько раз я в вагоне проезжала мимо тебя, и вот опять предо мною твои рыжие перелески, твои жиденькие хлеба, твои низкие домики, покосившиеся, деревянные, источенные дождями! Каждый метр твоей скудной, болотистой и лесистой земли полит кровью моих товарищей... Ты как Спас-на-крови. Почему не звонят сейчас твои ржавые колокола?
Я не знаю, с чего начать свою первую книгу.
Четыре года войны вместили в себя столько разных событий, людей, пережитого, что невольно теряешься: а что главное из этого? С чего начинать: с начала или с конца? Может быть, с той минуты, как я проснулась и увидела хмурое небо с низкими грозовыми облаками и как я оделась и пошла в город: мне нужно было сфотографироваться на документы в университет, и как горбунья «фотографиня» меня долго вертела, чтобы посадить ближе к свету, и я злилась на нее, потому что спешила к Римме Орловой — мы с ней собирались в кино, и как потом, когда я вышла из фотографии, на улице начался дождь, злобный, бешеный ливень. Сбитые ветром, зеленые листья кружились и плыли между трамвайными рельсами. Вода была так высока, что трамваи остановились. А на Никитской площади под репродуктором стояла толпа. Огромная, черная, мокрая — толпа безмолвных людей под хлещущим ливнем. И голос по радио: «Вероломное нападение... Бомбили Киев, Минск...»
А может быть, надо начать с того, как красив Дон в половодье. И как отец в высоких болотных сапогах стоит на крыльце рядом со мной и, лаская атласное рыжее ухо собаки, говорит:
— Завтра туман съест весь снег — и будет весна...
И действительно, вечером за окном молочной рекой разлился туман. Его волнообразные сизые полотна, развешанные над Доном, чуть вытягиваются, шевелятся, и я то и дело выбегаю раздетая на крыльцо посмотреть, не пропустить бы момент, когда туман начнет есть снег между деревьями и за садом.
Перед сном я спрашиваю у матери:
— Мама, а у тумана есть зубы?
Мать потрогала мой лоб прохладной рукой.
— Какие зубы? Чего ты городишь? — И она укоризненно поглядела на отца.
А ночью мне снится страшный старик с длинной белой бородой, спутанной и косматой. Он хватает грязной, костлявой рукой снег и запихивает себе в рот, давится, ест...
А может, совсем не ворошить этого давнего: Дона, Каменной степи, детства, а начать сразу с того, что камнем лежит на сердце, начать холодно и спокойно, как люди шли по мартовскому насту. И справа, и слева, и сзади, и впереди них — со всех сторон летят мины и с шипением, с грохотом разрываются, выхватывая из рядов то одного, то другого, то третьего. Потом минометы умолкают, и тогда слышится трескотня автоматов и лай собак. И один из идущих вдруг слабо махнул рукой, и люди слегка ускорили шаг, а им показалось, что они побежали.
Они побежали к деревне, откуда из крайнего дома бил пулемет. Они бежали не останавливаясь, не залегая. Потому что если бы залегли, то уже не хватило бы сил подняться. Они то бежали, то шли во весь рост, пошатываясь от усталости, шли на прицельный огонь. И другого выхода, кроме как идти на этот прицельный огонь, у них не было. Они были в двойном окружении.
Я обязана написать обо всем на войне: о плохом и хорошем, потому что все эти люди — мои товарищи. Я их знаю по именам. Я знаю, как они кружили весь вьюжный морозный февраль, и весь снежный март, и половину сырого апреля в тылу у врага, с последним сухарем и последним патроном, и как их травили собаками, и как немцы и полицаи охотились на них, словно на волков, и как с самолетов их расстреливали с бреющего полета, и как пушки и минометы били «по площади» наугад и всегда попадали в живое, и как враг боялся их, этих полутеней, измученных и голодных.
Это все мои однополчане. Я знаю от начала до конца их мрачную эпопею. Немецкие танки, перерезав дорогу на Вязьму в феврале 1942 года, разделили и мою жизнь пополам. Ведь я только случайно осталась жива: из-за лошади, которую мы остановились покормить. Если бы не эта лошадь — ее убило осколком от авиабомбы в тот же день в Белом Камне, — я ведь тоже была бы там, вместе с ними...
Но как написать обо всем этом? События того времени нельзя осквернять неопытным, робким прикосновением. И уж если начинать говорить, то надо же говорить все до конца!
«Мало того, чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отрицательно — умалчивая», — учит Лев Толстой.
В институте многие пишут о войне. Почти каждый из нас убедился на собственном опыте, что война выглядит совсем не так, как мы думали о ней прежде. А между тем чего-то главного в наших произведениях недостает. Есть пейзажи, атаки, смерть, расставания, военный быт, а вот воинского труда, подвига повседневности все еще нет...
Есть два вида подвига: мгновенный, быстротечный, когда человек живет минутой, и подвиг, который длится годами. Нередко вся жизнь человека — изо дня в день удивительнейший, ни с чем не сравнимый героизм. А как об этом занимательно написать?.. Как передать словами все напряжение не этой одной-единственной минуты, а всей цепи долгих, внешне ничем не отличающихся друг от друга лет? Как изобразить перспективу одинакового для всех дней одного, общего чувства?
Мы еще не созрели, чтобы писать о незаметном...
Сейчас принято говорить о войне обязательно нечто новое.
Конечно, незачем повторяться! Но и новое не должно противоречить тому, что было в действительности. Новизна существует в литературе не ради одной новизны. Копать глубже — не значит копать в другом месте.
Мы сейчас забываем, что на войне было много хорошего. Что на войне мы были юными. А в юности даже мрачные вещи выглядят весело. Этого нельзя никому забывать. Ипохондрия многих сегодняшних повестей — это уже следствие послевоенных лет, это черный светофильтр на объективе, через который некоторые из нас оглядываются на прошлое.
23
ЛЯГУШКА В КАРМАНЕ
Теперь меня все чаще и чаще тянет к прозаикам. Я хожу и допытываюсь: а как они строят сюжет? А из чего складывается внешний и внутренний облик героя? А как нужно писать фразу, чтобы из самого сочетания слов создавалось то таинственное единение, какое связывает писателя с читателем и которое не позволяет читателю небрежничать, уклоняться от чтения? Из чего состоит черно-белая магия слов?
Как найти ту самую первую фразу?
Наверное, перед каждым начинающим писателем, да и не только перед начинающим, стоит эта проблема единственной, неповторимой, увлекающей читателя первой фразы!
Я помню начала многих хороших книг наизусть. Толстовское: «Все смешалось в доме Облонских», гоголевское: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие: к нам едет ревизор», олешинское: «Он поет по утрам в клозете».
У великих вся фабула в одной этой первой фразе.
Анатоль Франс начинает свою «Иокасту» так:
«Как, неужели вы кладете лягушек в карманы, господин Лонгмар? Вот гадость!»
Франс — писатель едкий и острый, не боящийся уходить с проторенной тропки сюжета в дебри философских отступлений и сложных ассоциаций, ибо уверен в собственной неотразимости, в глубочайшем своем влиянии на ум читателя.
Но, однако ж, и он не гнушается раздумывать над своей первой фразой и долго ищет ее и подкладывает читателю «лягушку в карман», чтобы тот не дремал. А как много еще у нас сырых и неинтересных первых страниц, как уныло мы начинаем повествование!.. Где уж тут заинтересовать читателя; хотя бы не оттолкнуть его, не заставить зевать с первой строки!
Значит, что же? Надо непременно в эту первую фразу вмещать какую-либо оригинальность?
Но тогда почему Лев Толстой так нескладно, так утомительно длинно начинает свое знаменитое «Детство»?
«12-го августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе...»
Боже мой, какая корявая, неуклюжая фраза!
Какая неловкость и нарочитость в этой неловкости! Автор как бы испытывает терпение читателя: да полно, выдержит ли он?
Но разве случайна эта его неуклюжесть? Разве она от неумения выразиться «гладко»?
Мы еще ничего не знаем о Карле Иваныче, а уже неловкость от его присутствия ощущаем явственно. Видим его пунктуальность, его заботливость, заключающуюся в том, чтобы непременно убить муху, которая, возможно, и не причинила бы спящему беспокойства. Разве это не блестящая характеристика человеку?.. А длинная, внешне как бы корявая фраза, разве она не сколок с дурной, полурусской-полунемецкой речи Карла Иваныча?
Эта «лягушка» посложнее франсовской. Но она живая и прыгает. Отрубать ей лапок нельзя. Иначе Толстой в последующих изданиях, несомненно, отрубил бы.
Следовательно, занимательность первой фразы не трюк. Это концентрат содержания вещи, первое выражение его. В ней всегда должно быть заложено все сразу, как в почке, из которой распускается лист, как зерно, из которого вырастает растение.
Но как растение вырастает только из определенного семени, так и повесть или роман могут вырасти только из свойственной им, одной-единственной на свете фразы...
Да, пока речь идет только об одной-единственной первой фразе!
А как сделать, чтобы герой твой был виден со всех сторон? Чтобы он был живой, запоминающийся, интересный людям? И чтобы он жил в книге по всем тем законам, по каким человек живет в жизни?..
А концовка?
Чем кончить произведение, чтобы читатель не отшатнулся впредь от тебя навсегда? Чем кончаются в жизни обычно наши собственные переживания и муки?
Нынче принято посмеиваться над счастливыми концами в повестях и романах. Но история литературы говорит нам другое.
Угловатый и неподкупный суровый рассказчик Александр Грин, не умевший и не любивший потрафлять обывателю, все же не один раз кончал свои рассказы весьма примечательной и полной глубокого смысла фразой:
«Они жили долго и умерли в один день».
Скажите, многие ли ваши знакомые, любящие друг друга, «умерли в один день»?
Нетипично. Надуманно. В жизни так не бывает. А Грин взял и не побоялся такой исключительности, написал.
Мне рассказывали: во время войны в окружении двое влюбленных не захотели переносить унижения плена. Он был ранен. Она молода и здорова и, видимо, могла бы надеяться пробиться к своим. Но они прежде всего... любили друг друга! И когда в нагане остались всего два патрона, они крепко обнялись, поцеловались, и он сначала убил ее, потом себя.
Счастливый это или несчастливый конец? Кто, кроме них двоих, это знает? Мне кажется, в нашем нынешнем представлении о счастье не всегда хватает величия, силы духа.
Счастливая концовка не ложь, не стремление писателя подсахарить, подсластить пилюлю. Это естественное, здоровое тяготение к очищению, к завершенности, столь же необходимое человеку, как, например, грозовой туче — пролиться дождем, освежить небо и землю: «Тих мой край после бурь, после гроз...»
Прежде чем начинать, нужно тысячу раз отмерить и заранее взвесить, чем кончить. Потому что самое главное, в сущности, — это то, что стоит за последней фразой. За точкой. Жизнь или смерть? Надежда или разочарование? Вера в людей или же ненависть и презрение к ним?
Да, тяжело начинать... Тем более все сначала.
Перейдя на прозу, я вдруг вижу, что потеряла все, что умела делать до этого. Забыла, где нужно ставить подлежащее, где сказуемое. Фразы у меня какие-то одичавшие: они то ползут, то скачут, то становятся на дыбы. А то вдруг из прозаического текста вылезает на свет божий обезглавленное стихотворение. Или ритм закачается, как в былине. Что-то вроде: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок...»
Но отступать некуда.
Первый свой прозаический опыт я дала прочесть заведующему кафедрой творчества Василию Александровичу Смирнову.
Он внимательно прочитал, вызвал меня после лекций, сел за стол и долго молчал, опустив голову. И я все поняла. Поэтому я уже не слушала того, что он мне говорил. Помню только, что он тщательно подбирал необидные, добрые, вежливые слова. Наверное, и ему в этот час было не очень-то легко.
Но странно, я слушала его — и не огорчалась.
Был такой случай: на совещании молодых, на семинаре, два больших веселых писателя не оставили от моих стихов камня на камне. Наверное, никого они в жизни так дружно не ошарашивали, как меня, и так беззаботно не уничтожали. При этом они сказали мне много злого, несправедливого, такого, что я, будь повыдержанней, поспокойной, повнимательней, наверное, сумела бы легко отмести как наносное, преходящее. Но я тогда ничего не отмела. Я все приняла на веру, всерьез. На улице мне тогда хотелось броситься под трамвай. На лестнице — кинуться с лестницы. Не случись в ту пору одновременно двух смертей сразу же — Алексея Недогонова, случайно попавшего под трамвай, и Михаила Голодного, случайно попавшего под машину, я, наверное, избрала бы похожий вариант. Но после этих трагических случаев я как-то побоялась показаться смешной.
А здесь в разговоре со Смирновым я все хорошо понимала. Он прав. Он во всем абсолютно прав. Даже больше: он бережно что-то еще не досказывает, очень важное и суровое. И все-таки в глубине души я спокойна. Все равно я буду, буду писать свою прозу...
Пока еще плохо получается у меня. Ну и что!.. Я буду работать. Когда-нибудь я напишу хорошо.
24
У БОВАРИ ЛЮБОВНИКОВ ТРИ...
С ножом к горлу подкрались экзамены. И сразу на какой-то срок отодвинулись на второй план все творческие неувязки, заботы, тревоги. Теперь перед студентом во весь свой гигантский рост встала новая проблема: проблема стипендии и пятерки («Без пятерки нет стипендии, а без стипендии не получишь пятерки, то есть вообще уже не сможешь учиться!»).
К экзаменам мы готовимся всем курсом вместе. Собираемся в аудитории с самого раннего утра, рассаживаемся за столами, как обычно на лекциях, и кто-нибудь из отличников, наших спецов по тому или иному вопросу, А. Турков, В. Огнев или С. Северцев, начинает занятия. В обсуждении темы должны участвовать все: и кто знает, и кто не знает. Нередко среди знатоков возникают разногласия, и тогда даже самые отъявленные лентяи волей-неволей постигают основы, необходимые для экзамена. Ведь именно в спорах и рождается истина.
У Бовари
Любовников три.
Первый, помню, из них — Квазимодо,
Остальных позабыл, хоть умри...
Посреди дня мы делаем перерыв на обед и идем всей оравой в столовую, пугая официантов криком двадцати здоровых глоток, а также завидным аппетитом. Мы садимся всем курсом за один стол, и, хотя нас просят немедленно «размежеваться», никто не решается: не хочется уходить, откалываться от компании. И тот, кому не хватает места поставить тарелку, держит ее в руках: чего не сделаешь ради дружбы!
Пшенная каша, полагающаяся нам по талончикам «усиленного дополнительного питания», исчезает мгновенно: «последняя из УДП».
Говорят, что экзамены — самое лучшее время отдыха для студентов. Для того, кто в году занимался, это, может быть, и справедливо. Но мои «дочери» в эти дни обычно не спят по трое суток, нагоняют упущенное. Целый год они следовали прекрасной, изобретенной ими же самими заповеди: учение — свет, неучение — приятный полумрак; и теперь слепнут от яркого блеска познаний.
Приходят они в общежитие на рассвете крадучись. Осторожно положив на место «мамины» конспекты, мгновенно засыпают. Я сильно подозреваю, что занимались они чем-то «не тем». Иногда мне действительно кажется, что их следует поколотить. Но в дело обычно вступается «папа Фитих», который, как ему и положено, говорит:
— Не надо бить их!
Избавляет моих «детей» от шлепков только то, что учение им дается легко — когда они этого захотят — и что двоек они не приносят. Однако переживать за них приходится много.
Впрочем, переживаем мы и за Расула Гамзатова, который пока еще неважно говорит по-русски.
Наш «аварский хыщник», как его у нас называют, между делом любит позабавиться, пошутить.
На экзаменах по русской литературе XIX века он чересчур долго задержался за дверью. Стоим, ждем его с трепетом.
Наконец он выходит сияющий, как майское солнце.
— Сколько получил? — спрашиваем его.
Он высоко поднимает растопыренную пятерню:
— Отлично! Пять!
— Молодец, Расул! А что тебе досталось?
Тот небрежно махнул рукой:
— А! Какой-то Помялойский!
Вот после этого и говори о писательской славе...
25
НАС ГЛАДКОВ НАЗЫВАЕТ: ПОВЕСЫ...
Нас Гладков называет: повесы!
И за каждую двойку сечет,
А вдали мы — московская пресса.
Уваженье нам, честь и почет!
Летние ночи шатаются по Тверскому бульвару, заглядывают в распахнутые настежь окна, что-то сонно бормочут тебе на ухо. Птицы в сквере перед институтом щебечут: «Книжечки?! Прочь, прочь!»
Все чаще на подоконниках валяются забытые кем-то учебники. А вечером, когда смотришь на дом с Тверского бульвара, в освещенных окнах — силуэты влюбленных парочек.
Последние бессонные ночи перед последним экзаменом. Последние горькие слезы двоечников и первые радости отличников. Студента, ходившего в одиннадцатый раз к Александру Александровичу Реформатскому сдавать языкознание и не сдавшего и на этот раз и опять получившего «кол», уже показывают в коридоре за деньги: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй!»
Все поспешно заканчивают московские дела и готовятся в путь-дорогу на свою первую творческую практику. Рита Агашина едет в Павино, Наташа Бурова —в Ташкент, Вера Скворцова — в Ленинград, Рая Хубецова — в Осетию. Я — в Кзыл-Орду.
Из-за фанерной перегородки, отделяющей нас от ребят, долетают тугие, подобные громовым раскатам басы:
— Аркадий, вставай!
— Аркадий, вставай!
— Аркадий, вставай, опоздаешь на поезд...
Мы сами выбираем по карте, куда ехать на творческую практику: что любишь, что знаешь, что ближе к сердцу. Поэтому каждый едет с охотой, полный новых творческих замыслов.
В девчачьем общежитии суета, разинутые пасти чемоданов, горячий утюг на «Мартыне Задеке». Сейчас не до «Мартына», да и все угадано — ждет дальняя дорога.
Над беспорядком разгромленных кроватей, книжных полок, цветов, забытых в эмалированной кастрюле, — остатки какого-то шумно отпразднованного дня рождения, — легкий дух отрешенности. Бренные тела еще здесь, в Москве, а души уже там, в дороге. Поэтому так бестолково суетимся в узком пространстве между кроватями.
Мы едем вместе с Наташей Буровой самые последние, проводив подруг.
Нам с ней по пути.
На прощанье в последний раз идем в институтский сквер.
Красная юбка Наташи похожа на перевернутую чашечку мака. Зеленая кофта. Обнаженные тонкие руки, как стебли. Да и вся она, теплая, мягкая, пронизанная лучами солнца, как яркий тропический цветок. Золотисто-рыжие волосы спутаны ветром. Взгляд глубоких темных глаз загадочен, неподвижен.
Наташа может часами сидеть в какой-нибудь неловкой позе, не шелохнувшись, глядеть на траву, на гравий дорожек и путаницу солнца и листьев. Интересно, о чем она думает в эти минуты? Может быть, в этой солнечной тишине и рождаются строчки:
Дай мне силу не думать о смерти,
Дай мне мужество выбрать тропу!
Только ветер, что мельницы вертит,
Может смело бросаться в толпу.
Каждый день, что пронесся, жалеешь.
Прошлый год были ярче глаза.
Очень плохо, когда не умеешь
Различать в темноте голоса...
Да, только о смерти и можно думать с такими глазами! Ведь это неправда, что в наш атомный век не умирают от несчастной любви, что шекспировские страсти устарели.
Мы-то знаем, отчего так мрачны глаза Наташи, так грустны и прекрасны ее стихи. Но человек, который дорожит каждым «пронесшимся днем», все же сильнее смерти. В это хочется верить. В это помогает верить совсем по-женски сказанная фраза о том, что «прошлый год были ярче глаза». Так, наверное, ревнуют к самой себе, еще молодой и наивной. Но если глаза не стали ярче, зато сегодня ярче стихи! А это для поэта гораздо важнее...
Она уходит с томиком Пушкина в сторону от меня и садится на солнце. В ней все южное, томное. Древней Азией дышат складки небрежно брошенного шелкового платка, оборки юбки, кольца волос. И я, да и все, кто остался в доме, с надеждой и радостью любуемся Наткою издали.
Отчего такая красивая и талантливая женщина одинока?
Талант — это, видимо, большая обуза для «ближнего».
Тем более если «ближний» и сам пытается выбрать в литературе свою «тропу» и боится попасть под обаяние самобытной, не похожей на других личности, впасть в подражательство...
Не знаю, не хочу судить «ближнего».
Я всегда с грустью думаю о Наташе, желая узнать, отчего так значителен в ее стихах этот мотив неуспокоенности, мятущейся души:
Кукушечья мудрость — живи да живи,
Не надо ей дупел высоких.
Положит она свою тяжесть любви
В гнездо зазевавшейся сойки.
А птицы не спросят в шептании сада:
«Чего тебе мало? Чего тебе надо?»
Мы сидим с ней в поезде Москва — Ташкент, на верхней полке, под самой раскаленной крышей вагона, и Натка читает мне стихи. Потом она тут же переписывает их на обрывках бумаги в дар, на память. Стихи я уже помню наизусть, но клочки собираю бережно. Мне мило в ней все: ее мягкость, ее внутренняя чистота, ее тихий, чуть охрипший, простуженный голос. Слова льются цветистые, живописные, как пейзаж за окном, как бусы молодой казашки, вынесшей на перрон кислое кобылье молоко.
Наташа хорошо знает Азию — от Семипалатинска до Арала — и любит ее:
От родины моей далеко города,
И за ночь не дойти до Каракола,
Где надвое пустыню расколола
Цветной полоской узкая вода,
Урча в каменьях, вымытых и голых...
Она рассказывает мне о своем сыне Димке, о Семиречье, где прошло ее детство, о Памире, куда она собирается с геологами в экспедицию. Потом, спустя год, я получу от нее с Памира единственное письмо, полное смятения: «В институт я больше не вернусь. Посмотрела бы ты, как здесь работают люди, в темных шахтах, по пояс в ледяной воде. На что им мои стихи «про любовь»? И что нового вообще я могу рассказать им? Что я знаю? Нет, надо по-новому начинать жить. Надо снова искать свою тропу...»
В институт она так больше и не вернулась. А стихи ее бродят по Москве, передаются из уст в уста, хранятся как драгоценность.
Где ты, Натка, теперь? Что делаешь? Отзовись...
Уж, наверное, ты повидала немало, если каждый листок, исписанный твоим ломким, упрямым почерком, говорит о нелегкой, нерадостной жизни.
26
ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Вот я и в Кзыл-Орде!
Город мне нравится. Он полон солнца, пыли, верблюдов и фетровых шляп. На каждом прохожем или проезжем — обязательно фетровая шляпа. Здесь пахнет арбузами, кизяками. По утрам вместо будильников — ишаки. Они кричат хриплыми, надрывными голосами: «Иаа-аа! Иа-ааа! И-а!»
Возле города лениво изгибается и крадется на мягких желтых лапах Сырдарья. Она мутная, глинистая, волны в ней покаты, как женские плечи. Ртутный отблеск солнца на воде, верблюжья колючка на берегу; все это дико, пустынно и дышит вечностью. Вдалеке по степи клубы пыли — это идут машины с грузами к строящейся на Сырдарье плотине ГЭС.
Хорошо уходить после полдневного зноя за город, ложиться на горячий глинистый берег и слушать далекий заунывный ропот реки до тех пор, пока солнце не сядет на волны.
Ранним утром под сенью развесистых карагачей я иду на работу в редакцию. Здесь я прохожу свою практику. В моем распоряжении прохладная комната, вся в зеленом полумраке от разросшегося под окном дерева, на столе чернильница и телефон — больше мне ничего и не надо. Я очень довольна условиями работы. Каждое воскресенье газета выходит с четвертой «литературной» страницей. Моя обязанность — подготовить ее. Это значит, что нужно найти какой-либо хороший рассказ или очерк, стихи, рецензию на интересную книгу или кинофильм, занимательную информацию, эпиграммы, пародии, шутки.
Я засиживаюсь в «своем» кабинете до ночи. В редакции уже тихо, и мне уютно, хорошо пишется. Дерево, стоящее под окном, шепчет что-то доброе, непонятное на своем языке. В углах комнаты дремлют серые замшевые тени. И свет из-под зеленого абажура кажется дружеским, как глазок семафора: езжай в любую область фантазии, принимайся за любое хоть самое трудное дело. И все, что задумаешь, загадаешь, все тебе сбудется.
Я сижу и «страдаю». Завтра суббота. Последний срок. В номер нужен рассказ, а я ничего не нашла хорошего. Торопливо перебираю чужие рукописи. Может быть, что-либо взять и подправить, улучшить? Но увы! — ничего нет. Ничего нет подходящего, не только хорошего, а хотя бы даже средненького. Просто хоть плачь.
Я запираю свой кабинет и ухожу в полном отчаянии. Медленно бреду по темным, пышущим, словно жаровни, не остывающим за ночь улицам. Что делать?
Потом долго сижу перед своим домом на скамейке, возле дувала. Зеленоватая, подобная переспелой дыне луна истекает душистым, как сок, призрачным светом. Город слоится, становится зыбким в серебристо-зеленом тумане. Будто вся Кзыл-Орда сбежала с картин Куинджи.
А что, если попробовать мне... написать самой?..
Нет, конечно, ничего не получится. Да и поздно за это браться. Одна ночь. Всего одна ночь осталась до срока.
Я иду домой и ложусь на расстеленной на полу кошме. В жару здесь все спят на полу на кошме. Так прохладней. Взбиваю повыше подушку — и всю ночь смотрю в темноту широко раскрытыми бессонными глазами. Вспоминаются какие-то встречи, поездки, хорошие люди; всплывают перед глазами фразы. Вот откуда-то выплыло из-под сознания и встало типографской строчкой начало. Я вижу даже шрифт, каким это набрано, слышу запах типографской краски.
С боку на бок, с боку на бок... И так до утра.
Утром на работу не иду, а сажусь тут же, на полу, над тетрадью и пишу, пишу, пока не онемеет рука. Скорей, скорей! Вот это «хвост» — его в начало. Обозначим: такая длинная «вожжа». А эту вставку убрать отсюда. Она разжижает — и без этого ясно. А этот человек должен говорить только так:
«Я вас очень прошу, чтобы вам понравился Казахстан!»
Такого человека я знаю. Он именно так и говорит.
А этот пейзаж должен быть истинно казахстанским: размытые краски, полутона, еле заметная тонкая линия горизонта.
Я пишу размашисто, не раздумывая над фразами.
На другой день хожу по городу и смотрю на витрины: да, действительно меня напечатали. Мой рассказ есть в каждом экземпляре газеты. Ну, не странно ли? И люди читают!
А потом, спустя несколько лет, я найду всему объяснение в одной книге: «Только глупец побеждает в жизни, умник видит слишком много препятствий и теряет уверенность, не успев еще ничего начать».
Август в Кзыл-Орде — это жара, пыль и ветер из Каракумов. Люди начинают свободно дышать лишь в сумерках, когда летучие мыши косо режут воздух раскрытыми серыми парашютиками крыльев. Звезды крупные, яркие, как ртутные лампы, зажженные в недосягаемой глуби черных небес.
Все чаще и тревожнее я вслушиваюсь в гудки паровозов, долетающие со стороны вокзала, все чаще вспоминается наш подвал, голубые стены, Москва.
Мне говорят в редакции:
— Оставайтесь у нас работать. Что вам институт! Потеряете пять лет жизни, а толку? А здесь... — и начинают перечислять все блага жизни, какие бедному студенту, живущему на стипендию, и не снились.
Да, конечно. После армии и офицерского жалованья с полевыми и «за погоны» переходить на стипендию было «грустно». Одна буханка хлеба на базаре у спекулянтов стоит приблизительно столько же, сколько мы получаем в месяц. И хотя студенты, как известно, экономят на всем, в том числе на шнурках и на бане, все равно до конца месяца денег не хватает. Каждый раз возникает проблема: где занять? А здесь — жить без долгов, жизнью интересной, полезной и в то же время достаточно сытной. Гонорары, поездки в «глубинку», кабинет, телефон, положение очеркиста, квартира... Ах, что и говорить! Все это звучит ужасно заманчиво. Кроме того, хочется пожить и с родными, которых, начиная с сорок первого года, я ни разу не видела. Хочется попользоваться всеми прелестями азиатской южной страны: дынями, арбузами, яблоками, рыбой, кумысом, полакомиться мясом фазанов и дикого кабана, покупаться всласть в вечно куда-то спешащей, загадочной Сырдарье, побродить по ее берегам, пожариться, отогреться в свете смуглого, ничего не жалеющего жаркого солнца.
Но...
Искусство требует жертв!
Меня зовет к себе институт. Зовет, манит всем недоспоренным, недосказанным, недослушанным. И этот дальний его зов пересиливает, перевешивает над доводами «золотого тельца».
«Встречайте еду дынями» — такую телеграмму я отправила на Тверской бульвар и всю дорогу боялась, что меня не встретят, что за тяжелый груз, свыше нормы, меня оштрафуют, что на Казанском вокзале мне придется эти дыни просто дарить прохожим. Ведь всяко бывает: вдруг еще никто не вернулся с практики в Москву?
В поезде среди ночи я не раз просыпаюсь и с тревогой посматриваю под лавку: целы ли мои огромные ананасные, сетчатые, зеленомясые, купленные на мои трудовые?..
Ночью, когда уже закрылось метро и по своим современным комфортабельным стойлам уже разбрелись московские трамваи, троллейбусы и автобусы, мы наконец приползли на Казанский вокзал.
И конечно же, меня встречали! Как я могла сомневаться?!
На вокзал пришла целая орава друзей.
Каждый взял по дыне — и безбоязненно миновал контрольные весы. На всякий случай я шла позади этого по-восточному торжественного шествия, чтобы выручить задержанных. Но таковых не оказалось. Все мы заранее договорились, что встретимся на площади у стоянки такси. Вот и я прошла благополучно, и все в сборе. Нет только одного — новичка, первокурсника Ивана Ганабина, которого Инна мобилизовала как «грубую рабочую силу».
Мы столпились вокруг машины и дружно стали кричать:
— Ваня, Ванечка, мы здесь! Ваня!!!
Нам откликаются то шоферы, то носильщики, то кто-либо из приезжих. Иные недоумевают, чего это мы среди ночи подняли галдеж, иные смеются над нашими усилиями разыскать в многомиллионной Москве какого-то никому не известного Ваню.
Наконец наш шофер не выдержал:
— Долго будем еще ждать?
Приходится ехать.
В «голубом подвале» все, кто спал, разбужены. Поднялся шум, начались разговоры, восклицания, поцелуи, рассказываются последние новости. Прямо из постелей, не одеваясь, все рассаживаются вокруг стола, на который я водружаю самую большую, самую спелую, пахнущую земляникой и медом дыню.
Потом разрезаем вторую, затем третью...
Улеглись страсти, утих шум, а Вани Ганабина все нет и нет. У меня на сердце кошки скребут. Куда он задевался? Что случилось? Почему отстал от «масс»? Может, заблудился? В милицию попал?
Легли спать, погасили свет. И только на рассвете я слышу, как тихонько скрипнула входная дверь, кто-то осторожно, на носках, вошел в комнату, что-то тяжелое положил на стол...
Я вышла на «манеж».
— Ваня, это ты?
— Да.
— Где же ты был, мы тебя искали...
— А я пешком шел.
— От Казанского? С такой тяжестью?
— Да.
Утром мы с Инной пошли к «мальчикам», на их половину. Ганабина уже не было. Его койка, по-матросски аккуратно заправленная, стояла в углу. И ту самую дыню, которую он нес, мы и возложили ему на кровать, нацарапав на толстой шершавой поверхности: «За отвагу...»
Как выяснилось потом, это была первая в его жизни дыня. Прежде он никогда их не ел.
27
КОНЕЦ «ГОЛУБОГО ПОДВАЛА»
Простите, вы никогда не были на шабаше, на Лысой горе?
И вы не видели ни ведьмы верхом на помеле, ни взбесившихся скамеек, стульев и плошек?! Отсталый тогда вы человек...
А вот наш ночной сторож дед Тарасыч такой шабаш однажды видел и может подробно рассказать, когда и с чего он начался и чем кончился.
А все началось с открытого партийного собрания. Кто-то встал и бросил упрек секретарю партбюро, полковнику Львову-Иванову, что в нашем доме существует странная дискриминация: ребят наконец-то перевели в сухой, солнечный флигель, во дворе, а девушки и поныне мерзнут в сыром, насквозь прогнившем подвале. И до каких пор это будет так продолжаться? Не пора ли в этом деле навести настоящий порядок?!
На другой же день сердитый и мрачный Львов-Иванов пришел к нам в «Большую девичью» и сказал:
— Вечером переселяйтесь!
— Куда? Иван Александрович, куда?
— На второй этаж, рядом с Литфондом... ,
— Да ну? Это правда? Вы не обманываете?!
— Разве я, старик, буду обманывать?
Затормошили его, зацеловали, затискали так, что он еле отбился.
— Знал бы, коменданта вам прислал! Пусть бы он сообщал такую новость...
Но ушел довольный, сияющий.
Вечером дед Тарасыч запер все входные двери на ключ, чтобы никто посторонний не вошел в дом, и сел с книжкой и настольной лампой к окну. Оглянулся, смотрит, а к нему перина на кокетливых каблучках приближается и жалобным голоском говорит:
— Дедушка Тарасыч, ничего не вижу, зажгите свет...
Дед даже попятился.
А следом за периной тумбочка кверху ножками в воздухе плывет и кричит:
— Эгей, где вы там? Не отставайте, мне одной тяжело...
И началось...
Кровати, матрацы, подушки, столы, стулья, охапки книжек, чемоданы — все это вихрем проносилось мимо Тарасыча, хохотало, пело, прыгало. То внизу, в подвале, то на лестницах, то на самом верху, в величественных, настоянных на патриархальной тишине и благоговении перед начальством апартаментах Литфонда зазвучали дерзкие слова:
Эгей, запевай, «голубой подвал»,
Радость встречай, народ!
Эгей, даже кто не певал,
Пусть в этот день поет...
И до глубокой ночи длился этот праздник, пока молодые, симпатичные ведьмы с комсомольскими значками на кофточках торжественно устраивались на новом месте. А дед Тарасыч суетился среди них, хлопая руками себя по бокам, и восклицал:
— Ну теперь у вас не жизнь, а малина!..
Да, прекрасна была эта новая жизнь!
Маленькие, сухие, теплые комнаты, насквозь пронизанные, прогретые солнцем, с окнами, купающимися в синеве неба и зелени сада... И полы — не цементные, а паркетные! И стены — не фанерные, а капитальные... Чудо какая жизнь! Тесновато? Не беда. Мы ничуть этим не смущены. В тесноте, да не в обиде.
Наше «семейство» все в сборе и расположилось в новых комнатах, кровать к кровати. С нами нет только одного «папы Фитиха», который давно уже стал мамой, на этот раз по-настоящему, и живет в своей собственной квартире, с собственным маленьким Андрюшкой.
«Дочери» мои осиротели, но только наполовину. Если нет в доме отца, то тем строже должна быть мать.
Я присматриваю за ними довольно сурово.
У нас наконец-то есть распорядок дня, мы ложимся в двенадцать и сразу гасим свет, что невозможно было сделать в «голубом подвале», ибо там каждая «кошка» ходила сама по себе и не признавала никаких авторитетов.
Опоздавшие к «отбою» отныне пробираются к своим кроватям тихонько, на цыпочках. Поэтому все высыпаются и встают утром веселые, бодрые...
Наша комната самая чистая.
За это нам торжественно вручили премию — радиолу. И у нас появилась пластинка. На одной стороне «Прощайте, скалистые горы», а на другой какой-то старинный вальс. Мы вполне довольны и тем и другим.
И конечно, на самом видном месте, на круглом столе, накрытом чистой скатертью, стоят в белой вазе красные кленовые листья...
Кто-то загадывает, укладываясь на ночь в кровать:
— На новом месте приснись жених невесте!
28
НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ ПТИЦЫ
Наконец-то и мы старшекурсники, и уже не нас называют «мальки» и «котята», а других — только что принятых новичков, и тех, кто следом за нами переходит с курса на курс, хотя их-то уж никак не назовешь ни «мальками», ни «котятами». Массивные, с квадратными плечами, загорелые, бритые, по институту ходят парни в матросских шинелях: Семен Шуртаков, Михаил Годенко, Григорий Поженян, Иван Ганабин, Иван Завалий. В скверике института под пожухлой и пыльной листвой знаменитого красного клена басисто, напирая на «о», читает стихи молодой солдат-пехотинец в выцветшей форме. Это Владимир Солоухин. Его круглое обветренное лицо по-крестьянски сдержанно, настороженно. Взгляд словно спрашивает: «Ну, так что вы мне скажете? Попробуйте-ка возразить!» Тут и там мелькает белая, как лен, голова: это носится по институту задиристый, вспыльчивый, «сплошная эмоция» прозаик Владимир Тендряков. Дружно держатся два артиллериста — Юрий Бондарев и Григорий Бакланов, они вместе ходят по коридору, вместе курят, вместе вступают одновременно в спор. Круглолицый, низенький, толстенький Евгений Винокуров всегда улыбается, даже когда над ним подшучивают: признак отличного душевного здоровья.
Пополнение прибывает мощное, крупного калибра.
На перерывах кто-то с пафосом «рубит стихи».
Оценки поступают самые противоречивые. Один из слушателей восклицает:
— Хрестоматийно!
Другой резко машет рукой:
— Черная абракадабра!
Третий, сплюнув, подвел итог:
— Это написано левой холодной немытой ногой.
Ну, значит, сейчас и сам автор, и его критики возьмутся за грудки.
К нам на курс тоже прибыло подкрепление: из ВИЯКа [Военный институт иностранных языков.] пришел очеркист Анатолий Злобин, с заочного перевелся поэт Василий Федоров. Высокий, светловолосый, он возвышается над стоящими вокруг него противниками на целую голову и что-то шумит, доказывает, поправляя спадающую на лоб светлую прядь.
Однажды после особенно ожесточенной схватки Федоров сказал мне, весело улыбаясь:
— Есть люди твердые, как орех. А раскусишь его — и баста! Больше в нем нет ничего. А меня, — Василий хитро смеется при этом, — меня жуют, как резину, и так-то и эдак, а я все такой же! Не по зубам...
Он приглядывается ко всему своими маленькими, умно поблескивающими глазами, морщит толстые губы, что-то думает, думает...
Есть поэтические таланты, подобные алмазам. Они сверкают ярко, всеми гранями. Но впоследствии, сколько их ни шлифуй, а смысл их все тот же. Ничего в драгоценном камешке не прибавилось нового!
Талант Василия Федорова напоминает мне жемчужину, которая с годами все увеличивается, зреет, нарастает слоями. Вот она была маленькая, песчинка. А вот спустя годы — большая, опалово-розовая и сияет глубинным, молочным огнем, переливается спрятанным внутри его солнцем...
Мы сидели с Федоровым почти рядом, в одной аудитории, и довольно долгое время совершенно не знали друг друга.
Впервые всерьез мы столкнулись с ним в поездке в Воронеж, в дни зимних каникул.
В то время Воронеж был разрушен, пожалуй, не менее, чем Сталинград. Целые километры аккуратных развалин. Аккуратных потому, что они уже обнесены заборами, окружены пушистыми, в белом инее, тополями, укрыты, спрятаны под белым пушистым снегом.
Но за заборами — черные провалы окон, голые, мрачные, обрушенные стены, исковерканные трамвайные пути. Словно трубы архангелов, сзывающие людей на страшный суд, поднимаются к небу черные колонны здания, где у немцев было гестапо.
Казалось бы, кому в Воронеже до стихов, до поэзии, когда еще нет ни света, ни хлеба? Кому интересно слушать двух начинающих, молодых?
Зрительный зал заводского Дома культуры полон. Наши слушатели — мальчишки, выпускники ремесленных училищ: безотцовщина военных годов. В любую минуту они готовы подраться, а подравшись, заплакать; в любую минуту могут засвистать в три пальца, как голубятники. После смены, еще грязные, неумытые, голодные, в ледяном, нетопленном зале, они собрались на одно из тех самых бесплатных «мероприятий», которые, как известно, всегда ходят в низкой цене...
Я сижу на огромной неметеной, неприбранной сцене и робею: сумеем ли мы завладеть вниманием своих маленьких непоседливых слушателей? Ведь мы будем читать только стихи. Одни стихи. И более ничего! Никаких шпаг глотать мы не будем...
И вот первые фразы брошены в зал. Тишина.
Слушают внимательно. Ведь это стихи о Воронеже, их родном многострадальном городе, в котором они знают каждую улицу. Это им, видимо, очень понятно. Весело хлопают. Не привычно-старательно, а вразброд, но с азартом.
Меня сменяет Василий Федоров. Он читает стихотворение о мятущейся, полной сомнений душе, выбирающей путь, о единственно верном, правильном шаге:
Переступить? Или вернуться?
Переступить? Или вернуться?
И решено — переступить...
И вдруг совершается нечто ужасное, чего мы не могли и представить себе заранее. В зале мигнул и погас электрический свет.
Полный мрак. Сейчас... Жду. Сейчас заревут, засвистят, затопают каблуками, закричат: «Сапожник!» И наши голоса потонут в столпотворении вавилонском...
Но — тишина.
В самом деле. Полная тишина.
Федоров на миг перебивает сам себя.
Спрашивает:
— Как, ребята, подождать? Или читать дальше? Будете слушать?
— Читайте... Если знаете наизусть!..
— Продолжайте! Мы слушаем...
И он продолжает.
Принесли свечку, поставили на обрыв, на край сцены. За нею густая, как деготь, темнота. В зале холодно. Очень тихо.
Дыхание поэта клубится белым паром.
И ни один наш слушатель не поднялся с места, не вышел из зала, прежде чем поэт не дочитал до конца и не сказал: «Все». Да и после этого еще какое-то мгновение сидели задумавшись, молча.
Наверное, легенда об Орфее не выдумка древних. Есть в поэзии сила, которая подчиняет себе человеческое существо, заставляет человека помимо своей воли задуматься, улыбнуться, загрустить.
Эта сила бывает только в талантливых, умных стихах.
С той поры для меня поэзия Федорова стала близкой. Тайна вечного обновления жизни, возвращения людям взятого у них и переплавленного в стихи открывалась для Федорова нелегко. Но за годы сомнений, поисков, неудач он научился делать главное для поэта: не только чувствовать, но и думать. А разучиться думать, как известно, нельзя. Это качество Василия Федорова еще многих порадует.
29
ЛЕПЕСТКИ РОЗЫ
Наконец-то я в прозаическом семинаре. У Константина Георгиевича Паустовского.
Он расспрашивает, где мы побывали за лето, что видели. И о каждом названном городе рассказывает что-то свое. Кажется, нет в России такого места, где бы он не был сам: тысячи интереснейших подробностей узнаем мы от него о своих собственных родных краях и с волнением отмечаем каждый про себя: как мало мы в жизни видим — и как много увидел он! Неприметные, скучные, на наш взгляд, городишки в его изображении выглядят так, что хочется туда поскорее вернуться и пожить там еще несколько лет...
Оказывается, мы не умеем замечать.
Обостренность восприятия, точность зрения, говорит Паустовский, необходимое и важнейшее качество для писателя. Он не может, говорит Константин Георгиевич, не улавливать самых скрытых и самых тонких намеков, самых сдержанных и внешне неприметных движений души. Однако и при отборе увиденного ему нужно быть тактичным и чутким. Нельзя полюбить книгу, автор которой подсматривает за жизнью с наблюдательностью злорадного, невоспитанного ребенка: этакий чеховский «злой мальчик»!
— А у тебя, тетенька, бородавка на носу! Я сразу заметил!
Потом Константин Георгиевич предупреждает:
— Бойтесь не только словесных литературных штампов, бойтесь также ходячих истин, банальных мыслей. Учитесь делать выводы сами — только тогда вы избежите проторенных дорожек. Уважайте факты. Факты — вещь упрямая...
Он учит нас записывать свои мысли, ведь многое в жизни забывается, выветривается из памяти. Нельзя надеяться только на воображение. Обязательно нужно хорошо знать предмет, который изображаешь: как он выглядит в жизни, из чего сделан, для чего служит.
Записные книжки, говорит он, дисциплинируют человека. Они приучают писать точно и кратко. Многие записные книжки писателей могли бы существовать как самостоятельный литературный жанр. Литература должна быть многообразной!
Сам он, признается Константин Георгиевич, записными книжками не пользуется, потому что обычно запоминает самое главное, а именно это и нужно ему для работы над повестью или рассказом. Всякие мелочи, интересные фразы из записных книжек часто выглядят в ткани повествования инородными телами. Они звучат диссонансом.
Мы слушаем, затаив дыхание, внимательно. Щедро делится с нами богатый собственным трудным опытом писатель. И никто из сидящих в аудитории не подозревает, что на наших глазах рождается «Золотая роза», что эти беседы впоследствии будут собраны в книгу, по которой научится видеть мир еще не одно поколение молодых писателей.
Я внимательно слушаю руководителя, все, что он говорит, и раздумываю: чем талантливее литератор, тем он, видимо, щедрей к товарищам по перу. Человек, много видевший, много знающий, не может не быть добрым. Ведь он от этого не обеднеет. Только тот, кто по крохам нахватал литературной известности, может быть к своему младшему собрату по перу завистливым и даже жестоким.
На занятия к Константину Георгиевичу приходят не одни лишь непосредственные участники семинара, утвержденные по списку кафедрой творчества. На наиболее интересные чтения собирается иногда и множество посторонних. Они тоже внимательно слушают и имеют право «голоса», активно участвуют в обсуждениях. И я очень люблю эти наши «дни открытых дверей», если можно их так назвать. Эти шумные сборища приучают не только отвергать, но и уважать чужое мнение, каким бы крамольным оно ни было. Ведь для того чтобы создать что-то свое, всегда нужно понять чужое.
— Писать — это мыслить логически и мотивировать поступки, — утверждает кто-то из пришедших «послушать».
— Неправда! Чушь! Ерунда! Мыслить логически и мотивировать поступки может заурядный следователь или адвокат, однако же он не Гёте и не Теодор Драйзер! Нельзя всякого взявшегося за перо и знающего жизнь титуловать высоким званием писателя!
— Знаешь, еще Гораций сказал: положите свежую рукопись на десять лет в стол и пусть она там полежит, хорошенько дозреет...
— Да, а Генрих Гейне сказал, что Гораций пусть даст к этому еще и рецепт писателям, как прожить десять лет без пищи, без денег...
Каких у нас только не бывает споров!
Когда Сева Ильинский в одном из своих рассказов написал, что его герой с удовольствием вдыхал запах лошадиного пота и свежего конского навоза, многие участники нашего семинара его раскритиковали:
— Это неэстетично! Так нельзя говорить! Это — натурализм!
С этими замечаниями нельзя согласиться.
Тот, кто жил в деревне и знает ее с детства, не увидит в навозе ничего неэстетичного. В деревне, где все связано с почвой, где все существующее — на глазах! — из земли приходит и в землю уходит, где землей кормятся, земле молятся, «грязи» как таковой не существует вообще.
Кто из нас, деревенских ребятишек, когда-нибудь мыл морковку перед тем, как ее съесть? Да никто. Рукавом оботрешь — и ладно.
Что же касается лошади, то это одно из чистейших животных. И пища у нее чистая: трава, ячмень, овес. И в ее крепком трудовом поте есть что-то чистое, здоровое. Она вся олицетворяет собой прямую и тесную связь с землей, с природой.
Когда я вспоминаю деревню, обязательно всплывает в памяти запах лошади, конюшни, свежего навоза. Точно так же, как запах пролитого в снег бензина почему-то всегда напоминает войну.
Мне кажется, писатель подобен врачу. Он не имеет права быть брезгливым.
За окном уже ночь. В аудитории темно от табачного дыма: на семинарских занятиях всегда много курят. Константин Георгиевич разрешает это делать потому, что и сам не живет без табаку.
Он сидит на кафедре как-то боком, морщинистый, темнолицый и темноглазый, чуть нахохлясь, и только изредка вскидывает седеющую голову, словно всматриваясь в говорящего. Время от времени сухо, надрывисто кашляет.
Я слушала его несколько лет подряд; на занятиях семинара, на всесоюзных совещаниях молодых писателей, на больших вечерах в институте, на защите диплома, на обсуждениях в Центральном Доме литераторов — и должна сказать, что Константин Георгиевич в своих беседах с нами ни разу не повторился, не рассказал одного и того же своего наблюдения дважды. Он был неисчерпаем.
На одном из занятий Паустовский сказал характерную фразу. Я запомнила ее на всю жизнь:
— Никогда ничего не жалейте для той книги, которую пишете. Ни забавных находок, ни деталей, ни житейского опыта. Отдавайте все до конца тому делу, которое делаете сейчас, всю душу, всего себя. А для новой книги вы снова, и не меньше, накопите! Будьте щедрыми. Чем полнее сегодня отдача, тем богаче будет завтрашний день.
30
ФЛОБЕР, БАШНЯ И НЕБО В АЛМАЗАХ
Профессора нам на лекциях говорят:
— Бойтесь штампов. Бойтесь старых, затасканных приемов, привычных формулировок, банальных эпитетов. Но еще больше, чем литературных штампов, бойтесь старых, избитых, штампованных мыслей. Обязательно обо всем думайте сами, до всего добирайтесь своим умом.
Легко сказать — думайте сами!
Мы пока только учимся и хотим много знать. Мы хотим получать хорошие отметки, а поэтому многое зубрим наизусть, читаем и конспектируем тьму учебников, предисловий, критических и литературоведческих трактатов и статей.
Ярослав Васильевич Смеляков, заглянув однажды в мою зачетку и увидев там одни лишь пятерки, невесело усмехнулся:
— Учишься ты хорошо! Заучиваешь чужое. А самой-то приходится думать иль нет?
Трудная это наука — думать. Добираться до всего самому. Очищать от литературоведческой шелухи литературные луковицы. Мы пока еще всему верим на слово, преклоняемся перед именами. Редко-редко мелькнет мысль: постойте, а может быть, это не так?
Один критик взял вдруг и написал, что Дуняша Мелехова — это сегодняшняя Наташа Ростова, а Аксинья — это Анна Каренина. А сам Гришка Мелехов — это Болконский нового времени. И более ничего. Другой сквозь зубы пренебрежительно повествует о Гюставе Флобере...
Странно, но факт: почему-то именно Флобер, ненавидевший всякую пошлость и боровшийся с прописными, ходячими истинами, стал мишенью для пошляков, оказался жертвой предвзятого мнения.
Будь он жив, он, наверное, не преминул бы вписать в свой знаменитый «Лексикон прописных истин» и еще одну, из наших учебников:
«Г. Флобер — башня из слоновой кости».
Да, да! Всем известная башня. И всем известная слоновая кость. И всем известная теория общественной самоизоляции.
Но вот предо мною письма Флобера. Я с волнением открываю их, как Америку...
Не люблю читать чужих писем. Даже если это письма великого человека. Читать их все равно что подсматривать в замочную скважину. В большинстве случаев всегда на первом плане бытовая изнанка, столь щекочущая нервы обывателю: человеческие слабости, безденежье, «испорченный желудок — отец печали».
Пожалуй, один Флобер избежал в своих письмах мелкотемья. Этот добродушный великан никогда не интимничал. Он всегда писал о главном: о литературе. О мастерстве. О своем отношении к обществу.
Я люблю «Мадам Бовари», «Воспитание чувств», «Простую душу» — вещи правдивые, беспощадные, исполненные глубочайшего знания жизни, какого, конечно, никакая «башня из слоновой кости» не даст. И мне обидно за усатого великана, суматошливого, противоречивого, чьи шутки сходили за правду и чья правда была словно горькая шутка.
Каждый, кого ни спроси о Флобере, говорит мне, пожимая плечами:
— Чудак! Сидел в какой-то башне...
— Ну, этот-то? Эстет и формалист! Опять же удалялся от людей в свою башню...
Интересно, откуда это взялось и пошло по белому свету? Кто именно — и зачем? — создал эту легенду? Сколь внимательно мы читаем произведения и отчего, прежде чем говорить о той обстановке, о том веке, о тех взглядах, мы не учимся определять понятия, не очищаем от наслоений времени литературные термины? Ведь прежде чем судить, надо выяснить, что именно мы подразумеваем сейчас под тем или иным словом и соответствует ли оно по смыслу или нет словам прошлого века.
Поблагодарим Луизу Коле, красивую женщину и писательницу, за то, что Флобер писал ей нежные письма, в противном случае мы бы так никогда и не узнали всей правды об этой проклятой башне, а также о самом Гюставе Флобере и его иронической усмешке и презрении к буржуа.
Флобер открещивался от «реализма», понимая под этим словом бескрылый копиизм, фотографичность. Но сам он был по перу реалист, величайший художник и умел создавать воображаемую жизнь по всем законам живого, вдохновенно, как скульптор, лепил плоть.
Почему же мы судим слова его, а не дело?
«Ах, все дело в том, что эти молодчики придерживаются старого сравнения: форма — это плащ, — пишет Флобер Луизе Коле. — Нет, форма — плоть мысли, как мысль — душа жизни; чем шире мускулы груди, тем легче дышится». И далее прозорливо и грустно роняет: «Ч е м л у ч ш е т ы н а п и ш е ш ь, т е м б о л ь ш е п о л у ч и ш ь н е п р и я т н о с т е й (разрядка Г. Флобера. — О. К.). Вот оплата за хорошее и прекрасное».
«Ты пишешь о своем унынии; посмотрела бы на меня! — восклицает Флобер в письме к возлюбленной. — Не понимаю, как у меня порой не отваливаются от усталости руки и не делается размягчение мозга. Жизнь я веду суровую, лишенную всякой внешней радости, и единственной поддержкой мне служит постоянное мое неистовство, бушевание, которое никогда не прекращается, но временами стонет от бессилия. Я люблю свою работу яростной, извращенной любовью, как аскет власяницу, раздирающую ему тело...»
«Я предпочитаю издыхать, как собака, нежели на одну минуту ускорить фразу, которая еще не созрела», — говорит Флобер в письме другому своему товарищу.
Разве это эстетство? Любить тяжкий свой труд, лишать себя радостей, гнуть спину днем и ночью для того, чтобы каждая фраза «созрела», да ведь это и есть настоящее, истинное писательство!Если б, взять к примеру, каждый из нас жил таким тяжким, упорным трудом, точно так же беспощадно и честно относился к написанному, я думаю, сколько ярких и сильных книг появилось бы на свет, как уменьшилось бы число скороспелок и скородумок!
Я завидую ему, этому волевому, грузному человеку, скорчившемуся за письменным столом в то время, когда все его огромное тело жаждет отдыха, страждет, скованное, без свежего воздуха и разминки.
«У меня до такой степени натянуты нервы, — признается писатель, — что, когда моя мать вошла в десять часов ко мне в кабинет проститься, я дико вскрикнул от ужаса, она даже сама испугалась. После этого у меня долго билось сердце, понадобилось не менее четверти часа, чтобы прийти в себя. Вот до какой степени меня поглощает работа. От неожиданности я почувствовал такую острую боль, точно сердце мое пронзили мечом. Что за жалкая машина наш организм. Ведь все это случилось потому, что милый человек отделывал фразу!»
У кого как, а у меня такой человек вызывает симпатию. Я сочувствую его увлеченности делом, его подвижническому труду.
Он пишет Максиму Дю Кану, продажному журналисту и писателю, некогда своему другу, с которым он разошелся:
«Скажу лишь, что всякие слова, вроде: торопиться, подходящий момент, пора занять место, добиться положения, вне закона — для меня пустые звуки... Не понимаю.
Добиться, чего же? Положения, занимаемого гг. Мюрже, Фейе, Монселе и пр., Арсеном Усей, Таксилем Делорд, Ипполитом Люка и семьюдесятью двумя другими? Спасибо.
…......................................................................................................................
Вот где дыхание жизни, говоришь ты, указывая на Париж. По-моему, твое дыхание жизни частенько отдает запахом гнилых зубов. Парнас, куда ты приглашаешь меня, выделяет, на мой взгляд, больше миазмов, чем упоений. Лавры, что срывают там, надо сознаться, слегка покрыты дерьмом...
...Так горько сетовать на мою нейтрализующую жизнь — все равно что упрекать сапожника за то, что он шьет башмаки, кузнеца за то, что он кует железо, художника за то, что он живет в своей мастерской... В моем одичании виноваты Лукиан, Шекспир и писание романа».
Так рассуждает затворник из башни, сотворенной из «чистой слоновой кости». Приходится размышлять: почему же мы не понимаем сегодня Флобера, точно так же как не понимал его и Максим Дю Кан? Неужели мы с Дю Каном на одном уровне?..
Все дело в том, что мы смотрим с сегодняшней точки зрения: ах, затворник! Ах, он удалился от общества! («Не посещает профсоюзных собраний и не платит членских взносов!»)
Для нас «башня из слоновой кости» — синоним «голубому забору», а Флобер не мог не уединиться, потому что для него эта башня такая же мастерская, как сапожная или кузница. Просто она немного возвышена, потому что нужны широкие горизонты, потому что вокруг «болото» и мало друзей, симпатизирующих писателю. Слову «симпатизировать» Флобер тут же дает буквальное истолкование, что означает: «вместе страдать». Башня еще и потому, что туда не доносится запаха «дерьма».
«Мы танцуем уже не на вулкане, — признается он с горечью, размышляя о жизни буржуазного общества, — а на изрядно подгнившей доске в сортире».
Помимо искреннего убеждения, что в Париже буржуазные лавры «слегка покрыты дерьмом», писателя в этой «башне» удерживает и чисто прозаическое обстоятельство, о котором он стесняется открыто говорить с друзьями и о чем пишет только любимой — Луизе Коле:
«Почему нельзя жить в башне из слоновой кости! И подумать только, что вся суть в злополучных деньгах, благородном металле — этом хозяине мира! Будь у меня больше денег, — говорит Флобер, — я бы многое облегчил себе. Но мои сбережения из года в год уменьшаются, и будущее в этом отношении сулит мне мало радости... перемена образа жизни, пожалуй, привела бы к полному разорению!»
Следовательно, не добровольный уход от людей, а вынужденное заточение как средство уменьшить расходы. Ведь чтобы жить в Париже, надо много зарабатывать. А Флобер — писатель, работающий мучительно медленно, честно, с какой-то болезненной требовательностью к себе. Он не может «халтурить» ради заработка, как Дю Кан и другие. Он и в этой-то обстановке, в уединении, пишет с трудом! (Надо знать: всяк работает по-своему. Один пишет в парижском кафе, среди шума и гвалта, другой должен непременно уединяться, писать в тишине, и это ни в какие века не считалось «подсудным».)
Флобер равно смеялся над монархистами и республиканцами, видя в их мелком политиканстве демагогию, лицемерие, ложь, метался в поисках правды, торжества разума, уклоняясь порой в сторону с правильного пути.
Однако эти метания и заблуждения не мешают ему при случае едко воскликнуть:
«Новость! Молодой Дю Кан — офицер Почетного легиона! Как, должно быть, он рад! Когда он сравнивает себя со мною и взирает на путь, пройденный им с тех пор, как он меня оставил, ему, несомненно, должно казаться, что он далеко опередил меня (внешне). Увидишь, в один прекрасный день он подцепит какое-нибудь место и бросит милейшую литературу. Все смешивается в его голове — женщины, ордена, искусство, сапоги, — все кружится на одном уровне, лишь бы это его продвигало — вот что важнее всего. Замечательная эпоха (любопытный символизм!) — как сказал бы папаша Мишле, — когда награждают орденами фотографов и изгоняют поэтов...»
Горе тому, кто за строкой не видит лица говорящего, не чувствует интонацию, не замечает горькую, ироническую складку возле губ:
«Предоставим Империи идти своим путем, закроем дверь, взберемся как можно выше на нашу башню из слоновой кости, на последнюю ступеньку, ближе к небу. Там иногда холодно, но это не беда! Зато видишь сияние звезд и не слышишь болванов».
Бедная башня, да ведь она суть мечта по лучшей, более чистой и независимой жизни — и не что иное! Она есть скорбная усмешка над самим собой, незатейливая шутка между влюбленными, которую кто-то выкрал из писем и пустил в мир как «кредо» писателя. Да ведь эта же «башня» — совершеннейшая родня чеховскому: «Мы отдохнем! Мы увидим все небо в алмазах!»
Так, значит, за небо в алмазах — спасибо, а за башню — эстет и формалист? Но, собственно, почему?
А вообще, плохо мы читаем. Не умеем читать. Хоть и грамотные!
31
ПРОЩЕ ХЛЕБА
С некоторых пор мы всей «семьей» разочаровались в театре.
Пошли на один спектакль — не досмотрели, ушли. Пошли на другой — не досмотрели, ушли. Почти весь свой гонорар за первый опубликованный рассказ я истратила на театральные билеты, а наслаждения, столь ожидаемого, не получила.
Сначала мы обвинили самих себя: не умеем воспринимать непосредственно. Слишком хорошо знаем тексты пьес, не следим за интригой, заучились, зазнались... После нескольких неудачных попыток собрались снова — и снова вернулись домой разочарованные. В чем же, в самом деле, причина? Может быть, в этом не только наша вина?
Наконец перебрали все, что только может помешать радоваться игре, острому диалогу, декорациям, всему театральному в целом. И пришли к выводу:
— Пафоса много! Слишком много пафоса!
Нельзя и о смерти Дездемоны, и о выполнении промфинплана говорить с одинаковым дрожанием в голосе. В чем-то здесь обязательно должна быть разница.
И все время актеры что-то зрителю объясняют.
Война породила чувства суровые и простые. Никакой излишней сентиментальности, никакой жалости ко всему мелкому, ничтожному. Никакой парадной пышности, сладости. Там, в окопах, приживалось только то, что помогало воевать. Все остальное отбрасывалось.
А в театре послевоенном, да, пожалуй, что частенько еще и сейчас, зрителя кормят сладкой булочкой с изюмом. Причем этот изюм выковыривают на глазах у публики. Вот, мол, смотрите! Есть еще, и сколько угодно...
Изюмная сладость заставляет иных уходить от стихов в простоту и военную точность прозы, к драматизму приказов и сводок. Изюмная сладость некоторых книг вызывает иногда желание попить холодной чистой водички: давай-ка, друг милый, попроще! Не надо бы этаких финтифлюшек в сахарной пудре. В простом, черном хлебе есть все, что нужно для здорового организма.
Когда я иду в театр и смотрю драму «про любовь», я думаю о тысячах неотмщенных, о миллионах не доживших до победы, о безымянных, забытых. Почему мы не мерим наше творчество этой великою мерой?
Никогда не забуду наступление на Смоленщине, под Спас-Деменском, в августе 1943 года. Только что кончилась артподготовка, и наши войска пошли вперед. Круглые немецкие мины штабелями лежат на обочинах. Развороченные траншеи, обрывки колючей проволоки. Тела убитых, по которым уже прошли вперед танки и самоходные артиллерийские установки. Зубчатый осколок, вонзившийся рядом со мною в сухой бруствер окопа, еще горяч, обжигает руку.
На дне окопа — согнувшийся пополам и уткнувший голову в колени Мотя Ковалев, инструктор политотдела дивизии. Он только что вышел оттуда, из-под огня, из цепи наступающих: ранен в голову.
— Почему я живой? Почему?.. Для чего я живу, если Вася убит?! Для чего?! Андрей Федорович... Миша Уразов! Все, все полегли... — глухо стонет он и бьет кулаком по сукой глинистой стенке окопа.
Матвей — сильный, жилистый, сухощавый мужчина. В его чуть вислых плечах, в костлявой, тяжелой руке — железная твердость. Ходит он бесшумно, легко, как кошка, крадучись. Глаза зоркие, по-степному цепкие. И я хорошо понимаю, почему он остался в живых, только ранен случайным осколком на излете. Но мне страшно видеть, как он плачет, как слезы текут по грязной, со вздувшимися венами огромной руке, а сам он корчится, стонет, сидя на корточках в полутьме, в полуобвалившейся нише окопа, и время от времени падает головою в колени.
— Гады! Сволочи!.. Вашу... мать! За что-о?! — Он дико ворочает налитыми кровью глазами. — За что Ваську?! Бейте меня!.. — И Матвей с хряском рвет воротник гимнастерки, скрежещет зубами.
Я смотрю на него, на белый бинт на лбу, вспоминаю своих товарищей по сорок первому году. Всех, кого не вернешь. Командира полка Алексеева, лейтенанта Вальку Редина, веселого, курносого, в рыжих веснушках. Его дружка сапера Толю Ахмадеева, скромного парня, сильного, смелого, быстрого, как огонь. В Звенигороде я видела его в последний раз. Он промчался мимо меня, весь белый от снега, стоя в розвальнях, с трубкой в зубах. Махнул рукой, что-то крикнул — и скрылся в белых лохмах поземки. Вспоминаю улыбчивого, очень сдержанного, очень твердого комиссара дивизии Даниила Прокофьевича Сизова. Чем я им отплачу за то, что я жива?
Они мертвы. Погибли в неравном бою. И теперь уж ни бог и ни врач не помогут их воскресить. Только единственно лишь писатель силой слова еще может заставить их встать живыми с земли, утереть кровь с лица, досказать недосказанное, долюбить недолюбленное, завершить начатое.
Но для этого надо быть хорошим, правдивым писателем. Точно таким же, какими они были солдатами.
Для этого нужна благодарная память о мертвых.
Я смотрю наши многие послевоенные кинофильмы о войне — и мне кажется: нет, непохоже. Те, погибшие люди, были честнее, и выше, и лучше: ведь они погибали за счастье Отчизны. А поэтому все обычные недостатки, неровности, мелочи в свете этого главного не важны. Там, на фронте, в окопах, не спорили, не рассуждали: а страшно мне или не страшно. Идти или не идти в бой. Жить иль не жить. Там делали свое солдатское дело. И вот в этом-то и состоит священная правота бойцов и великая правда, которой пока еще нам не хватает.
32
НЕЧТО О БЕЛЬВЕДЕРСКОМ
Время бежит, а я еще ничего не сделала, не написала.
Я погрязла в бесчисленных страницах черновиков. И пока я раздумываю да рассчитываю, кое-кто уже напечатался. Смелость города берет! И даже гонорары.
Напечатаны в «Литературной газете» стихи Риты Агашиной, Михаила Годенко, Володи Солоухина, Максима Толмачева, то и дело появляются в печати стихи Расула Гамзатова. Принес показать свой новый сборник, вышедший в Сибири, Василий Федоров.
Один молодой, способный наш студент напечатал рассказ в «Огоньке», а потом издал повесть. Но странное дело! Его героиня, очень юная и внешне ничем не приметная девушка, у нас, товарищей по перу, вызвала много споров.
Автор все время «улыбается» своей героине. Он дает ей сверхлестные характеристики, а читатель почему-то ожесточенно сопротивляется и не хочет глядеть на новорожденное «солнце» из-под авторской руки.
Чистосердечная, наивная простушка, героиня эта не имеет к жизни никаких особенных претензий. Автор просит по этому поводу улыбнуться. И действительно, без улыбки нельзя слушать ее детских речей. Но вся разница в том, что улыбка у читателя совершенно иная, чем у автора. Улыбка у читателя недоверчивая, ироническая.
Кажется, он так и хочет сказать:
«Хорошо, что ты, милая девушка, неприметна и некрасива. Хорошо, что ты чиста! Но дай тебе красоту, разве ты от нее откажешься? Дай тебе трудности, испытания, искушения, да не такие, какие ставит перед тобой твой добрый писатель, а житейские, настоящие; дай тебе большое, неутолимое горе всей жизни, и если ты и тогда останешься чистой, наивной, незамутненной, вот тогда мы тебе и поклонимся в ножки. А пока, извини, тебе кланяться еще не за что... Чистота и неведение ребенка не заслуга, а биологический факт. Ты пока и живешь-то еще, как трава...»
Вот так или примерно так возражает читатель.
В той же книге есть и другая особа женского пола. Красивая хищница. Львица. Автор отвергает ее красоту как нечто ненужное людям, непристойное. Только когда судьба наказала эту красивую женщину дважды и трижды, когда она под ударами судьбы была вынуждена наконец смириться, растеряв свою яркую прелесть, стала серенькой, неприметной, — только тогда он ее и простил. И даже искренне со стороны полюбовался: вот, мол, теперь ты действительно по-настоящему хороша!
Неужели же мы столь безоружны и так слабы душой перед женской красотой и перед красотой человеческого тела вообще, что должны эту красоту всячески унижать и «дезавуировать», придавать ей, подобно средневековым попам, какой-то нечистый, греховный смысл: «Что есть жена? Сеть прельщения человеков. Светла лицом, и высокими очами мигающа, ногами играюща, много тем уязвляюща, и огонь лютый в членах возгорающа... Что есть жена? Покоище змеиное, болезнь, бесовская сковорода, бесцельная злоба, соблазн адский, увет дьявола...»
Противопоставление стерильно чистенькой серости яркой, но «греховной» и «злой» красоте, на мой взгляд, происходит от бессилия постигнуть истинный смысл красоты, от утилитарного отношения к красоте, от внутреннего убеждения, что печной горшок, несомненно, полезнее Аполлона Бельведерского.
Красота как норма человеческого бытия, красота как физическое и нравственное здоровье была известна человечеству еще «с древних греков». Почему бы и теперь нам не обращать иногда своих взоров на великолепных телом, задумчивых, ясноглазых Диан, на красавиц муз, на Венеру Милосскую с ее умной и тонкой улыбкой? Извечное и вполне понятное стремление людей к равенству нельзя же утешить, утолить одним-единственным рассуждением, подцепленным опять же у тех самых средневековых попов, что «убогие блаженны»...
Борьба положительного и отрицательного начал у нас пока еще нередко превращается в борьбу красок: серых, тусклых, но «добродетельных» против ярких, чистых, пронизанных солнцем, но «грешных» и «злых». Это отнюдь не борьба характеров и, что самое грустное, не борьба интеллектов.
33
ЗОЛОТЫЕ ШАРЫ
И снова зима. Экзамены. И снова август. Последние числа. После летних каникул мы всегда приезжаем в Москву на несколько дней раньше начала занятий, чтобы успеть обежать все любимые улицы, музеи, бульвары, побывать на Ленинских горах, посмотреть оттуда, сверху, на ночную Москву, вдохнуть запах вянущих георгинов в Сокольниках, послушать Глинку, Чайковского, еще раз встретиться с Левитаном и Репиным.
У нас есть игра: прийти в Третьяковку и угадывать, где сегодня Врубель, и идти к нему без ошибки, не спрашивая. Или весь день посвятить Коровину. Или Крамскому.
— Если бы тебе разрешили взять отсюда какую тебе захочется картину, что бы ты взяла? — спрашивает меня Инна искушающим голосом Мефистофеля.
Я хожу из зала в зал и думаю: вот это. И это. Нет! Только вот это. Ведь нельзя несколько. Можно только одну.
Почему-то я всегда стою возле Крамского: «Неизвестная». Нет, сильнее всего «Неутешное горе». А может быть, этот заросший ряскою пруд, совсем как из моего детства. Зеленые тени. За рамками так и видишь степь в металлическом блеске луны. Тракторы. Седые чубы ковыля. И далекие огоньки из окон степного поселка.
Я знаю таких неизвестных, погибших на фронте, знаю, что такое неутешное горе: это женщина, верно, из того, знакомого мне степного поселка. А за окнами стужа, метель, и воет собака, и в пазах бревенчатых стен заводит свои деревянные часы домашний сверчок. После этой войны почти в каждом доме неутешное горе...
Я могу часами сидеть с книжкой на бульваре и смотреть поверх страниц на идущих мимо людей.
Вот ко мне приближается очень молодой светловолосый, очень пьяненький человек с охапкой желтых цветов, называемых золотыми шарами. Человек этот идет зигзагами, от скамейки к скамейке, подходит к сидящим, и каждому дает по цветку.
Я делаю вид, что читаю.
Поднимаю голову: он стоит возле меня. Улыбается осторожно, благожелательной улыбкой.
— Разрешите преподнести? — спрашивает мягким, застенчивым голосом. В глазах — сумасшедшинка. — Наши дамы говорят, что желтый цветок — измена. А я этого не понимаю. По-моему, это очень красивый цветок!
— Вы правы. Я тоже его люблю...
Человек весь расплывается в счастливой детской улыбке. Она делает красивым и добрым его рыхлое, серое, очень пьяненькое лицо. Человек вынимает из охапки самую пышную, многоцветную ветвь, усеянную, как маленькими солнцами, золотыми шарами, и протягивает ее мне.
— Это ж сама радость! — восклицает он. — При чем здесь измена? Вот чудáчки, ей-богу... Вы меня извините... Я ведь только... если вы, конечно, любите эти цветы!..
— Спасибо. Я очень вам благодарна, — говорю я, принимая ветвь, и шутливо спрашиваю: — А меня не арестуют с дареным букетом? — Я киваю на охапку: она слишком большая и слишком растрепанная, чтобы быть сорванной из собственного сада.
Он сразу все понял, закачал головой:
— Нет, нет! Это у нас в НИИ все дамы... отвергают этот цветок. Мы сами его сажали. Понимаете? Вот я и решил им всем доказать. А какая же это измена? — настойчиво спрашивает он, внимательно вглядываясь в мое лицо и чуть наклоняясь. — Красивый, хороший цветок... Все берут и спасибо говорят! А мне хочется сказать вам спасибо. Берете — и чувства мои разделяете!
И он пошел дальше нетвердыми шагами, от скамейки к скамейке.
Я больше уже не могу читать.
Я смотрю ему вслед и вижу его потертые брюки, его чуть сутулую спину, рубашку в полоску, с широким галстуком, грубые, стоптанные башмаки. Вижу, как он несет охапку цветов: словно ребенка прижимая к груди. И я беспричинно и весело улыбаюсь.
Какое, наверное, это счастье для поэта, актера, музыканта — работать так, чтобы люди, услышавшие или увидевшие тебя, улыбались. Чтобы они весь день улыбались. Чтобы весь день у них было хорошее настроение... Весь день, а ведь это немало...
А время бежит...
Мы становимся тише, спокойнее, меньше спорим и ссоримся: мы взрослеем.
Рита пишет стихи у меня в тетради: «Вы хотите сказать: пятый курс, значит, хватит восторгов, хватит петь и чудить, не пора ли нахмурить неюную бровь?»
Да, всему свое время. Мы уже кончили ниспровергать классиков и теперь постепенно начинаем опять устанавливать их на пьедесталах. Пушкин есть Пушкин. Лермонтов есть Лермонтов.
Нас влекут к себе строгие своды консерватории. Бетховен, Чайковский, Римский-Корсаков, Григ, Равель. Нам и в музыке хочется видеть глубокую мысль, чувства сильные, но без преувеличений.
Однажды всем общежитием отправились слушать Брамса. Идем бульварами, кидаемся снежками, хохочем. Кто-то вспомнил давнишние стихи немолодого уже поэта:
Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют — тоской изойду.
Мой спутник насмешливо засомневался:
— Обычнейшее поэтическое преувеличение! Поэты, они всегда так... Годами... Когда-нибудь... Ну, конкретно, когда? А вот если сейчас, например?
В консерватории множество народу. Толпа яркая, многоликая, шумная. Вошли в зал, и первый, кого увидели, — автор стихотворения. Он сидел, подперев подбородок рукой, и смотрел прямо перед собой, задумчивый, строгий, не улыбаясь: слушал Брамса.
34
ПИСАТЕЛЬ ПОПИСЫВАЕТ...
В стенах института мы много говорили о читателе. Какой он? Что он понимает? Уж так ли мы, молодые, оторваны от читателя? Мы говорим о широких массах, а втайне думаем о профессоре, или консультанте, или о товарище со старшего курса. Уж если ему понравилось, значит, здорово, и нечего там говорить: поймут — не поймут.
Мы, конечно, не подозреваем, что профессор или консультант, поставивший тебе в зачетке пятерку, дома в качестве противоядия читает на ночь Гомера и Пушкина.
Институтские опыты, какими смешными они кажутся теперь, когда смотришь на них со стороны! Но на профессора, поставившего пятерку, почему-то в душе нет обиды. Он был прав: он видел тебя будущего, грядущего. Он верил, что семена, посеянные в твоей душе, обязательно прорастут. За эти грядущие добрые всходы он и ставил пятерку.
Спасибо за его доброту!
Но у читателя нет и не будет к тебе доброты: он жаждет самой высокой литературной кондиции, и не завтра, а сегодня, сейчас, и не в будущей, а в этой твоей только вышедшей книжке.
Он ищет ответа на все вопросы, какие перед ним самим ставит жизнь. И если ты не можешь на них ответить, он отложит в сторону твою книгу, даже если она будет написана самым бархатным, раззолоченным языком.
Дай ответ!
Это прежде всего.
Со своим первым живым читателем я встретилась на Цимлянском гидроузле, среди грохота портальных кранов, лязга лебедок и воя циркулярной пилы. Это был инженер, не очень-то молодой, погруженный в заботы строительного участка, невыспавшийся, плохо выбритый. Он ворчал на свою треклятую жизнь: легче получить для участка лишний экскаватор, чем допроситься в столовой чистой вилки. На улицах Новосоленовска грязь и пыль. В магазине нет маек и трусов. В кино крутят старые, изодранные картины. Вечером после рабочего дня и тридцатипятиградусной жары некуда деться, негде взрослому человеку отдохнуть: на танцплощадке «валяют» одни польки да падекатры под баян, в парке — парочки, над берегом Дона — мрак, нет электричества, хулиганье...
Мы с ним знакомство начали с того, что отчаянно поругались. Потом подружились. Потом он водил меня по строительному участку и в конце пути, уже к вечеру, привел на эстакаду, показал на раскинувшуюся внизу совершенно «абстрактную», модернистскую, залитую кровью и золотом вечернего солнца картину строительства: огромные синие тени кранов, чернота котлована, голубые хризантемы электросварки на железных, геометрически изломанных стеблях, в вышине — зеленое облачко...
— Кто об этом напишет? — спросил он меня. — Какая Анна Каренина завтра бросится под мотовоз, под бадью с бетоном? Ведь это же размах... один размах чего стоит!.. Мы кое в чем все еще скифы — и мы первые на земле построим светлое царство... Где ваши книги об этом?
Потом мы шли по темным улицам Новосоленовска, и он допрашивал меня строго, с пристрастием о новых романах, о новых стихах, написанных молодыми и еще не прочитанных им. А надо сказать, он читал все; все, что выходило: и в газетах, и в толстых и тонких журналах, и в отдельных изданиях.
— А какие романы вам нравятся? А какие стихи вы любите?
Он читал все новинки литературы. Даже меня.
Он сказал:
— Пишите правду. Правда есть правда. Она не голая, не святая, и прочее. Эпитеты тут не помогут. Она есть просто правда. Натурализм — это даже не суррогат ее; он так же далек от природы, как и простая, откровенная ложь.
Мы скоро расстались. Кончилась моя командировка, и я уехала в Москву. Потом я слыхала: этот инженер строил канал в пустыне. Потом возводил теплоэлектроцентраль в Прибалтике. Потом уехал на Волго-Балт. Где он теперь, я не знаю. Но когда я пишу или читаю чужую хорошую книгу, я всегда вспоминаю его, своего первого читателя. Я пишу для него. Впрочем, как и для свинарок одного воронежского колхоза, с которыми мы долго разговаривали о литературе. Меня поразило тогда, как много они читают. И для парторга одного целинного совхоза — с ним мы ездили по полям на Алтае. Сейчас в этом совхозе образцовое хозяйство, двухэтажные и трехэтажные городского типа лома, великолепные ремонтные мастерские, магазины, Дом культуры, столовая, баня, школа...
Я пишу и для первого своего комбата, внешне угрюмого, очень доброго человека, который читал нам у костра в подмосковном лесу:
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв...
Кажется, что общего между боями за Рузу и стихами об «изысканном жирафе»? А я это воспоминание берегу как самое дорогое из пережитого на войне.
Мне кажется, печальная песня Суркова «Бьется в тесной печурке огонь...» для победы над врагом сделала гораздо больше, чем многие другие бодряческие стихи, вместе взятые.
Читатель и писатель. Мы крепко связаны одной общей нитью.
Мне хочется думать, что мои читатели все сплошь, поголовно, хорошие люди. Для них и пишу.
Если бы я могла и умела молиться и если бы на небе был бог, я молилась бы богу каждое утро и каждый вечер и все об одном: «Боже, наставь меня! Научи написать мою лучшую книгу, чтобы каждый в ней черпал для себя то, чего ему в жизни не хватает. Дай мне силу слова! Боже, будь милосердным и избавь меня от сомнений и лени и заставь меня трудиться все двадцать четыре часа, ибо жизнь коротка, а добрую половину ее я уже пустила на ветер. Помоги мне, о господи, укрепиться разумом и сделать мое неженское дело очень твердой, мужскою рукой!»
И еще я просила бы:
«Боже, научи меня видеть будущее нашей земли. Мы размениваем на мелочи зеленую и голубую нашу планету, мы растрачиваем сердца, ожесточая их в спорах, мы уже отравили и небо и землю, и теперь остается лишь бросить друг в друга по маленькой бомбе, несущей смерть всем, и правым и виноватым...
Как жить на Земле?»
35
Я ТАК ОШИБАЛСЯ, Я ТАК УШИБАЛСЯ...
Годы принесли мне разлуку со всеми, с кем я когда-то росла, училась, ходила в бой. Но мой окружающий мир и теперь населен очень плотно: мне дороги все незнакомые люди, далеко не друзья, они стали во многом близки и понятны, я плоть от их плоти и кровь от их крови. Все стоящее между нами я могу уловить и постигнуть простой, доброй мыслью.
Я все больше и больше люблю не шумные, яркие весны, а осень и зиму — время сложных, больших размышлений и большого труда. Все печальное сглаживается, растворяется, как в тумане, и даже отдельные промахи и неудачи не отнимают уже убежденности в том, что дорога, хотя тяжела и крута, приведет меня не к обрыву над пропастью и не в болото, а в широкое поле с родными просторами.
Я на лекциях записываю в конспектах: «Несчастье никогда не событие, а длинная жизнь, которая утратила все признаки счастья, не изменившись внешне». Это сказано кем-то, по-моему, о Толстом. А я думаю о себе! Моя жизнь, нисколько не изменившись внешне, приобрела все черты большого, глубокого, неизменного счастья, растворенного в воздухе, как кислород, и я дышу им глубокими полными вдохами, я готова теперь повторить вслед за поэтом:
Принимаю тебя, неудача,
И, удача, тебе мой привет!
Говорят, мы живем для детей. Что мы повторяемся в своих детях.
Покажите мне, в ком повторились Пушкин и Лермонтов?..
Нет, мы рождаемся заново лишь в собственных произведениях, в книгах, выношенных годами, с болью в сердце, в этих маленьких, бледных наших наследниках.
Вот и Пушкин свидетельствует об этом же:
Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.
Да, пока я была только лишь читателем чужих книг, я испытывала одно-единственное удовольствие — познание неизвестного, чувство счастья от красоты и гармоничности фразы. Но как только я стала писать сама, я как будто бы обрела власть над временем и действительно стала бессмертна. Теперь на листе бумаги я могу все сызнова пережить — свою юность и детство, снова ехать на фронт, снова думать в землянке о редких, идущих из Воронежа письмах. Досказать то, чего не сумела сказать товарищу прежде. Додраться. Додумать. Те самые аргументы, какие тогда не нашлись в пылу разговора, теперь пришли в голову, и я могу их надменно выложить перед онемевшим (по моей же воле) собеседником.
Черно-белое колдовство пера и бумаги... Так все просто: чернила, тетрадка. И так сложно, неповторимо, так мучительно индивидуально: как смерть. Попробуй-ка передай этот опыт: умереть — и воскреснуть!
Здесь не действует логика: «Я ошибся. Бывает, и великие ошибаются. Следовательно, я — великий». Здесь такая формула не подходит.
Не завидую вам, кто выходит на эту тропу!
36
НЕЛЬЗЯ ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ
Нельзя втиснуть в несколько страничек бумаги всю нашу жизнь за пять лет — и какую жизнь!
Я ничего не сказала о переделкинском периоде, когда часть ребячьего студенческого общежития перевели в Переделкино и наши мальчишки были вынуждены срочно вооружаться материалистическим взглядом на природу, дабы ночью, сокращая дорогу, ходить через кладбище. О том, как санитарная комиссия приезжала проверять у них в комнатах чистоту и как эту комиссию заперли в холодную кладовую до той поры, пока она не передумает и не выставит отличную оценку за эту самую «чистоту»...
О том, как нас рассылали по всей стране в творческие командировки и как мы вчетвером, Инна, Володя Солоухин, Семен Шуртаков и я, ездили на Кавказ. Мы побывали в Орджоникидзе — там читали стихи на вечерах в городском парке, потом проехали по Военно-Грузинской дороге. О том, как мы жили в Тбилиси и первую ночь ночевали в стоге сена, на сухом, колючем осоте, а вторую — в роскошных номерах гостиницы «Интурист». Как нас обсчитали, как мы обсчитали. Как мы доставали билеты на городской железнодорожной станции. О, это, впрочем, целая баталия! Как ехали в Поти, в город груш, платанов и лягушек, славный город Квакенбург. Как мы бродили по потийскому базару. Как купались в море и сожглись на солнце...
Все было: тропический ливень, сорванное выступление из-за некой тети Моти в порту и на мелькомбинате, Лолуа, который просил нас приезжать, и пароход, опоздавший на двенадцать часов...
Потом белизна сухумских дворцов и зелень пальм на берегу синего залива, пружинящая спираль шоссе на Сочи, солнце, слепящий блеск волн, кремнистая пыль, покачивание автомобиля. Раньше об этом мы только читали в книжках из жизни «князей» и «графьев» и не верили. А тут все можно потрогать рукой, чтобы убедиться в реальности происходящего. Володька Солоухин, в белой рубашке, с облупившимся носом, жует грушу «дюшес» и говорит:
— А ведь это похоже на нашу «Корчму»...
И мы смотрим в ту сторону, куда он показывает. Там глубокое ледяное ущелье, черно-синие тени, белая плесень сырости. «Корчма» — так мальчишки звали свою половину подвала на Тверском бульваре. Подвала, в котором теперь никто не живет.
Многое можно было бы рассказать.
О том, как мы в оставшиеся дни каникул без копейки в кармане летали на самолете в Минск выступать со стихами — и не пропали, а только лишний раз убедились, что в нашей стране человеку невозможно пропасть. Везде его приютят и накормят.
Как мы работали агитаторами на участке во время избирательной кампании.
Как шефствовали над заводом...
Как...
Единственное утешение, что меня кто-нибудь обязательно дополнит, доскажет все то, что я не досказала.
Ведь нас много, «детей Львова-Иванова», рассеяно по свету. И каждый хранит в памяти немало занятного и поучительного.
37
МЫ КОНЧАЕМ НАШУ ПЯТИЛЕТКУ
Пятый курс — время свадеб и расставаний.
Как ни тянулись долгие пять лет, но и они пролетели, и не крикнешь им: «Остановись!»
Это был очень торжественный день — наш последний день в институте.
Мы, нарядные и взволнованные, прощаемся с нашим милым «домом-музеем», где к нам были так внимательны, где так бережно растили нас и учили, где нас ценили таких, какие мы есть сами по себе, еще ничего не заслужившие и не напечатавшие...
За столом президиума — Константин Михайлович Симонов, Василий Николаевич Ажаев, Василий Александрович Смирнов, Евгений Аронович Долматовский, Михаил Кузьмич Луконин, наши преподаватели, заведующие кафедрами, творческие консультанты, руководители семинаров.
Кто-то выступает, произносит речь.
Сейчас будут вручать дипломы.
Рядом с нами сидит наш добрейший Василий Семенович Сидорин, заместитель директора института. Мы с ним обсуждаем вдруг возникший вопрос. Нельзя же уходить отсюда без выпускного вечера, без прощальной застольной беседы! Но где взять денег? Союз писателей, конечно, не расщедрится на такое крамольное, несолидное дело...
Но мы привыкли верить в спасительную силу коллектива.
— Может, складчину устроить?
— Идея! А что ж...
Василий Семенович советует обратиться к присутствующим на выпуске писателям.
— Ну, к ним обращаться надо только в стихах! — говорит Рита.
— Пишите скорее...
Потихоньку мы удираем из зала и садимся втроем в узком маленьком кабинетике с надписью «Кафедра творчества». Обычно здесь «творились» только планы, отчеты и инструкции.
Рита говорит:
— Пусть хоть напоследок оправдает свое название...
За стеной, как штормовое море, гудит зал. Там продолжается торжество, гремят аплодисменты, слышится чей-то взволнованный голос.
Нам нужно спешить, чтобы и самим успеть получить дипломы из рук Константина Михайловича Симонова.
Первая строчка пришла откуда-то из старых стихов. За нею родились новые, остальные:
Исписав в линеечку и клетку
Не одну учебную тетрадь,
Мы кончаем нашу пятилетку
На Тверском бульваре, 25.
Старшие прозаики, поэты!!!
Приглашаем вас на выпускной,
Но... ввиду того, что денег нету,
Тут же прилагаем подписной...
Отпечатав на машинке одним пальцем наше последнее коллективное творение, мы бежим в зал. Там у дверей уже волнуется Сидорин. Мы отдаем ему стихи, а сами садимся в уголок, чтобы не были видны наши раскрасневшиеся, смущенные физиономии. Белый листок, как лебедь, поплыл к президиуму, раскрыл свои белые крылья, и сидящие за столом заулыбались. Все дружно полезли в карманы и долго и старательно вписывали свои фамилии и цифры с нулями. А когда листок, обежав наших гостей, вернулся к нам, в кассе выпускного вечера была уже довольно солидная сумма.
Но вот и у нас на руках синие книжечки с гербом Союза Советских Социалистических Республик: свидетельства об окончании «единственного в мире» института.
Ничто не проходит даром: ни шутка, ни семинар, на котором тебя публично «высекли», ни пародия, написанная во время перерыва, ни лекция, о которой ты будто бы уже и забыл.
Нас воспитали не ленивцами, не стяжателями. Среди многих хороших традиций нашего отчего дома есть одна, самая лучшая: быть всегда там, где труднее. Быть вместе с народом. Наш диплом дает право не на славу или деньги, а на трудную творческую жизнь, на вечные поиски и неудовлетворенность собой, на великие, радостные и страшные муки — муки слова.
«Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает», — говорит Лев Толстой.
«Горите, сгорайте, не беда, что вы раньше других опадете, как мои яркие, красные листья, — шелестит институтский клен. — Дарите людям радость и красоту!»
Первой нашей школой была война.
Второй — институт; небогатый, кипевший страстями, наш Дом Герцена.
Третья школа нас ждала впереди — это труд, самостоятельный труд, самый лучший, великий учитель. Только он дает право называться писателем.
1959
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





