ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
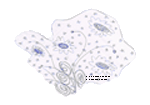


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Шаховская Зинаида 1975
Тише, тише, тише, век мой громкий,
За меня потоки и потомки.
Сидя как-то у меня в Брюсселе, Марина Цветаева взяла в руки «Якорь» — антологию зарубежной поэзии и, найдя в ней свои стихи, сперва поставила знак ударенья в последней строфе своего стихотворения «Заочность» на слове «для», на полях отметив «НВ! отделить», а затем приписала под стихотворением «Роландов рог» это двустишие:
Тише, тише, тише, век мой громкий!
За меня потоки и потомки... —
и подписалась Марина Цветаева. И нет, пожалуй, лучшего эпиграфа для моих воспоминаний о ней.
Узнала я имя Марины Цветаевой, прочтя в 1929 году (было мне 16 лет) ее юношеское стихотворение «К вам всем, кто мне, ни в чем не знавшей меры, чужие и свои». Не лучшее, конечно, из цветаевских, но очень мне понравившееся. Затем в 1926 году в журнале «Благонамеренный», издававшемся моим братом в Брюсселе, были напечатаны ее стихотворение «Марина» и ее статья «О благодарности», и опять все понравилось. А во втором и последнем номере «Благонамеренного» Марина Цветаева в статье «Поэт о критике» высказывала горькую обиду на Георгия Адамовича, не оценившего присланного на конкурс «Звена» ее стихотворения. В сущности, по молодости лет мне трудно было разобраться, кто из них прав: поэт или критик, но на Марину Цветаеву обрушились такие потоки брани в зарубежных газетах, что инстинктивно обиделась я за поэта. Как-то выжили у меня среди прочих вырезок того времени две статьи, одна из «Возрождения» (№ 338) и называется «О пустоутробии и озорстве». Автора не знаю. Цитирую только одну фразу: «Но уныние вызывает у меня и то, что пишет г-жа Цветаева. И то, и другое огорчительно не потому, что бездарно, а потому, что совсем не нужно». Еще хуже фельетон Александра Яблоновского «В халате», где Марина Цветаева приравнена к Вербицкой: «Она приходит в литературу в папильотках и в купальном халате, как будто в ванную комнату вошла» и т. д. И все это мне вспомнилось, когда в 1938 году, уезжая навстречу смерти в СССР, Марина Цветаева в последний газ посетила нас в Брюсселе и сказала со вздохом: «Некуда податься — выпихивает меня эмиграция».
Но об этом потом. Двойственность моей литературной жизни, с перевесом на Францию, и подвижность моего существования вносили в мои встречи с русскими писателями элемент не постоянства, а случайности. И не так уже много раз встречалась я с Мариной Цветаевой. Думаю, впервые видела я ее в начале тридцатых годов. Она была не намного старше меня, всего на 15 лет, но казалась мне отдаленной во времени и вообще совсем особой, ни на кого не похожей. Скажу даже, ни один из самых знаменитых писателей, русских или иностранных, в личном обращении не вызывал во мне такого трепета, а иногда и священного ужаса... Как будто она жила совсем в другом плане, чем все, парила на каких-то высотах, ходила по каким-то вершинам, совершенно не замечая «плена земли», тяжести быта. Стихи Пушкина
...Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон
В заботы мелочного света
Он малодушно погружен
никак не подходили Марине Цветаевой. Я никогда не видала ее погруженность «в заботы мелочного света», только нагруженной ими, как она сама пишет в одном из своих писем. Руки ее штопали, чистили, мыли, душа же оставалась свободной, а ум парил в высотах. И душа ее никогда не вкушала «сладкий сон».
Поэтому и дружбы настоящей между нами не было — но было какое-то внутреннее доверие, которое ее заменяло.
В юности настолько я была взволнована, поражена стихами Цветаевой, что даже, в Брюсселе, пыталась писать под нее, пока не поняла, что всякое «под» — дело фальшивомонетчиков, иногда талантливых, но никогда не подлинных.
По странной случайности я никогда не видела Марину Цветаеву вместе с каким-нибудь членом ее семьи. Я встречала Сергея Ефрона без нее, а Марину Цветаеву всегда видела одну, без мужа, без сына, без дочери, поэтому она мне и предстоит всегда в предельном одиночестве и явной безземельности.
В Марине Цветаевой чувствовалась обреченность, рок тяготел над ней несомненно, но в ней ощущалась также и удивительная жизнеспособность, не в материальных вещах, конечно, но как воля, стремление к жизни, крепкие земляные корни, любовь к существованию — т. е. в ее случае, к творчеству на «земле живых». В противовес Поплавскому, она, вопреки страшной своей кончине, самоуничтоженья не искала. Рок раздавил ее, лишив возможности жить — творить.
Вижу Марину Цветаеву в ее нищенской квартире в предместье Парижа, Ванв. Стоим на кухне. Марина Цветаева почему-то варит яйца в маленькой кастрюльке и говорит мне о Райнер-Марии Рильке. Я, зачарованно, слушаю неповторимый ритм и неповторимое содержание ее речи, но вот ничего не помню о Рильке. Помню только лицо Марины Цветаевой и эти самые высоты, на которые она меня влекла с такой неудержимой силой, не зная, что следовать за ней я не могла. И обыденность, конечно, сразу отомстила за презренье к ней: вода в кастрюлечке выкипела до дна, яйца не сварились, а спеклись и лопнули, алюминий же прогорел...
Меня, конечно, удивляло, как водопадная Марина Цветаева могла любить и ценить ручейкового автора Орленка и Шантеклера, Ростана, или Анри де Ренье. (Менее удивительна была любовь Замятина к Анатолю Франсу, писателю стиля изящного и совсем не серапионовского, но ирониста, атеиста и скептика, как сам Замятин).
Думаю, что, хоть о вкусах не спорят, все же отчасти разница оценок объясняется не так разницей поколений, как эпох, в которые мы выросли.
Помню, стоял и сундук какой-то, напоминающий и Россию, и беженскую судьбу. А за окном томительно-грустный пейзаж пригорода, серость, сырость, дождь. Я замечала это, замечала ли Марина Цветаева?
Помню выступления Марины Цветаевой то в Париже, то в Брюсселе, на улице Конкорд. Зал никогда не ломился от публики, народной любовью Марина Цветаева не пользовалась — но приходили. Она в скромном, затрапезном платье, с жидковатой челкой на лбу, волосы неопределенного цвета, блондинистые, пепельные с проседью, бледное лицо, слегка желтоватое. Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках. Глаза зеленые, но не таинственно-зеленые, не поражающие красотой, смотрят вперед, как глаза ночной птицы, ослепленной светом, Так, явно не видящая тех, кто пришел на нее посмотреть или ее послушать, Марина Цветаева читает свои стихи, громко, скандируя слова, подчеркивая ударенья, как бы бросая вызов кому-то, и нисколько не заботясь о том впечатлении, которое она производит. Я не встречала никого, из выступающих перед публикой, более свободного от желания понравиться. Так, утесом стояла Марина Цветаева на своем возвышении, бросая свои заклинания, шла напролом, рубила сплеча, а потом как-то по-мужски кланялась тем, кого продолжала не видеть, погруженная
В себя, в единоличье чувств
Камчатским медведем без льдины...
Как странны упреки, высказываемые при жизни Марины Цветаевой в неестественности ее стиля, ее подбора слов. Она и говорила как писала, как жила, тем же ритмом, ей принадлежащим, т. е. для нее предельно естественным. Высокое косноязычие было ей отпущено, как и Мандельштаму. Я знала заумных поэтов, и русских, и иностранных, но деловые или частные письма они писали вполне понятно, обычным, бытовым языком — а вот каждое письмо Цветаевой, даже наспех набросанное, всегда «цветаевское», никогда не обычное.
В частной жизни тоже было у Марины Цветаевой полное отсутствие женского шарма, несмотря на то, что с любовью была знакома, была подвержена ее закону, способна на молниеносные ее радости и трагедии, в которые бросалась опять напролом, не разглядев объекта; в любви или дружбе наделяя простых смертных тем, что хотела видеть в них, то есть, собственной сутью. А кто мог, кто смел жить на ее крутизнах? Может быть одно из самых ярких тому примеров — ее стихотворение «Попытка ревности». С каким, вероятно, облегчением тот, думая о ком она его написала, обратился от вдохновенной Лилит к самой обыкновенной женщине... Позднее ей казалось, что нашла она родственную ей душу в молодом поэте Николае Гронском, трагическая смерть которого была для нее, увы, не последним тяжелым ударом.
В ее сношениях с другими трагическим было то, что и в зрелом возрасте она на всякого другого прожектировала свой собственный свет, как влюбленная девушка в стихах у Алексея Толстого:
То жизни луч из сердца ярко бьет
И золотит лаская без разбора
Все, что к нему случайно подойдет...
И вот всегда предлагала, даже навязывала свою дружбу, свою любовь.
Да, как жадно искала она в других (может быть и во мне) того верного, а главное, созвучного друга, своего alter ego и ясно, не находила.
За князем род, за серафимом сонм,
За каждым тысячи таких, как он...
И продолжала трубить, одновременно в безнадежности и в надежде, в Роландов рог:
Одна за всех — из всех — противу всех
Стою и шлю, закаменев от взлету
Сей громкий зов в небесные пустоты.
И сей пожар в груди — тому залог
Что некий Карл тебя услышит, Рог!
И услыхали Карлы, но посмертно...
Что помню еще о Марине Цветаевой? Того, что можно назвать «бабьим», в ней не было ни крошки. Ни хитрости, ни лукавства — и сплетничать не умела (это «бабье» присуще и многим мужчинам). Бороться и восставать, это она умела, но предавать физически не могла. Верность ее была верностью дамасской стали. Я видела ее в 1937, когда в связи с делом об убийстве троцкиста Игнатия Рейса в швейцарской санатории, Сергей Ефрон, давно уже замешанный в советской организации «Союз возвращения на родину» и приложивший руку к советизации газеты «Евразия» был разыскиваем полицией. Ефрон скрылся — Марину Цветаеву допрашивали. Она рассказала мне о допросе. Запомнился мне ее, чисто цветаевский ответ следователю, когда тот привел ей доказательство о причастности Ефрона к преступлению: «Sa bonne foi a pu être surprise, la mienne en lui reste intacte» [«Его доверие могло быть обманутым, мое доверие к нему непоколебимо».]. И так было это, вероятно, сказано, что несмотря на бесправность ее беженского положения, Марину Цветаеву оставили сразу же в покое, очистили от подозрения в каком-либо сообщничестве.
В другом плане, но все о том же врожденном, «подкожном» ее благородстве. Марина Цветаева была вольнолюбица и по существу демократка. Помню, в Брюсселе, идя с ней в зал, где было ее выступление, мы столкнулись с двумя рабочими, несшими какие-то ящики, и сейчас же, сторонясь и отстраняя меня, уступая дорогу, Марина Цветаева громко, несколько нарочито-программно сказала: «Дорогу труду!» Но несмотря на народность свою, а может быть именно из-за нее, Марина Цветаева никогда не попыталась лягнуть демократическим копытом поверженных мира сего, на падших не наступала — уважая их несчастье и то, что в истории с ними связано, пример этому — ее статья «Открытие музея».
О чем бы она ни писала, ко всему относилась серьезно, юмора не знала, собственно, и я не помню, чтобы я когда-нибудь смеялась вместе с нею. О религии или вере в Бога мне не пришлось с ней говорить, но я была ей благодарна за то, что никогда не прочла у нее ни одной строчки, которая показалась бы мне оскорблением моей веры. Для нее — Поэт «никогда не атеист, всегда многобожец, с той только разницей, что высшие знают старшего... Большинство же и этого не знает и слепо чередуют Христа с Дионисом, не понимая, что уже сопоставление этих имен — кощунство и святотатство».
И вот этого-то святотатства Марина Цветаева никогда не совершала, инстинктивно зная сравнительность ценностей.
- - -
1938 год. Начало конца Марины Цветаевой. Много событий в западной Европе, свидетельницей, а иногда и участницей которых я была, с тех пор заслонили от меня предвоенное время, но, если не ошибаюсь, путь Марины Цветаевой на родину, в ту самую Россию, которая пожирает как «глупая чушка своих детей», шел через Брюссель и Варшаву.
Воспоминания, повторяю, смутные, но без каких-то оснований они бы не существовали. Мне кажется, что именно Брюссель был последней остановкой Марины перед ее возвращением в СССР.
Я сказала ей (это помню твердо) в ответ на ее слова: «Ничего не поделаешь! Выпихивает меня эмиграция!» — «Марина Ивановна, подумайте, живя за границей, вы можете еще мечтать, что где-то в России вам будет хорошо — а приехав туда и мечтать будет больше не о чем, и не на что надеяться. Ну, как вы с вашим характером, с вашей непреклонностью можете там ужиться?»
На это Марина Цветаева ответила: «Знайте одно, что и там буду с преследуемыми, а не с преследователями, с жертвами, а не с палачами». Этого она могла бы и не говорить. Я твердо знала, что на компромиссы пойти ей было физически невозможно. Гордость защищала ее от двуязычья и даже под ножом не сказала бы она похвального слова Сталину.
С каким чувством покидала Марина Цветаева Францию? В 1950 году поэтесса Алла Головина, видевшая ее в Париже перед отъездом, сказала мне, что спросила ее, не будет ли она жалеть о Франции и о Париже. Марина Цветаева ответила экспромтом:
Мне Франции нету милее страны
И мне на прощание слезы даны.
Как перлы они на ресницах висят.
Дано мне прощанье Марии Стюарт.
А дальше, что было дальше! Едва уехала Марина, как кто-то сообщил мне о гибели Сергея Ефрона, о том, что его будто бы расстреляли, ликвидировали, как обычно всех тех, кто принимает участие в преступлениях режима. И вот тут-то, видимо, был у меня какой-то адрес друзей в Варшаве, у которых Марина Цветаева должна была остановиться. Может быть телеграмму я послала Льву Гомолицкому, с которым была в переписке, но Марину Цветаеву в Варшаве ни эта весть, ни моя телеграмма не застали. Повторяю, эти данные я проверить не могу, нет возможности, но мне помнится, что было именно так.
Тише, тише, тише, век мой громкий
За меня потоки и потомки...
Так и остался, и живет во мне образ русского большого поэта, Марины Цветаевой, поэта, обреченного, как и многие другие русские поэты, на тяжелую судьбу, на мученический конец. И карарский мрамор перемалывают жернова истории...
Напечатано в «Новом Журнале» № 7
июнь 1967 г. Нью-Йорк
ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
В письмах Марины Цветаевой, печатающихся здесь, речь идет о ее французских рукописях. Они так до меня никогда и не дошли, кроме ее пушкинских переводов, любезно присланных мне в 1966 году О. Н. Вольтерс. Желание найти заработок своим ремеслом, хотя бы и на чуждом языке, вероятно, побудило М. И. к этому и, насколько мне помнится, сперва она предложила «Лэтр» издательству Галлимар в Париже, но в этом издательстве об этом не помнят.
Переводы ею Пушкина лучше многих, появившихся во Франции, но, конечно, и в них отсутствует то неповторимое, цветаевское, что присуще ее русским произведениям. Думаю, что немецкая литература и поэзия были ей более сродни, чем французская, да и сама она в этом признается: «У нас с Францией никогда не было родства. Мы разные...»
Vanves (Seine), 65, Rue J.-B. Potin
18-го мая 1936 г., понедельник.
Милая Зинаида Шаховская, очень рада буду встрече в «Журналь дэ Поэт» [Бельгийское изд-во и периодический журнал (директор Поль-Луи Флукэ), в котором я сотрудничала.] — поблагодарите Вивье [Роберт Вивье, бельг. поэт.], — но визы нынче, 18-го, у меня еще нет. Все же надеюсь не позже пятницы быть в Брюсселе и, выехав ранним поездом, к поэтам поспею. Виза может быть и завтра, тогда поеду в среду, 20-го.
Очень глупо — сидеть и ждать и знать, что ничего не попишешь, — закон, а он, если захочет, меня вдребезги.
До свиданья, сердечное спасибо за память.
М. Ц.
- - -
Открытка (два медведя в Зоологич. парке Венсен, в Париже).
Ванв, 28-го мая 1936 г.
Дорогая Зинаида Алексеевна,
Дошло ли кольцо и как пришлось? [Присланное мне М. Ц. кольцо, серебряный перстень с кораллом, подаренный мною впоследствии Владимиру Смоленскому.] Ждала с ним до последней минуты — хотелось с пальца на палец. Мои «Лэтр» через неделю-десять дней попросите у О. Н. Вольтерс, а если их еще нет, попросите, чтобы она напомнила вернуть. (Они у господина, которого зовут Люсьен, дальше не знаю). И потом непременно напишите впечатление [Ни одна из рукописей М. Ц. ко мне не попала. Неизвестный Люсьен не откликнулся. В 1966 г. О. Н. Вольтерс любезно прислала мне машинопись переводов Пушкина. К несчастью, я не получила их в эпоху составления небольшой юбилейной Пушкинской антологии, выпущенной мною в изд-ве «Журналь дэ Поэт» в 1937 г. при участии проф. М. Л. Гофмана, В. Вейдле, Г. Струве, с неизданными переводами ряда бельг. поэтов, В. Набокова и моих.].
Сердечный привет от нас с Муром.
М. Ц.
- - -
(Открытка — два льва, прижавшись друг к другу.)
5-го июня 1936 г., пятница.
Милая Зинаида Алексеевна, — а вот Вам другая пара, и, верьте мне на слово: они страшно похожи — по благородству и сиротству — на Бальмонта с Еленой: на Елену с Бальмонтом («О, Елена? Елена! Елена! — Ты красивая пена морей» — 35 лет назад сказано, а живо в нем — и посейчас).
О рукописи, хотя она на машинке, — дайте ее прочесть, по собственному прочтению, кому нужно из «Журналь де Поэт». Мне очень хочется издать ее отдельной книжкой, но так как на книжку — мало, у меня есть еще другая однородная, физически меньшая. Та и эта дали бы томик, вроде «Проз д'Анфан» [«Детская проза», сборник изд. «Журналь дэ Поэт», понравившийся М. Ц.]. Ту вышлю.
Можно Вас попросить передать при случае прилагаемую открытку Ольге Влад. Орловой? [Русская художница, жившая в Брюсселе, умерла после Второй мировой войны.] Спасибо заранее!
М. Ц.
- - -
(Вторая открытка, вложенная в тот же конверт, изображающая двух белых медведей: «а вот Вам еще другая пара»).
Вам, когда Ваша редакция отчитает «Лэтр» и как-то выскажется... Словом, буду ждать Вашего ответа. И личного отзыва — независимо от возможностей издания о «Лэтр» как Вам «пришлось»? На 50-летнем юбилее Ходасевича видела весь Монпарнас, — и милее, живее всего — женщины: очевидно, по живучести в них души. Подарила Ходасевичу хорошую тетрадку «для последних стихов» — может быть — запишет, т. е. сызнова начнет писать, а то годы, — ничего, а — жаль.
Один из пишущих, узнав, что я из Брюсселя, сказал: «А Шаховская там в роли Рекамье?» Я: — «Не заметила. Она просто очень любит литературу — и очень серьезно работает». Тогда тот — перестал.
До свидания! Жду весточки. Вашим поэтам — привет.
М. Ц.
Привет Петру в овраге [Все русские поэты и писатели, побывавшие у нас в Брюсселе, приводились в заброшенный овраг Королевского парка, где почему-то находится бюст Петра Великого. Неподалеку от него — каменное изваяние лежащей в гроте женщины.].
- - -
Ванв, 22 июня 1936 г., понедельник, жара.
Милая Зинаида Алексеевна,
Оба перевода давно готовы, сейчас они на рассмотрении у Поля Буайе [Поль Буайе, профессор, известный славист.] — моя мечта, чтобы он дал мне весь Пир во время Чумы, — что значит «дал»? А то, чтобы потом — взял, ибо переводить себе в тетрадку — окончательный люкс... и глупость.
Переводы хороши, и таковыми останутся, если даже Поль Буайе не одобрит. Нет ли еще чего-нибудь — для того же сборника, или для «Журналь дэ Поэт», м. б. они захотят (по прочтении Песни и Пророка) чего-нибудь пушкинского — в моей транскрипции? Отзывайтесь скорее — тогда сразу вышлю — мне всегда в фактическом осуществлении сделанного нужен стимул. Кроме того, я скоро уезжаю — и оттуда (пока что неизвестно откуда, все ближайшие дни буду смотреть по окрестностям) труднее будет: деревня, почты нет, почтальон потеряет и т. д.
Запросите О. Н. о моей рукописи. Дело в том, что я тому господину, который так хорошо меня слушал, которому я потом «на перемене» рассказала моего «Молодца» и которому, в конце (очень быстрых) концов, дала свои «Лэтр», он не пишущий, но чудно читающий, дело в том, что я этому господину (его зовут Люсьен, это приятель О. Н.) написала — и он мне (как столько господинов и так мало господ! в моей жизни) не ответил — и я больше писать не могу. Почти всегда писала первая и НИКОГДА — вторично.
Хорошо бы эти «Лэтр» — выручить, ибо человек, который может не ответить на письмо, может и потерять рукопись, — кроме того, мне очень хочется, чтобы Вы и Ваше окружение их прочли. Я мечтаю, если они понравятся, набрать денег и напечатать их, с еще одной небольшой вещью как раз выйдет томик, в Вашем издательстве, а то все это на мне лежит.
Но той вещи не могу Вам послать раньше Вашего и общего отзыва на «Лэтр», ибо — если они не подойдут, то и она не подойдет: вся я не подошла. Бывает.
Спасибо за стихотворную открыточку: чувство — близко, и вид (по-иному) — тоже.
О. Н. не пишет, на ней бремя дома.
На мне тоже — и может быть пущее — ибо все — моими руками! Я — целые дни стираю и штопаю — но это во мне немецкая механика долга, а душа — свободна и ни о чем этом не знает: еще не пришила ни одной пуговицы!
Обнимаю Вас и жду отзыва.
М. Ц.
Как только напишете, перепишу и вышлю обоих Пушкиных.
- - -
Moret-sur-Loing (S.-et-M), 18, rue de la Tannerie,
chez Mme Vve Thierry
9-го июля 1936, четверг.
Милая Зинаида Алексеевна, как видите — я уже на воле, а именно: в чудном старинном городке под Фонтенбло. Быт устроен, т. е. по возможности устранен, а для души — непосредственно над головой — две химеры: Мурина и моя (поделили) — ибо живем непосредственно за церковной спиной. Я сюда приехала, чтобы беспрепятственно работать, т. е. переводить Пушкина — лучшие стихи, невзирая — переведены ли уже, или нет, ибо я ни одного перевода не знаю, да и знала бы — не слушала бы.
Хотите — чтобы я с этим осенью приехала в Бельгию, т. е. с вечером моих переводов — предисловие. Я серьезно запрашиваю. Давать заочно мои стихи мне бы не хотелось — и вот почему: у меня много вариантов, и Ваши поэты из «Журналь дэ Поэт» мне м. б. помогли бы утвердить лучший (беда, что один другого лучше: один — подражательно ближе, другой французски — или образно — лучше, вообще хорошо бы посоветоваться — устно, по горячему следу первого впечатления).
Пока сделаны: Когда могучая зима — Пророк — Для берегов отчизны дальней — К няне — и сейчас идет, именно волнами идет! Свободная стихия (К морю). Но я хочу — целый сборник: все, что есть лучшего. Посмотрим, что успею за лето.
Как Вы думаете, есть ли надежда приехать с этим в Брюссель, т. е. с рядом стихов и с словом о Пушкине. Т. е. наработаю ли я на поездку (паспорт у меня есть).
Что будет с самой книжкой — не знаю: я могу дать бесплатно несколько стихов, я вообще бы с радостью работала бесплатно — если бы государство — или к.-н. меценат мне бы оплачивал мое скромное существование, но пока — это мой единственный источник существования, а напечатай я пушкинский сборник в Из-ве «Журналь дэ Поэт», не только ничего не дадут, а еще приплачивать нужно, — за много месяцев непрерывного труда... Но обещанное в Ваш сборник — дам.
Дальше: всего Пира переводить не буду: там лучшее — обе песни, а остальное — для перевода мало увлекательно, ибо беспрепятственно. Я не люблю стиха без рифмы — и этого размера не люблю: скучаю.
Подумайте, пожалуйста, и ответьте — хотя бы предположительно.
Получили ли мою франц. рукопись (NB. машинную). Вот ее бы другую маленькую в из-ве издать — хотела, т. к. продать мне ее (при моем характере) навряд ли удастся, — у меня у французов нет имени, а в кредит — ничего не хочу. Я бы хотела, чтобы из-во «Журналь дэ Поэт» ее до моего приезда прочло и как-нибудь отозвалось. Тогда бы привезла ту другую — тоже письма (если бы Вы знали — кому и о чем!) — и получилась бы небольшая книжка, к-ую бы и предложила из-ву — на его условиях (кажется 600 бельг. фр. доплаты?).
Ответьте мне, пожалуйста, дорогая Зинаида Алексеевна, по обоим пунктам, если можно не открыткой, п. ч. в открытки я как-то не верю, слова на ветер.
Я здесь буду до середины сентября, но ответ хотела бы поскорей. Мне бы очень хотелось съездить в Бельгию, у Вас хороший дух, поскольку я могла почувствовать и что я безусловно увидела в факте издания «Проз д'Анфан». Так вот, та моя проза — той же породы, оттого у меня есть надежда. (Неужели тот Люсьен — ее потерял?? Запросите О. Н. — она мне ни слова больше не пишет. И Люсьен — тоже не ответил).
Итак — до письма!
Сердечный привет и пожелания хорошего — всячески — (неразборчиво. З. Ш.).
Напишите о себе и своих планах.
Выросла ли собака [«Тай», мой щенок, волкодав.] и как на нее смотрят кондуктора? М. б. уже — снизу??
М. Ц.
Ванв, 21-го сентября 1936 г.
Милая Зинаида Алексеевна,
Все это — недоразумение: спешно уезжая в Савойю забыла закрепить в своей памяти — или, что лучше: на бумаге — Ваш адрес, который совершенно — канул.
На днях вернувшись — разыскала: 4, рю Вашингтон, и одновременно получила Вашу недоуменную открытку — и вот — пишу: спешу снять и тень в могущей — не могущей! — быть у меня на Вас обиде — за что?
Я, наоборот, сохранила о нашей встрече — Петре в саду, рытье в книжках, псе, лесе — самую хорошую память, ничем не омраченную. И Ваш черный идол [Идол из черного дерева, привезенный мной из Африки.] до сих пор мне благоприятствует.
Желаю Вам успеха с Вашим сборником и шлю самый сердечный из приветов.
М. Ц.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
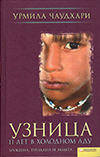
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





