ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


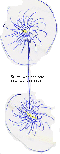
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Макарова Наталья 1973

... Часто я думаю: что осталось у меня в памяти об отце самого яркого?
Его слова? Да, многие слова — справедливые и значительные. И размышления вслух вместе со мною. Но, пожалуй, ярче всего запомнились эпизоды, в которых раскрывалось отношение отца к людям, его готовность прийти на помощь любому человеку в трудную для того минуту.
Помню такой случай: мне лет девять-десять. Поздней ночью зазвонил телефон. Я еще подумала — кто-то приехал и звонит в дверь. Но тут слышу встревоженный голос отца. И начинаю понимать: у кого-то беда. Отец еще держит трубку, еще кричит: «Едем немедленно», а рукой уже показывает дяде Юре «Одевайся!» Дядя Юра, фронтовой друг моих родителей, гостивший тогда у нас, всегда понимал отца без слов: не спрашивая куда едем, зачем, он стремительно оделся и побежал в гараж.
Папа, еще раз заверив, что машина через две минуты будет готова, кладет трубку. И мы с мамой узнаем, что у Андроновых, живущих в соседнем подъезде, сильно заболела дочка, моя сверстница.
Мама торопливо подает отцу одежду, а он, волнуясь, рассказывает:
— Понимаешь, девочка уже спала, да вдруг как закричит. Подбежали в ней, а она в беспамятстве. Так и не очнулась. Сейчас повезем к Склифосовскому...
Мама накидывает на меня свой теплый халат и спешит с отцом на улицу.
Я с волнением гляжу в окно.
...Вот отец выносит Лику, завернутую в одеяло. Дядя Юра открывает дверцу машины, а Ликины родители мечутся, как мне кажется, без толку. Я вижу в свете фонаря белое лицо подруги и то, как она, странно вытянувшись, неподвижно лежит на руках отца. Это пугает меня, я бросаюсь к маме на улицу. Но в этот момент машина трогается, и мама перехватывает меня на лестнице.
Какая же это была длинная ночь!..
Мы сидим с мамой в постели и думаем вслух: «Как там наши? Успели ли? Что с Ликой?»
Идут долгие часы: снова мама звонит к Андроновым, снова успокаивает...
Наконец-то! За окном тихий гудок автомобиля: наши!
Отец выносит Лику. Она обняла его за шею, прижалась к нему. Сзади смертельно бледный от усталости и переживаний Андронов. Перед тем, как войти в подъезд, мой отец успевает улыбнуться нам с мамой, да так радостно, что мы хлопаем в ладоши: спасена!
Отец прибегает, наконец, домой. Глаза его сияют, шапка на затылке, пальто распахнуто.
— Все отлично! — восклицает он, появляясь на пороге.
— Оказывается, девочку перед сном купали, газ случайно потух, а кран был долго открыт, — вот она и отравилась. А я словно угадал: едва выехали, открыл все окна в машине. Держу Лику на руках, подняв ее голову к окну. И вот когда мы свернули с площади Маяковского на Садовую — девочка пришла в себя — открыла глаза... А в приемном покое врач похвалил: «Молодцы, вы ее спасли, а мы бы могли не успеть!»...
— Ну, а теперь ребята, — обращается отец к дяде Юре и к нам с мамой — по случаю счастливого спасения младенца — давайте выпьем крепкого-раскрепкого чая!
И вот мы все за столом в кухне. Уже утро. Отец достает газету из почтового ящика и читает вслух. Мама готовит завтрак, дядя Юра заваривает чай. Как мне хорошо с ними: горло, которое вчера очень болело, сегодня уже не болит, вероятно прошло от волнений и радости, что Лика спасена, что папа у меня такой умный и добрый, что взрослые приняли меня в свой круг — разделили со мной общую тревогу и общую радость.
* * *
Отец, сам всегда правдивый, терпеть не мог всякой лжи, считал, что истоки ее — в трусости. Упорно и терпеливо помогал он мне преодолевать страх, учил самому трудному: умению признаться в совершенном проступке.
...Училась я в шестом классе на отлично, и вдруг схватила тройку по рукоделию. Села я за парту, с ужасом поглядела в свой дневник, в котором и четверки-то встречались редко, и представила себе взволнованное и расстроенное лицо мамы, ее упреки... Сгоряча я тут же вырвала страницу из дневника и только тогда сообразила, что натворила.
Ведь рано или поздно мой проступок раскроется —дневник возьмут на проверку и тогда...
На подобные махинации с дневником решались у нас в школе ребята самые отчаянные, которым уже нечего было терять, и мне предстояло теперь попасть в их число.
Два дня я молчала, на третий призналась во всем отцу.
— Как же это ты, маленький? — произнес отец, с огорчением глядя в мое заплаканное лицо.
— Не знаю, — сказала я, — сама не знаю!
Мне было и стыдно, и жаль отца — такой у него сделался огорченный вид. И чтобы хоть немного смягчить нанесенный удар, я сказала:
— Третий день думаю, что делать?
— Ну и что же, придумала?
— Нет, — ответила я, немного воспрянув духом: отец кажется, не очень сердится, даже спрашивает, что я придумала.
— Понимаешь, страницы пронумерованы, значит скрыть будет очень трудно. Я думаю, надо сказать маме, что у меня стащили дневник в школе... У нас в параллельном классе был такой случай, — поспешно добавила я, увидев сомнение на отцовском лице.
— В том дневнике тоже была тройка или двойка? — спросил он, и трудно было догадаться, говорил ли он серьезно или смеется надо мной.
— Я тебе правду говорю, — отвечала я, заливаясь краской. — Не знаю тройка или двойка, но дневник стащили, в общем он пропал... А лучше, знаешь что, скажем маме, что ты облил его чернилами, когда подписывал, и пришлось вырвать страницу, а в школу можно написать записку...
— Нет, — перебил отец, — все это ерундовские выходы, есть другой.
— Какой? — я даже вскочила от ожидания чего-то необыкновенного.
— Пойди и скажи учительнице так, как есть, а маме потом расскажем вместе.
Я была поражена. Отец предлагает мне во всем признаться! Какой же это выход? Неужели отец не понимает, что выдает меня с головой?
— Папа, но это же будет ужасно! — воскликнула я в отчаянии. — Зинаида Константиновна всегда так хорошо ко мне относилась, доверяла мне... Если она узнает, она меня... она директору скажет, все узнают — это же позор! Нет, я не могу. Я лучше вообще больше никогда не пойду в школу.
— Напрасно ты так боишься, — спокойно возразил отец. — Я думаю, все будет иначе. Ну, а если даже и так, как ты говоришь, то по крайней мере твоя совесть будет чиста, а с человеком, который не боится отвечать за свои поступки, я готов разделить все неприятные последствия.
Его обещание успокоило меня.
— Ну, ладно, папа! Завтра после уроков я скажу Зинаиде Константиновне, — пообещала я не совсем уверенно.
— Завтра? — переспросил отец. — Охота тебе мучиться до завтра! Сегодня целый день впереди, да еще завтра все утро на уроках будешь трястись. Учительница сейчас в школе?
— Да, через полчаса начнется вторая смена.
— Тогда пойдем, я тебе провожу.
Мне было очень страшно, но отступать было некуда, — отец уже надевал пальто.
... Зинаиду Константиновну я встретила на лестнице и от отчаяния выпалила свое признание без всяких предисловий.
Учительница некоторое время молча смотрела на меня, потом неожиданно обняла за плечи и повела по коридору:
— Как ты могла на это решиться? — спросила она.
Я начала путанно объяснять: «Я боялась, что мама расстроится... У меня еще никогда не было троек... Да я и сама не знаю, как я могла решиться».
— Да нет, это я все уже поняла, — сказала учительница, — как ты решилась мне сейчас признаться?
— Папа посоветовал.
— Молодец, — произнесла Зинаида Константиновна, а я так и не поняла, к кому эта похвала относится, ко мне или к папе.
— А ему ты не побоялась признаться?
— Ему — нет. Чего же бояться, — он меня еще никогда не подводил, — ответила я, радостно ощущая, как сваливается с меня тяжесть, казалось, безвыходного положения.
Прощаясь, Зинаида Константиновна сказала: «Передай сердечный привет твоему отцу»...
С лестницы я слетела, как на крыльях... Отец дожидался меня во дворе школы. Мой сияющий вид все ему объяснил.
— Вот видишь, — облегченно вздохнул он, — как важно доверять людям и как высоко ценится правда! — И тут же весело добавил: — А я пока тебя ждал, экспромт сочинил:
Что теребишь ты косу нервно?
Что укрываешь в дневнике?
Там тройка хитрая, наверно,
Вдруг притаилась в уголке...
Отец всегда стеснялся возвышенных слов и, если они у него вырывались, спешил спрятаться за шутку. Но, смягченные улыбкой, слова эти еще прочнее западали мне в душу. Теперь я часто думаю об этом. Отец так всегда старался воспитать в людях правдивость, человечность, мужество. Эти самые прекрасные качества человека. И разве не ими держится земля наша?
В четвертом классе началась у нас история, и я сразу потонула в огромном количестве дат. Учебник казался мне очень скучным. Только потом я поняла, что учебник — это канва, справочник, который дает возможность ориентироваться во времени. Жизнь же людей, общественные явления постигаются еще и из других источников. И вот я хочу рассказать, как помог мне отец, увидев, что я запуталась в датах и мне грозит опасность утратить вкус к одному из самых необходимых и интересных предметов.
Однажды он принес большой ватманский лист бумаги и прикрепил его четырьмя кнопками к моему столику.
— Смотри, что мыс тобой сделаем, — сказал он, разграфляя лист на небольшие, сантиметров по 10 квадратики. Он сделал их несколько и попросил меня начертить остальные.
— Теперь давай учебник: с какого события начали вы изучать нашу историю? — спросил отец.
— Договор Олега с греками, — ответила я.
— Год?
Я замялась, покосилась в учебник:
— 911-ый.
— Прекрасно: пиши 911.
Я быстро нацарапала кривые цифры.
— Не пойдет, — забраковал отец. — Все должно быть написано красиво, это надолго тебе пригодится.
— Я не умею лучше, напиши ты сам.
— Ну нет, во-первых, сумеешь, во-вторых, пока будешь писать, лучше запомнишь. Ты не царапай — а рисуй такую красивую, яркую девятку — мы ее в разных цветах дадим... Чтобы на нее было приятно глядеть, чтобы она сразу украсила лист.
Красоте в работе отец придавал большое значение и был конечно, прав: красота доставляет удовольствие, а удовольствие рождает прилежание, сознание, что это сделал ты сам, словом — хорошая это вещь!
Я начала тщательно выводить цифры.
— Итак? — спросил отец, когда 911 было нарисовано. — О чем был договор?
— О торговле!
— Ну, давай думать, как бы это изобразить...
— А зачем? — спросила я.
— А затем, — наконец раскрыл свой секрет отец, — чтобы как увидишь эту картинку и дату — так и вспомнила бы все, что было.
— Значит мы повесим этот лист над столиком, будем рисовать всякий раз то, что я буду узнавать?
— Страсть люблю догадливых людей!
И мы начали думать вместе, как изобразить договор.
— Нарисуем Олега, — предложила я.
— А ты что, его фотографию видела? Нет? Вот именно: не было тогда еще фотографии! А нарисуешь наобум какого-то дядьку — потом поглядишь на рисунок и будешь гадать: кто это и зачем он тут торчит? Не годится! Надо изобразить такое, чтоб с первого взгляда было ясно, о чем шла речь в 911 году...
— Я поняла, — воскликнула я, — мы нарисуем то, чем они торговали.
— Вот это чудесно, — это то, что нужно!
И в первом квадрате появились тюки с товарами, корзины с вином, рулоны ярких тканей, монеты...
— Здорово, но чего-то еще не хватает! — раздумывал отец.
— А если нарисовать папирус?..
— Правильно, развернутый папирус и надпись: «Договор о торговле».
Итак, над моим столиком появился большущий лист бумаги с маленьким рисунком в левом верхнем углу.
На другой день вечером я нетерпеливо ждала прихода отца:
— Папа, давай еще хоть один рисунок сделаем, а то как-то пусто!.. Да и время идет, а я ничего не запоминаю...
— А что, еще «дату прошли?»
— Да нет, не прошли, сегодня истории не было.
— Ну, пойдем вперед, — согласился отец.
Помню, с каким рвением рисовала я дату 988 — «Крещение Руси». Здесь можно было развернуться: голубая река, золотые маковки церквей... А отец, глядя на мои художества, вдруг прочел стихи:
Он вдруг сказал народу:
«Ведь наши боги —дрянь,
Пойдем креститься в воду»,
И сделал нам Иордань...
— Как, как? — воскликнула я. — Чье это?
Отец меня еще с малолетства научил интересоваться именем автора. Мы с ним и прежде, и потом, когда я уже старше стала, играли в занятнейшую игру: по четырем строчкам угадывать поэта, разбирать, кто как пишет; по нескольким строкам прозы узнавать писателя.
— Это — поэта Алексея Толстого, — ответил отец. — Не путай его с тем, кто написал роман «Петр I».
Книгу о Петре отец прочел мне вслух еще в прошлом году.
— Папа, — прочти всю поэму, — стала просить я.
— Да я, кажется, всего не помню, — отнекивался отец. Но потом стал вспоминать и конечно прочитал наизусть всю шутливую «Историю государства Российского от Гостомысла до Тимашева».
С этого «второго квадратика» курс истории был для меня накрепко связан с чтением литературы. Она воскрешала передо мной прошлое; сухие даты наполнялись жизнью, я становилась как бы участником борьбы, что бушевала в те времена. Литература делала родными и волнующими судьбы лучших сыновей Родины.
Отец посоветовал мне перечитать «Капитанскую дочку», потом я с большим интересом прочла «Историю Пугачева», потом роман «Пугачев» Вечяслава Шишкова. Интерес к истории с годами не ослабевал, наоборот, я не пропускала ни одного тома С. М. Соловьева, было удивительно интересно сопоставлять взгляды людей разных времен на одно и то же событие. В этом сопоставлении, да еще под контролем современного учебника, постепенно и вырабатывалось свое понимание родной истории.
Конечно, не случайно отец уделил мне такое большое внимание при изучении истории. Ведь любому человеку, который ищет ответа на те вопросы, что ставит перед ним сегодня жизнь, знание исторических событий просто необходимо. Потому что не понимая прошлого — он не сможет понять и настоящего. А любовь человека к своей родине должна быть не только большой и чистой, но и осознанной.
* * *
...В ящике моего стола лежит одна реликвия детства. Это было в год, когда я оканчивала четвертый класс. Помню, отец пришел домой с огромным свертком в руках. По тому таинственному выражению, которое было на его лице, я догадалась: это нечто для меня.
Отец достал с полки молоток и вбил гвоздик над моим столиком рядом с тем листом бумаги, где мы отмечали события истории. Потом распаковал сверток. В нем оказалась красивая гравюра, которую он и прикрепил на гвоздике. Я стала рассматривать: рыбацкий домик у синей морской волны, брызги пены, долетают до ступеней причала, на приколе лодка с поднятым парусом.
— Ну, — спросил отец, — как?
— Красиво! — восхитилась я.
— Так куда же поплывем? — спросил отец.
— Не знаю, — ответила я, — не подозревая, что подарок только начинается, — пока лишь было живописное вступление к нему.
— А вот куда мы поплывем с тобой.
И отец развернул огромный рулон, который оказался картой полушарий.
— Понимаешь, — объяснял он, — получил я сегодня этот пейзаж — подарок от писателя Болгарии — и когда шел домой, подумал: учебный год-то закончился, но парусник такой интересный, что у меня не достало сил ждать осени, я решил использовать этот подарок для путешествия по морям и океанам, а чтобы не заплутаться, зашел в магазин и купил эту карту.
...Лето мы жили у бабушки в деревне. Карту прикрепили над моей кроватью. На бревенчатой коричневой стене ярко голубели моря и желтели пустыни. Иногда, лежа перед сном, я рассматривала ее. А днем мы «путешествовали» с отцом на паруснике, его мы из Болгарии «провели» в нашу деревню по каналу Волго-Дон.
Когда я достаточно познакомилась с картой, началась увлекательная игра. Участвовали в ней не только все домашние, но и рябятишки, с которыми я в те годы дружила. Игра заключалась в том, что надо было, например, «проплыть» по рекам и каналам из какого-то города в море, или назвать реки одного из континентов. Выигрывал тот, кто называл большее количество рек и городов, которые стояли на этих реках.
Игра увлекла всех настолько, что в местной библиотеке расхватали все книги по географии, и на очередном «турнире» кто-нибудь да удивлял всех своими познаниями. Игра все усложнялась, давала все большую пищу уму, все ярче раскрывался перед нами мир. Отец привез карты Африки, Европы, Америки. Началось знакомство с растительным и животным царством, с полезными ископаемыми, и, конечно же, с обычаями людей, которые обитают в той или другой стране.
Потом отец привез план Москвы. Я и не предполагала, что в родном моем городе столько исторических памятников.
Осенью отец показал мне Москву уже не по карте.
Эти путешествия по родному городу стали для меня самым увлекательным занятием. Я уже не говорю о той пользе, которую они мне принесли.
* * *
Нашу женскую школу слили с мужской. Недоразумений было предостаточно, привыкали друг к другу трудно. Учителя с ног сбились. Класс был шумный, недружный, неорганизованный. А тут еще Колька Ступицын. Это был невысокий мальчишка, весь в веснушках, с маленькими, недобрыми глазками. Мы, девчонки, терпеть его не могли, тем более что хулиганил он непрестанно. К этому все настолько привыкли, что, какая беда ни случись, говорили: Ступицын... Посещал он школу через день и вечно придумывал какие-нибудь отговорки. И вот однажды не было Кольки два дня, а когда явился, сказал: Мать заболела.
Ему никто не поверил. Надежда Сергеевна, наш новый классный руководитель, стала ему выговаривать и в дневник записала, чтобы пришла мать.
Увидел Колька запись и словно взбесился. Бросил дневник, побежал к парте, схватил свои книжки и выскочил в коридор. Через минуту слышим звон стекла, а потом какой-то грохот. Оказалось, он окна в коридоре разбил.
Прибежала я с подружками домой, сидим мы, обедаем и костим Кольку на все корки: и двоечник он, и хулиган, и что-то ему теперь будет! И вдруг вышел из кабинета отец:
— Что вы тут за чепуху мелете? — А глаза такие сердитые, редко бывали у него такие глаза, даже не то что злые, а горестные, недоуменные, обиженные какие-то!
Я покраснела:
— А что? Это же правда.
— Да откуда вы правду знаете? А вдруг действительно у него мать больна?
— Ничего она не больна! — воскликнула я. — Он всегда врет!
— Так, — подвел итог отец моему заключению, — а если она все же больна?
— А почему мы должны его защищать? — вступилась Тамара, самая бойкая из моих приятельниц. — Если Колькина мать воспитала дурного сына, то пусть и расплачивается теперь...
Мать у Тамары была членом родительского комитета и потому всегда говорила безапелляционно, Тамара очень походила на свою мать.
Отец только головой покачал: ну и ну!
Когда девочки ушли, отец предложил:
— Сходим к Ступицыну. Тревожусь я за мальчишку: и мать больна, и отца нет, — наверное, худо Кольке.
— Да не больна она, папа, только в глупое положение попадем. И потом ведь Надежда Сергеевна наверняка сама пойдет, что нам-то вмешиваться?
— Надежда Сергеевна ваша еще очень молода, думаю, что от меня будет больше толку, ну, а если мать не больна, помочь ей тоже как-то надо.
Я пожала плечами. Мне было совершенно непонятно, зачем папа тратит время на Ступицына, о котором слышит первый раз. Но мы все же пошли.
Жил тогда Колька в так называемой Дунькиной деревне — это на старых железнодорожных путях стояли на вечном приколе пассажирские вагоны, как печальный след войны (там теперь огромные дома выросли). Вагоны были поделены на маленькие комнатенки с печурками, в одной из таких комнат и жили Ступицыны. Дома никого не оказалось, но дверь была открыта, мы увидели грязный стол с остатками еды, неубранную постель и на полу Колькину сумку с книгами.
Меня все это не очень удивило: мы, дети военного времени, и похуже видали. Но все же я почувствовала, что Кольке живется неважно. Соседка рассказала: Анастасия Федоровна, Колькина мать, — в больнице.
— Такой хулиган, такой хулиган мальчишка, мать замучилась с ним, а тут прихватило ее — бегал, как угорелый, карету вызывал, а потом за скорой помощью помчался и так просился ехать возле матери. Да не взяли... «Иди в школу!» Но в школу он не пошел, а отправился в больницу, там ночь где-то просидел, а наутро пришел, говорит: «Матери операцию сделали, совсем она плохая, а меня не пускают, гонят»... Прежде не заходил и не здоровался, а тут зашел ко мне, сидит, плачет, спрашивает: что делать? А я откуда знаю, я не врач. Мне с ним возиться некогда, мне на дежурство надо. Взял он тогда сумку и отправился в школу... Да говорят, скоро вернулся, весь зареванный, бросил книги и побег опять в больницу.
— Видишь, как все непросто, — сказал мне отец, когда мы вышли на улицу. — И Надежду Сергеевну винить нельзя. Пришла она со студенческой скамьи, попала в такое время: слияние школ... Теперь наступит в жизни Кольки момент, который может быть переломным. Вопрос только — куда перелом будет? До болезни матери он ни о чем не задумывался: жил, вероятно, как и другие его товарищи из Дунькиной деревни. Но вот ударила беда, все пошатнулось. Остался один! А это страшно, это кого захочешь отрезвит. Побежал он со своей бедой в школу, а там ему не поверили. Представляешь, что у него на душе творилось?
— Но как же ему поверить, если он прежде лгал и прогуливал?
— А он уже это забыл, — объяснил отец, — горе все вышибло, теперь он знает одно: у него беда, а ему не поверили. Ну, он и отреагировал, как умел: разбил окно.
— Но ведь он столько дурного делал, малышей обижал, первоклассники Ступицына за версту обегали...
— И этого ему прежде не дано было понять, он думал только о себе. Не мог он чувствовать боль или обиду другого, а теперь сам попал в беду и вот теперь может понять... А может и не понять, — продолжал отец задумчиво. — Смотря какие люди возле него будут... В школе его оттолкнули, соседке некогда, значит, остаются дружки из Дунькиной деревни, к ним он и может прильнуть.
— Но они же ни в чем не помогут, даже пройти в больницу. Почему он к ним прильнет?
— Да хотя бы потому, что они ничего не будут требовать, не будут корить и воспитывать, а дадут выпить, усадят за карты, — глядишь, и в больницу уже парнишку не потянет, и в школу уже не пойдет. Тем более там еще за стекло спросят, а денег нет.
— Что же делать?
— Тебе он очень не нравится? — спросил отец.
Я молчала.
Я уже чувствовала Колькино горе, будто наяву увидела его фигурку, бегущую за «скорой помощью». А как это страшно, я уже поняла, когда однажды увозили мою больную мать.
— Нет, ничего, — ответила я наконец, — ничего...
— Тогда давай ему поможем.
— Давай... А как?
— Во-первых, я дам ему денег на стекло, чтобы путь в школу был открыт. Дам взаймы. Ведь дело не в рублях, а в том, чтобы парень чувствовал, не подачку ему дают, а верят, что он отдаст. Я так и скажу: мол, с первой получки отдашь...
Я кивнула головой, хотя, по правде, такую тонкость не очень уразумела.
— Во-вторых, — продолжал отец, — сейчас в больнице мы узнаем, что с его матерью, может и его найдем. А впрочем, давай-ка сначала я отведу тебя домой...
Отец вернулся не скоро. Я ждала его возле остановки. Еще из окна подходившего автобуса папа помахал мне рукой: веселый приехал.
— А знаешь, твой Колька — неплохой парень, — сказал он, когда мы шли домой. — Обычный подросток, которого никто не научил с пользой тратить свою энергию, вот он и ломался, как умел. А искорка у него в душе есть: мать он любит крепко, а это уже хорошо... Нашел я его не сразу. Сидит на больничном сквере и хлюпает носом... Зайти к дежурному, записку матери передать — стесняется... Ну, нашел я и дежурного, и заведующего отделением, все узнал; у матери-то прободной аппендицит был, положение пока что угрожающее. Добился я Кольке пропуска на пятнадцать минут каждый день, принес ему. Он и глазам не верил. Схватил, бросился к больнице. Нет, говорю, рано, через час только можно (поговорить я с ним хотел).
Пообедали мы в столовой, купили матери клюквенный морс, и тут я предложил ему деньги за стекло. Упирался: не пойду, говорит, в школу никогда. И все-таки уговорил я его: деньги взял и обещал завтра пойти в школу.
— Как же ты его убедил, папа?
— Да, по правде говоря, нескладно как-то. Вот, говорю, я тебе все достал... Матери, говорю, волноваться нельзя, надо ей радость принести... Ну и еще чего-то много говорил, теперь и не помню. Кстати, знаешь, у больницы мы Надежду Сергеевну встретили. Увидела меня с Колькой, обрадовалась... Пока Колька ходил к матери, мы его поджидали, я попросил Надежду Сергеевну взять у него деньги за стекло и не спрашивать откуда. А то еще застесняется парень... Вот и все.
— Да, — вспомнил отец, — он, как вышел, деньги Надежде Сергеевне отдал.
Я была рада, что так все складывалось, но все же заметила:
— Ты, папка, странный... «У Кольки достоинство», «Колька засмущается». У тебя он получается не тот, что есть на самом деле, а в тыщу раз лучше...
— А может быть, именно тот? Да, кстати, я с ним договорился, что с завтрашнего дня он будет заходить к нам. Уроки у него проверишь. Что тебе стоит часок уделить?
— Зачем он мне дома, я ему в школе помогу!
— Нет, пока мать его больна, лучше у нас. Надо, чтобы он в семье побыл... И покормить его надо. Словом, поручаю и доверяю его тебе!
С неохотой принимая поручение, я и не знала, что с этого Кольки Ступицына и начнется моя дружба с мальчишками, что не один Колька будет искать у нас в семье убежища от домашних неурядиц...
А как закончилась история с Колькой?
Мать его поправилась. Колька окончил седьмой класс и поступил в училище. А окончив его, стал работать, потом ушел в армию и прислал отцу одну, а затем и вторую благодарность, которыми наградили его за отличную службу. Очень мне было это приятно. Папа отнес их Колькиной матери Анастасии Федоровне.
В начале восьмого, в минуту трудную, как нам тогда казалось, я и еще пять моих соучеников явились к нам в дом за помощью. Дело в том, что мы учились в восьмом, а все знают по своему опыту, что восьмой класс переходный: от седьмого он решительно открещивается: малыши, а 9-е и 10-е не желают знаться с восьмыми, считая их недомерками. А ведь именно в этом возрасте так мучительно хочется выглядеть взрослыми, душа жаждет признания, понимания, волнуют мировые проблемы: жизни, смерти, дружбы и... одновременно ужасно тянет на танцплощадку, на взрослый каток, в клуб...
В школе готовился большой весенний бал — и нас старшеклассники не хотели принимать: устраивайте со своими сверстниками, т. е. с седьмыми... Думаю, каждый, кто учился в школе и переживал «страдания восьмиклассников», поймет, какой несправедливостью нам это казалось, и как мы бурлили, шумели, надоедали учителям, которые не могли нам помочь (все их петиции к старшим были тщетны).
Вот я и решила привести своих друзей посоветоваться к отцу.
Надо было знать моих друзей, чтобы понять, как я волновалась, понравится ли им мой отец? Как он примет моих друзей? Я очень любила отца, но... это был тот возраст, когда товарищи все же ближе! Я приготовилась стоять за них горой! Не успели мы и оглядеться, как вошел отец: как всегда своей стремительной походкой с какой-то рукописью в руке. Он, оказывается, слышал, что я пришла, и хотел показать мне стихи. Увидев «сборище», не смутился: секунду оглядывался, потом лицо его заулыбалось. А!.. «Вот хорошо, что вы пришли, мне как раз нужен совет». — Он поздоровался с каждым за руку и сел, потеснив ребят в самую середину.
«Вот в чем дело, — продолжал отец, — что вы скажете относительно такого стихотворения? Понимаете, пришел ко мне в редакцию поэт, думается, он одарен, интересен, но насколько он отражает ваши думы, ваши представления о жизни — вот что мне интересно...»
И отец стал читать стихи совсем молодого тогда Евтушенко... Думается, что при первом чтении никто ничего не понял: так были ошарашены мои друзья тем, что редактор журнала, писатель вместо того, чтобы поморщиться по поводу «нашествия» или в лучшем случае похлопать их покровительственно по плечу, обратился к ним с такой серьезной просьбой... Отец, увидев смущение, не показал, однако, вида, что он его заметил. А, помолчав секунду, начал читать снова. Потом прочел второе, третье стихотворение. Постепенно ребята стали слушать, думать. Завязался разговор. Впрочем, говорили сперва только двое: Вадик — ставший впоследствии моим большим другом, да я. Остальные — помалкивали. Но вдруг меня поразил Калинкин, которого в классе считали недалеким молчуном: он неожиданно высказал свое категоричное мнение — хорошо пишет!
— Не льстит, а мы привыкли, чтобы нам льстили.
Отец засмеялся:
— Здорово!
Тут расхрабрились и остальные, коли Калинкин «здорово», так чего же нам теряться...
Разговор с отцом затянулся. Наконец Вадик решился высказать и нашу просьбу: « Как быть с вечером? Как добиться, чтобы старшие «снизошли» и приняли нас в свой круг»...
Отец подробно расспросил ситуацию и потом сказал:
— Все надо сделать иначе, надо, чтобы не они вас, а вы «снизошли» их пригласить на свой вечер!
Подобного поворота мы не ожидали.
— Как? Какой вечер? Разрешат ли учителя? — сыпались вопросы.
Отец курил, непрестанно оглядываясь на дверь — не войдет ли мама, не увидит ли, что он курит в неурочное время.
— Думаю, что учителя разрешат, — сказал он, — уверен, что вы им достаточно надоели.
— А разрешат — так кто к нам придет — «восьмиклашкам?» — сыронизировал Вадик.
— Еще как придут! — обнадежил отец. — Только выдумка нужна и охота. Знаете что: давайте устроим вечер сатиры и юмора — перед этим не устоят!
— А когда устраивать-то: они к своему уж месяц готовятся. Не успеем: скоро экзамены...
— Это и есть самая пора для вечера, — засмеялся отец, — Нужна же разрядка во время напряженных занятий. Давайте так: приходите к нам готовиться к экзаменам, а потом — по вечерам — я помогу вам, если меня примете...
Конечно, мы все загорелись. Тут же с отцом стали обсуждать программу вечера, распределять роли.
Неожиданно для нас самих у всех обнаружились какие-то таланты (великое это дело, когда поставлена цель и кто-то помогает идти к ней). На другой же день пошли к классному. Она, конечно, с охотой утвердила наше «мероприятие», ей самой все показалось интересным и она с удовольствием предоставила отцу вести нашу гвардию. Преобразилась вся жизнь класса, потому что «зачинщики» наконец-то нашли дело и применение своей энергии и перестали «мутить» остальных.
Какие это были интересные дни. Все участники вечера готовили уроки у нас дома. Чепуха это, как некоторые думают, что старшеклассники не умеют вместе заниматься, а только болтают. Куда там! Мы работали с полной отдачей, потому что понимали — иначе все провалится и перед отцом было стыдно, и перед школой, и перед ребятами не хотелось ударить в грязь лицом, ведь мы решили поразить и затмить старшие классы.
Мы выбрали ответственного за домашние задания и после окончания занятий он гонял всех и по всем предметам. А уж как с пристрастием спрашивают ребята друг друга, по-моему, каждому известно, кто вот так вместе занимался: ни один учитель так не докопается до самых скрытых слабых мест, не потребует с таким непреклонным рвением четкого и досконального ответа, как товарищ у товарища.
Часам к восьми мы заканчивали занятия и начинали ужинать. Мама помогала нам чистить картошку, готовить чай, ждали отца. Он приходил усталый, но веселый. «Возиться» с нами ему самому доставляло удовольствие. Бывало едва войдет отец, как еще не сняв пальто, начинает чей-нибудь монолог. Мама ругается: «Поешь прежде...» Отец соглашается, садится за стол, но через минуту идет с тарелкой к нам в комнату, куда выпроваживала нас мама, чтобы ему не мешали. Все оживало при его появлении. Его увлеченность, талантливость, молодость души зажигала. Все кипело, бурлило, каждый старался проявить себя, сообщить интересную новость, рассказать о появившейся книжке. Остроты, шутки летели, как мячики, а сколько было смеха, того смеха, который приносит ощущение полноты и радости жизни, любовного отношения к окружающим.
И удивительно скоро, с увлечением шла и подготовка к экзамену и репетиции.
До вечера оставалось пять дней, когда отец предложил нам пригласить седьмых. «Победители должны быть великодушными, — говорил он, — а вы победите, это уж ясно!».
До старых ли было счетов — мы пригласили. Увидев заманчивые афиши, развешанные по всей школе, девятые и десятые наконец не выдержали — стали просить в тайне друг от друга билетики, дескать они-то были всегда за нас. Как же мы были счастливы — мы буквально порхали по школе!
А отец сказал нам, что выступал недавно в Нахимовском училище, и, когда рассказал там, что у нас будет вечер, старшеклассники стали просить хоть несколько человек пригласить обменяться опытом.
— Ну что же? — спросил отец, лукаво вглядываясь в вытянувшиеся лица наших пареньков. — Как решим?
—Да, в сущности, зачем они нужны? — спросил кто-то из ребят, — еще не известно, что у нас получится...
— Боитесь не выдержать конкуренции с их выправкой и блеском, — подшучивал отец, — а вы попробуйте.
Девочки, конечно, были «за», и мальчикам пришлось скрепя сердце уступить.
Вечер прошел на славу. Зал был переполнен. Учителя сияли. Мы — на седьмом небе. Нахимовцы были неотразимы своей выправкой, отлично танцевали. Некоторые из наших «доморощенных печориных» пытались было затеять ссору, но встретили такое деликатное и доброе отношение, что, посрамленные, притихли.
Играли мы сценки из Чехова, отрывки из пьес Чапека, монологи Нушича, гоголевские шутки, инсценированные отцом рассказы Ильфа и Петрова. Честное слово, за все мои школьные годы я не слышала в нашем актовом зале ни до, ни после столько веселого смеха...
* * *
Однако мне в тот вечер выпало неожиданное испытание. Когда день вечера был утвержден на педсовете, обнаружилось, что вечер назначен в день бабушкиного рожденья. Переменить дату было невозможно — ее согласовывали со всем школьным планом. Я сначала не очень огорчилась: обойдутся у бабушки и без меня.
Но отец спросил:
— А как же с бабушкой?
— Да никак, — ответила я беззаботно, поздравлю ее накануне — и все.
— Но у нее будет 25 человек гостей.
— Тем лучше, к чему же еще я?
— Но ты ведь знаешь, что бабушка в тебе души не чает, она и гостей-то собрала, чтобы показать, как ты выросла, чтобы ты почитала стихи, сыграла на пианино.
— Терпеть не могу демонстрировать перед родственниками свои «таланты», — со злостью выпалила я.
— Я понимаю тебя, — ответил отец, — я тоже терпеть не могу. И мама тоже... И все-таки, даже когда мы были в армии, если бывала хоть малейшая возможность, мама приезжала в Москву хоть на один этот день. И мы не критиковали бабушку, и не учили: так или иначе она должна проводить его, мы приезжали, привозили подарки. Она любила цветы, много-много цветов, чтобы и в вазах, и в банках и даже в ведре стояли цветы в этот день, — и мы их привозили, если могли и сколько могли.
— Вот вы и пойдете туда, — сказала я уже менее уверенно.
— Но она будет ждать тебя.
— Ну не могу, не могу и не хочу, — говорила я со слезами. — Там будут одни старики, с ними надо целоваться... Не хочу!
— А ты спрячься под стол, как в детстве, — рассмеялся отец.
— Ах, папа, ну почему, почему так совпало?
— Знаешь, малыш, — еще часто в жизни не будет ответа на все «почему» да и не всегда надо их искать — так случилось. Вот ты говоришь — не можешь. Ты думаешь только о себе, а если подумать о старом человеке, который живет тобой, твоей жизнью, твоими радостями, который и в тебе себя видит, для которого и праздника нет без тебя — тогда, может быть, ты все же сможешь? Ведь бабушке 72...
— Но я же участвую в трех сценках.
— Ты сыграешь, и потом, пока будет антракт и начнутся танцы — съездишь к бабушке — хоть на один час.
— Хорошо, — ответила я, — я сделаю это только для тебя...
— Пусть сейчас ты думаешь так: когда вернешься от бабушки, может быть, мнение твое переменится...
...Отец был прав: бабушка знала, что у нас идет знаменательный вечер в школе и обрадовалась вдвойне. Она обнимала меня, приговаривая:
— Ангел мой! Прилетела моя ласточка, мое сокровище...
Бабушки уже нет. И никто не назовет меня так и так не обрадуется... Может быть те слова были и сентиментальны и смешны немножко, но как же их не хватает мне теперь. И тогда бабушка сама через час выпроводила меня: «Спасибо тебе. Беги! Там тебя ждут. Радуйся, веселись — вот увидишь, как будет тебе хорошо...»
Я ... спешила на вечер... Мне было немного грустно, стало вдруг жаль и бабушку, и старых тетушек — таких душистых, уютных, ласковых. И было немного стыдно за себя перед ними, за слова, сказанные отцу.
Он вышел от бабушки, чтобы посадить меня в метро, но ни о чем не спросил, он понимал без слов, поэтому было с ним всегда так легко.
На танцы я успела и, кружась и вальсируя, то с нашими, то с нахимовцами, скоро забыла и бабушку, и тетушек и всей душой отдалась радости, успеху, упоению танцем.
* * *
Мои школьные товарищи всегда тянулись к нашему дому. Сперва я приписывала эту заслугу себе: и не глупа, и повеселиться умею, и друг надежный... Но, став постарше, поняла: не во мне причина, а в моих родителях, в той доброй обстановке, что была у нас дома, в сердечности, с какой отец и мать относились к моим друзьям.
Особенно близок нам был отец. Помню, как ребята оттягивали час ухода, чтобы дождаться его возвращения с работы, поговорить с ним о всяких новостях, узнать его мнение о школьных и мировых событиях, послушать его рассказы о войне.
Удивительным человеком был мой отец — обремененный работой, он все же старался вырвать хоть малое время, чтобы побыть с нами; он сам дорожил привязанностью моих сверстников. Был он такой простой, такой свой, словно сверстник наш, только в сто раз умнее, справедливее, добрее... И ребята открывали ему душу, несли свои беды. Он выслушивал, с присущей ему деликатностью подсказывал, как найти выход, исправить совершенную ошибку.
Конечно, беды бывали разные. Иногда только тому, кто о них рассказывал, казались они страшными, но случались и такие, из которых совсем непросто было выпутаться. Расскажу об одном случае.
Мы учились уже в 10-м классе.
...Однажды отец послал меня за рукописью в редакцию журнала. Я получила тяжеленную папку — чей-то многостраничный роман — и возвращалась домой. На улице я увидела Сережку. Я удивилась: два дня не был в школе, а тут разгуливает.
Сергей шел задумавшись, и, когда мы поравнялись, я загородила ему дорогу.
— Здравствуйте, товарищ Соколов! Почему не были в школе?
Он хмуро ответил:
— А тебе-то что?
Хотел пройти мимо. Но я успела ухватить его за рукав:
— Постой, постой, помоги мне эту тяжесть дотащить.
Он покорно взял папку и пошел рядом.
Я посмотрела на него краешком глаза:
— Отдыхаешь?
— Ага, — отозвался он, — разве не видишь, веселюсь!
Снова дерзость. Я не обиделась, но и не задумалась: почему он обычно мягкий и добрый, так груб? Фокусничает, решила я. Ну и пусть...
...Пришли к нам домой. Мой отец взял у Сергея тяжеленную папку, покачал головой: ему предстояло за два дня прочесть эти сотни страниц и написать отзыв.
Сергей стал прощаться, но отец пристально посмотрел на него и сказал:
— А то оставайся, а? Не хватает у меня мужества сразу за эту рукопись взяться, — пошутил он. — Да и замерз ты, похоже. Выпьем-ка крепкого чаю... Хорошо?
Сергей остался.
А отец не спешил с нами расстаться. Я удивилась: у самого срочная работа, так волновался утром, что опаздывает, а тут все разговаривает и разговаривает с Сергеем, расспрашивает его о каких-то совсем незначительных вещах. Сергей сперва отвечал односложно, а потом разговорился, отогрелся, порозовел...
И тогда отец пересел к нему совсем близко и, глядя на него своими добрыми, внимательными глазами, спросил:
— Случилось что-то? Очень серьезное? Да?
Сергей помолчал минуту, потупившись, и, наконец, решился:
— Александр Николаевич, понимаете, три дня назад моя мать сказала, что выходит замуж...
От неожиданности я громко вздохнула: вот оно, оказывается, какое дело-то!
Отец же встал, обнял Сергея за плечи.
— Она еще спросила моего совета, — запальчиво продолжал Сергей.
— И что же ты посоветовал?
— Я ответил: во-первых, это ее дело, а во-вторых, не нужен мне никакой Леонид Иванович.
— Ах, вот кто сватает Зою Николаевну, — сказал отец, — старый друг ваш... Ну и как же мама отнеслась к твоему мнению?
— Заплакала... И не захотела больше со мной разговаривать.
Отец покачал головой:
— Как же ей тяжело сейчас...
Потом отошел от Сергея, сел, закурил.
— Чем же тебе не нравится Леонид Иванович? Ты считаешь его недостойным Зои Николаевны? Но ведь ты же не раз мне рассказывал, что после смерти отца он часто приезжал к вам, помогал тебе, когда мама болела, ты же всегда хвалил его.
— Да, хвалил, — нехотя согласился Сергей, — но я ведь не про него сейчас, про маму. Она говорила прежде, что никогда не выйдет замуж, что сердце у нее умерло, значит — лгала?
— Ну, — поморщился отец. — Зачем такие грубые слова? Нет, тогда она была уверена, что будет именно так, но... человеческое сердце способно воскресать.
— Да уж, именно воскресать! — с горечью подтвердил Сергей, видели бы вы, какая она веселая стала. И вообще... Ну, не могу я все это понять, не могу объяснить!
— Да чего же еще объяснять, — вздохнул отец. — И так все ясно... Ты хочешь знать мое мнение?
— Да.
— Я думаю... ты очень несправедлив к своей матери.
Сергей сделал движение протеста.
— Нет уж, не возражай. Я внимательно слушал тебя и старался увидеть эту историю твоими глазами. Я понял, что тебе трудно, ты страдаешь.
Сергей кивнул.
— А знаешь, отчего так тяжело? От того, что ты думаешь только о себе. А это чистейший эгоизм!
— Эгоисты не страдают, — воскликнул Сергей.
— Ого! Еще как страдают, — усмехнулся отец, — от безмерной любви к … себе, от того, что почитают себя той точкой, в которой скрестились все беды земные, от убежденности, что никто не может так глубоко и тонко переживать, как они... А ты подумай вот о чем: твоя мать пережила тяжелейшее горе — потерю любимого мужа, но ведь и в самые тяжелые времена она не переставала заботиться о тебе, жила только тобою и для тебя. Согласен?
Сергей молча кивнул.
— Она вырастила тебя. А теперь настал час, когда нужно, чтобы ты понял ее, подумал о ней, позаботился о ее будущем.
— О ее будущем? — удивленно переспросил Сергей.
— Да, именно о ее будущем. А как же? Или ты считаешь, что будущее есть только у тех, кому 17 лет? Будущее есть у каждого человека, сколько бы ему ни было лет, и, знаешь, скажу тебе по секрету, с годами все больше ценишь и любишь жизнь. Зоя Николаевна еще молода. Сейчас ты одержим детской ревностью. Тебе даже не нравится, что мать ожила, повеселела. А ты должен бы радоваться этому, если по-настоящему любишь ее. Но ты привык к мысли, что она живет только для тебя, это тебя устраивает. Потому-то тебе невыносима мысль, что она будет счастлива счастьем, которое ей даст другой человек.
Сергей снова нахмурился.
— Не обижайся, — продолжал отец. — Пора уже решать жизненные вопросы не по-ребячьи, а по-мужски. Мужчина — тот, кто умеет понять и защитить и взять ответственность на себя. Ты же ставишь мать в безвыходное положение. Она любит тебя, и если ты будешь дальше так вести себя, она откажет Леониду Ивановичу и останется одинокой.
— Одинокой? — снова вскипел Сергей. — А я?
— Я ждал этой реакции, — возразил отец, — вот именно «я», снова «я». Без конца «Я!Я!Я!»
Отец встал, походил по комнате и мягко спросил Сергея:
— А скажи честно, сколько времени этот «Я» уделял матери? Ну, хотя бы последний год? Как ты помогал ей? О чем разговаривал? Молчишь? Так я тебе сам скажу: только о том, что касалось тебя, твоих нужд, твоей учебы, твоих планов. Верно? Но поинтересовался ли ты тем, что на душе у матери? Пригласил ли ее хоть раз пройтись, ну хотя бы по той набережной, по которой вы все без конца гуляете и ведете задушевные беседы? Конечно, нет, туда ты ходишь со своими друзьями. — Отец обернулся ко мне. — Вот и моя дочка, она тоже не с матерью там прогуливается. Но у нашей мамы есть я, а Зоя Николаевна одна тебя поджидает. И навряд ли ты уж очень к ней спешишь. А через год ты и вообще уйдешь в армию, да что через год, небось, этим же летом махнешь куда-нибудь! Я сам, помню, после окончания школы выпросился у бабушки, ты ведь знаешь — я сиротой рос, — выпросился в геологическую экспедицию. — Дальние края захотелось посмотреть. Уж как она меня удерживала! Где там! Умчался...
...А в общем-то, по всякому может быть, — прервал себя отец. — Так или иначе — жизнь часто готовит неожиданные сюрпризы. Неизменным должно быть одно — твое уважительное, заботливое отношение к матери. Понимаешь? Навсегда... А теперь, наверное, особенно: она должна увидеть, что у нее взрослый сын, с которым действительно можно советоваться и решать, как строить новую жизнь по-доброму, по-умному. А строить — трудная задача! Но зато и самая прекрасная. Согласен?
— Ага, — прошептал Сергей.
— А ты собирался удирать и все бросить! И долго ты это придумывал? — уже с веселой, лукавой улыбкой спросил отец. — Небось с утра по морозу бродил?
Сергей кивнул:
— ...И вчера тоже.
— Эх ты, мудрец, — отец подошел к Сергею и взъерошил его вихры.
Что-то светлое, доброе засветилось в лице парня от этой ласки, словно солнечный зайчик проскользнул.
Сергей, конечно, никуда не уехал. Зоя Николаевна вышла замуж. Отец еще не раз беседовал с ним, встречался с его матерью и даже познакомился с Леонидом Ивановичем, — словом, приложил все силы, чтобы эти хорошие люди поняли друг друга.
С тех пор прошли годы. Но часто я вспоминаю тот день, когда Сергей пришел к нам такой растерянный, замкнутый, колючий. И отец, поглощенный своими делами, сосредоточенный на работе, все же заметил состояние Сергея. Он приласкал парня и вместе с тем прямо высказал все, что думал о нем: ведь он назвал Сергея эгоистом. Но сказал это как-то неоскорбительно, что тот не обиделся. Он понял, что отец взволнован, искренно сочувствует ему и главное — верит в него.
А в юности так важно, чтобы верили в тебя, в то, что ты можешь стать лучше, выше.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





