ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
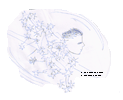

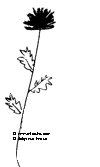
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Серебрякова Галина 1968
СОКРОВИЩНИЦА
Даты. Их можно назвать драгоценными фетишами времени. Они не оставляют нас равнодушными, становятся частью жизни не только отдельных людей, но и всего народа, а то и человечества.
Помню 7 ноября 1919 года. С него, уже по собственной памяти, веду я год за годом счет праздникам революции. Справляли мы 2-ю годовщину Октября в 13-й армии, в селе Паточная, Тульской губернии. То были годы тяжелых испытаний. Белогвардейцы приближались к Москве.
— Товарищи, — говорил, взобравшись на поскрипывающий лабазный ящик, молодой красноармеец, — не только с русской, но и с мировой буржуазией воюем мы. Не плошайте, будьте начеку! Мы боремся за великие идеалы нашей партии.
Незадолго до того я была принята в партию. Трудности? Мы были готовы преодолеть их. Мы были готовы на любые жертвы — только бы отстоять советскую власть.
До осенней, холодной полуночи праздновало село годовщину Октября. В овчинных полушубках и тяжеленных сапогах, на рыночной площади, побеленной первым снегом, отплясывали мы русскую. Потом восторженно пели наши любимые песни — «Смело, товарищи, в ногу», «Мы — кузнецы, и дух наш молод».
...Помню, как позднее выходила я с демонстрантами на Красную площадь. Вздрагивало сердце, когда удавалось, приподнявшись на носки, разглядеть на деревянной трибуне Ленина, Фрунзе, Дзержинского...
Праздники революции! Ничто не может в истории сравниться с ними. Они изумляли очевидцев и в годы славной борьбы за свободу и права человека во Франции в 1789-м и позднее — в дни Парижской коммуны. Их величие и красота ошеломляют и в наши дни в Советской стране.
В конце двадцатых годов мы собрались 7 ноября на праздничный вечер на квартире Мейерхольда в доме на Арбате.
Пришел туда и Анатолий Васильевич Луначарский. Провозглашая тост, он заговорил об исключительном размахе и яркости наших праздников.
— Ни в античной Элладе, ни в древнем Риме, на века прославившихся своими внушительными шествиями, ни в пору блистательного Ренессанса не видел мир зрелища прекраснее, нежели вдохновенный, воспевающий жизнь праздник освобожденного народа. Пролетариату суждено создать настоящую красоту, небывалые образцы искусства и научить человечество подлинному ликованию и веселью.
...Как порой ни была горька моя судьба в последующие годы, праздники смягчали печаль и несли надежду и веру в конечное счастье и неизбежную справедливость.
В воспоминаниях о них не раз черпала я волю к жизни, радость бытия. Это моя сокровищница.
Мне довелось быть свидетельницей рождения советской литературы, читать в первых изданиях многие замечательные книги, вошедшие в золотой фонд нашего искусства.
Мое поколение в двадцатые годы зачитывалось «Башней» Гастева и «Красной звездой» Богданова, учило наизусть «Левый марш» Маяковского, когда впервые он зазвучал в Москве. Мы пылко спорили о «Цементе» Гладкова. Помню день, когда Дмитрий Фурманов принес мне только что опубликованного «Чапаева». Мы восхитились «Тихим Доном». Он стал нашей гордостью. Нам нравились талантливые рассказы Ивана Катаева, стихийный лад в книгах Артема Веселого, волнующий «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова и партийный темперамент «Разгрома» Фадеева. Песней прозвучали для нас стихи Павло Тычины, Ильи Сельвинского, Асеева, Сакена Сейфуллина. У Алексея Толстого учились мы великолепному русскому языку, а у великого Горького — всем тайнам мастерства.
Советская литература громко заявила о себе на весь мир. Часто номера журналов «Красная новь», «Октябрь» становились событием, о котором говорили на собраниях, в толпе, в семье.
Я познакомилась с писательницей Лидией Сейфуллиной именно в Октябрьские праздники в Ленинграде.
К Лидии Сейфуллиной я пришла после демонстрации, как благодарная читательница, не смея считать себя в ту пору ее товарищем по цеху. На моем творческом счету значилось только несколько очерков, напечатанных в «Комсомольской правде» и «Гудке».
За праздничным столом сидели гости. Муж Сейфуллиной писатель Правдухин, яростный охотник и рыболов, весело выхвалялся своими трофеями, лежавшими тут же. Дикие утки в жирном соусе среди подрумяненных печеных яблок и печальный голубоватый заяц, приготовленные умелым кулинаром, красноречиво подтверждали, что Правдухин не попусту скитался по лесу и болотам.
Мне очень понравилось лицо Сейфуллиной. Точь-в-точь такое я запомнила на одном из полотен Гогена, воспроизводившего таитянских женщин. Круглые большие глаза, глаза мулатки, у писательницы были лучисто-яркими и сохраняли всегда пытливое и тревожное выражение. Сейфуллина оказалась страстным рассказчиком и, как многие писатели, в беседе искала, находила, проверяла мысли, которые потом должны были появиться вновь в еще вынашиваемом произведении. Многое из того, что говорила мне тогда Лидия Николаевна, я прочла позднее в «Виринее». В сумеречный час, который французы и поляки прозвали «между волком и собакой», Сейфуллина пошла проводить меня до гостиницы, где я остановилась.
Праздник Октября сиял вокруг нас огнями иллюминации, шумел музыкой и песнями. Мы смешались с радостной толпой, двигались, держась за руки, отдались вихрю народного ликования.
Не раз виделась я затем с Лидией Николаевной, но никогда уже так беззаботно и весело не шло для нас время.
Радуюсь я тому, что именно в моей семье прочли вскоре после окончания свои произведения Бабель и Багрицкий. То была пьеса «Закат» и поэма «Дума про Опанаса».
Часто встает передо мной живой Маяковский. Мне удалось наблюдать за ним перед его выступлением в рабочем клубе. Молча мерил он широкими шагами кулисы, круто поворачиваясь на каблуках. Он волновался. Меня глубоко поразило, что великий поэт, известный своей задиристой смелостью и волей, полон беспокойства перед встречей с читателями, которые не скрывали нетерпения, ожидая его выхода. Это высокое чувство ответственности я встречала у многих советских художников разных поколений.
В дни праздников всегда вспоминается хорошее, посылаемое нам жизнью. А есть ли что-либо лучше, нежели человек, работающий для других людей, творящий для них! Народ и партия ценят творцов в области искусства. Ленин писал: «Талант — редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать».
Да, позади у моего поколения длинный свиток воспоминаний.
Тысяча девятьсот двадцать первый год тяжело дался Украине. Родной город показался мне неузнаваемым, обезлюдевшим. Знать и богачи бежали с уцелевшими белогвардейцами за границу, фабрики замолкли, не хватало топлива и хлеба. На центральных улицах стало пустыннее, чем на окраинах, и казалось, какой-то важный механизм, как в больных часах, вышел из строя и остановилась сама жизнь. И тем прекраснее представали в уединении сады и парки, величественнее освобожденные от людской суеты панорамы площадей, соборы, спускающиеся к Днепру холмы.
Незабываемо красив Киев. Ни один город Европы, будь то Рим, Будапешт, Вена, не производит на уроженцев красавицы украинской столицы того сильного впечатления, которого заслуживает. Весна в Приднепровье может конкурировать с прославленной примаверой Флоренции и Сицилии. И такой же волнующей красками и ароматами была она на пороге моего шестнадцатилетия.
Я блуждала по чудесному городу, любовалась фресками Васнецова в Софийском соборе, собирала букеты лесных цветов в значительно поредевшей святошинской роще и по вечерам посещала оперу, утратившую блеск, присущий ей в 1919 году. Украинское правительство находилось тогда в Харькове, и это тоже определяло монотонно-провинциальное существование Киева.
Я собиралась назад в Москву через Харьков, но неожиданное событие задержало меня, тем более что из-за него должна была срочно приехать и моя мать. Дело касалось баронессы Шиллинг, арестованной ЧК. Ее судьба взволновала моих друзей. Вскоре, при их помощи, она была освобождена.
Софья Ивановна Шиллинг в 1918 году поселилась в одной квартире с моими родственниками. Там же находилась и моя мать со мной, после того как с Андреем Сергеевичем Бубновым прибыла в Киев и начала, связавшись с украинским большевистским подпольем, работать в Красном Кресте.
Муж Софьи Ивановны, барон Шиллинг, был одним из главарей деникинской армии. Он находился на фронте, а его жена, перенесшая тяжелую операцию, осталась в Киеве. В нашей квартире, где для нее были реквизированы лучшие комнаты, первой познакомилась с баронессой я, тогда тринадцатилетняя, весьма общительная и бойкая девочка.
Жена видного белогвардейца оказалась певицей, солисткой императорского петербургского оперного театра. Она показала мне свои фотографии в пышных костюмах, пожелтевшие концертные афиши, прорвавшиеся на сгибах, многочисленные альбомы с тщательно наклеенными газетными вырезками. Софья Ивановна Тимашева-Шиллинг тяжело переносила разлуку со сценой. Она могла часами рассказывать мне, жадно ее слушавшей, о былых победах, о выступлении вместе с Шаляпиным, Собиновым и другими корифеями. О муже своем она говорила вскользь и нехотя.
Я привела к ней мою мать, и обе женщины заметно потянулись друг к другу. Они часто оживленно беседовали. Случалось, Софья Ивановна пела арию Полины из «Пиковой дамы» и Леля из «Снегурочки». Мать аккомпанировала ей. Баронесса говорила о том, что для нее все кончено в жизни.
— Недавно мне отсекли грудь, более того — вырвали сердце, раз я больше не могу петь. Знаю — это рак, а нет воли умереть. Все жду чуда.
Однажды мать принесла к Софье Ивановне чемодан, и они спрятали его в сундук, где у актрисы хранились ее прекрасные театральные костюмы. В эти именно дни со всем неожиданно приехал к жене барон Шиллинг. Огромного роста, белобрысый генерал как бы заполнил своей персоной не только нашу квартиру, но и четырехэтажный дом, присмиревший и затихший. В течение недели громкоголосый и самоуверенный барон и его адъютанты действовали на нас, как паралич. Затем они уехали, и Софья Ивановна передала через меня маме, что согласна выполнить ее просьбу. Я не знала, что могло это означать, но, хотя и невоздержанная на язык, на этот раз поняла, что не должна задавать лишних вопросов.
Лишь двумя с половиной годами позже узнала я, что в нашей квартире, у Софьи Ивановны, скрывался один из деятельнейших большевиков, голова которого была высоко оценена белогвардейской контрразведкой, а в сундуке ее лежали важнейшие документы из Москвы.
Несмотря на то что барон Шиллинг, когда красные подходили к Киеву, прислал за женой доверенных людей, она решительно отказалась ехать в эмиграцию и восторженно встретила приход советской власти.
Софья Ивановна происходила из крестьян. Брак с бароном Шиллингом не сблизил ее с светским столичным обществом, наоборот, вызвал скандал, тем более что певица не пожелала оставить театра.
Во время гражданской войны она окончательно разочаровалась в муже и, тяготясь никчемным существованием, искренне отдалась новым мыслям и представлениям о жизни. Моя мать помогла ей найти себя, и она связала свою судьбу с советской разведкой.
В самом начале двадцатых годов, сразу после гражданской войны, я приехала с фронта в Москву и поступила на рабфак при МГУ. Учились мы на лестничной площадке. Каменное здание на Моховой не отапливалось, и холод был такой, что учащиеся не снимали ветхих пальтишек и кожаных курток.
Но как горячи были наши сердца! Мы хотели все узнать и понять. Особенно влекло нас искусство. В театрах озябшими руками мы аплодировали «Чайке», на концертах впивали звуки симфоний Бетховена и Чайковского, в музеях жарко спорили о передвижниках и Врубеле, скульптурах великих русских ваятелей и знакомом нам по копиям «Мыслителе» Родена. В бывшем особняке купца Щукина, в Музее западной живописи, мы учились понимать Ренуара и Мане, любоваться полотнами Дега и Гогена, удивлялись Baн Гогу, а в доме Морозова на Кропоткинской рассматривали творения Пикассо.
Совсем недавно я услыхала от одного самонадеянного юноши пренебрежительное утверждение, что поколение, выраставшее в двадцатых годах, понятия не имело об импрессионистах, о химерах собора Парижской богоматери и, уж конечно, о Пикассо. Я ответила ему смехом и рассказала о страстных диспутах, происходивших в Политехническом музее, в актовом зале МГУ, в здании московского театра «Эрмитаж». Там выступали выдающиеся знатоки живописи, театра, музыки и литературы — Луначарский, Коллонтай, Покровский и многие другие.
Уже в те годы, когда в скверах Москвы футуристы выставили свои смехотворные, грубо размалеванные «скульптуры», народ с отвращением отверг эту попытку поругания прекрасного. Помню на Тверском бульваре сооружение, состоявшее из нескольких нагроможденных друг на друга ящиков и шаров, заканчивавшихся треугольником и деревянной гармоникой. Дававший объяснение «скульптор» назвал свое творение «Мать с ребенком». Я видела, как прохожие останавливались, слушали «деятеля искусства» и в сердцах плевались.
Позднее мне пришлось бывать за границей. В Париже я посещала традиционные весенние и осенние салоны живописи и скульптуры. Там наряду с полными творческой мысли, вдохновения и новаторства произведениями таких, например, художников, как Утрилло, были выставлены и рассчитанные на сенсацию, а то и просто на скандал полотна.
Помню холст с приклеенными пучками женских волос и горлышком разбитой бутылки. Название картины было «Ню» («Обнаженная»). Публика, проходя мимо, улюлюкала, громко возмущалась этим брошенным ей оскорблением, требовала, чтобы картину убрали. То был не единственный экспонат, вызывавший негодование. На постаментах стояли откровенно порнографические изваяния, рассчитанные на одобрение пресыщенных снобов и невежд.
— В этом есть нечто, понятное только немногим. До этого надо эстетически подняться, — мычали скудоумные «ценители», самодовольно подчеркивая свое превосходство над другими и принадлежность к самым передовым эстетам.
Иные посетители салонов, подчиняясь стадному чувству, поддакивали им.
В наши дни покровителями абстракционистов, особенно в Америке, являются архимиллионеры Рокфеллеры, Гарриманы, Уитни и другие. Они организуют музеи, поощряют и скупают полотна и скульптуры, содержание и форма которых лишены какого-либо смысла.
Жизнь большинства моих сверстников, родившихся в России, в чьих метриках помечен 1905 год, сложилась необыкновенно и часто могла бы послужить канвой для увлекательных литературных произведений. Мы помним, пусть не совсем четко, Октябрьскую революцию и уже ясно все последующие великие даты истории нашего народа. Мы видели и слышали людей, имена которых звучат как легенда.
Мне посчастливилось праздновать 1 января 1925 года в рабочем клубе, куда приехали Фрунзе, Лихачев и многие другие товарищи. Мы веселились до позднего в эту пору года рассвета, перепели хором все знакомые песни, от «Ермака» до «Смело, товарищи, в ногу», и плясали подлинно до упаду. Михаил Васильевич Фрунзе за ужином читал с большим умением сатирические басни Демьяна Бедного и шутил с мальчишеским задором. Он был еще совсем молод, румян и казался очень здоровым. А жить ему оставалось менее года...
Редко можно было встретить человека, более располагающего к доверию, простого, душевного, требовательного и строгого к себе и другим, нежели Иван Алексеевич Лихачев, в то время видный профсоюзный деятель и руководитель автостроения. Черты его лица — сильный рот, чуть вздернутый, что называется «русский» нос, умные глаза с добродушно-лукавым прищуром — напоминали лицо Кирова, на которого он походил также неутомимо деятельным характером и широтой натуры. Это были закаленные в многолетних различных битвах опытные бойцы и командиры партии, ученики Ленина, плоть от плоти народа, лучшие из его сынов. Труд всегда был их радостью.
В этот памятный вечер Лихачев подарил нескольким товарищам замысловатые зажигалки, смастеренные им в часы досуга. Он поднял тост за процветание нашей промышленности и предрек, что скоро многие из присутствующих смогут ездить на превосходных советских автомобилях.
Был среди нас и зачинатель советского радиопроизводства Александр Васильевич Шотман, член партии с 1899 года. Шотман был страстно, фанатически увлечен своим делом. На встречу Нового года он привез новый радиоаппарат и долго возился с антенной. И, несмотря на то что на вечере опыт с радиовещательным ящиком, похожим на старинный граммофон, провалился, и кроме шипа и хрипа, мы ничего не услыхали, произнес заразительно убежденную речь, в которой заявлял, что пройдет совсем мало времени и наши радиоаппараты превзойдут качеством знаменитые итальянские. Впервые тогда услыхали мы о нарождающемся телевидении, но не смогли себе даже представить, что это такое.
Страна наша росла и растет на удивление всему миру. Стали явью самые дерзновенные наши мечтания. Вера в советский народ, в то, что наша социалистическая система даст небывалые в истории возможности для бурного развития, оправдалась.
ЛОНДОНСКИЕ ВСТРЕЧИ
Хотя бездна разделяла коммуниста М. М. Литвинова и ярого консерватора У. Черчилля, было нечто схожее в их наружности. Низкорослые, плотные, широкоплечие, с большими мясистыми лицами, они оба отличались проницательным, ироническим умом и титанической волей.
В крепко сомкнутых больших губах Литвинова отражалось столько саркастической выразительности, а в глазах было столько полемического жара, что не терпелось услышать его раньше, нежели он начинал говорить. Находчивый в любой беседе, знающий очень много в различных областях, он всегда удивлял меня необычной для столь грузного человека подвижностью, энергией голоса и жеста.
В декабре 1929 года, за несколько дней до отъезда в Лондон первого Чрезвычайного Полномочного посольства СССР, наркоминдел Литвинов вызвал меня к себе в здание МИДа, что на Кузнецком мосту.
— Вы едете в Англию, — сказал он, испытующе разглядывая меня. — Это накладывает немалую ответственность. Придется жить как в стеклянной банке. Обозревать нас будут со всех сторон, и не столько друзья, сколько недруги.
Максим Максимович протянул мне белогвардейскую парижскую газетку «Возрождение», где сообщалось, что я дочь дворника и прачки, дама весьма зрелых лет (мне в то время было ровно двадцать четыре года), с сомнительным прошлым. «Вот кого, может быть, отныне будет принимать лондонский высший свет», — патетически заканчивалось это измышление.
Литвинов отложил газету и продолжал сухо:
— Каждый советский гражданин должен быть не только вдесятеро осмотрительнее всякого другого, но и обязан высоко нести знамя своей страны, чтобы не осрамиться и не принести вреда. Все надо предусмотреть и помнить, что на войне как на войне. Любой пустяк может превратиться в сенсацию. От вас требуется безукоризненность поведения и высокая культура.
Нарком поинтересовался моими знаниями в области общественного строя Англии, ее истории и литературы. Мы заговорили о последних книгах Голсуорси, Стрэчи, Вирджинии Вулф и Лоренса. Литвинов метко охарактеризовал мне творчество разных литераторов. Много лет прожил он в Англии и знал ее досконально.
Разговор с Литвиновым, значительный и полезный, более походил на экзамен, который мне пришлось сдавать без основательной, впрочем, подготовки.
Мы помянули крупнейших политиков прошлого века: Питта, Гладстона, Дизраэли — могучих колониальных хищников и ловких политиков. Максим Максимович с подлинным мастерством воссоздал психологические портреты современных руководителей лейбористской и консервативной партий — вкрадчивого Макдональда, барственного, недоверчивого Ллойда Джорджа и напористого дельца Болдуина.
— В Англии поначалу вам будет нелегко. Страна эта сложная, с архаическим привеском — королевским строем, с множеством предрассудков, отжившим этикетом, условностями. А теперь поговорим о предметах простейших.
Сказав это, Максим Максимович пригласил меня к столику, на котором был сервирован завтрак. Вместе с нами уселся и сотрудник протокольного отдела. Не отводя от меня маленьких глаз, ярко блестевших под стеклами очков, нарком разложил тугую салфетку на коленях и принялся есть.
— Это что, проверка? — спросила я, улыбаясь.
Я легко справилась с трудностями, но возилась долго, пока освоила, как надобно очистить на весу персик, пронзенный вилкой. Требовалась тренировка.
— Спаржу едят руками, — учили меня, — когда затем подается чашка с водой, следует омыть только пальцы.
Мне припомнилось, как придирчиво наставляла меня мать в искусстве держать себя за столом. С детства я знала, что вилки вошли в обиход еще в средние века. Отец поддразнивал меня: «Хорошо есть руками, будто московские бояре допетровской Руси: как ни верти, именно пальцы прототип вилок, а зубы — ножей».
Аристократическая Англия тридцатых годов свято охраняла традиции. На званых обедах главным было ни качество еды, а сервировка. Но рестораны для служилого люда, которого становилось все больше, подобно французским бистро, с их спешкой, несложной посудой и автоматами, значительно упрощали трапезу.
Прощаясь со мной декабрьским днем 1929 года, Литвинов предупредил, что редактором моим отныне будет он сам. Так оно и было, пока я находилась на острове. О лучшем, впрочем, вряд ли мог бы мечтать журналист и писатель.
Вскоре маленькое суденышко доставило меня из Кале в Дувр. Особый вагон, предназначенный для прибывших работников посольства, отправился в Лондон. Я везла при себе голубой небольшой чемоданчик с предметами туалета и всем самым необходимым в пути. Он был таинственно похищен у меня по пути в столицу. Впрочем, на другой день, явно разочарованный в его содержимом, сотрудник какого-то важного департамента с извинениями вернул мне украденное, невнятно ссылаясь на вора, которого задержали. Мыло, губка, пижама и русско-английский словарь оказались на месте.
Жадно вбирали мы новь. Даже черные и желтые туманы, плохо влиявшие на здоровье, были интересны.
Сколь многим обязан каждый из нас литературе. Она первый проводник но незнакомой стране. Глазами писателей и героев их книг взираем мы поначалу на города и людей неведомых доселе земель.
Шекспир и Вальтер Скотт рассказывали мне о старой, веселой Англии, и, выйдя на улицы Лондона, я искала в лицах встречных черты Тома Джонса и Дэвида Копперфильда. Филдинг, Диккенс, Шарлотта Бронте вели меня по старым кварталам британской огромной столицы. И без путеводителя, как на давно знакомые дома, взирала я на Вестминстерское аббатство, Тауэр, Бакингемский дворец. А «Пигмалион» Шоу давно породнил меня с рынком подле Ковент-Гардена.
Постепенно литературные ассоциации распадались, не мешая более знакомству с жизнью современной мне страны. Довелось вращаться в различной среде, и это значительно обогащало впечатления.
Леди Мюриал-Педжед, представительница старейшего аристократического рода, оказалась членом Общества англо-советской дружбы и милостиво взялась готовить меня к приему у королевы и затем посещению бала во дворце. Первым и тягостным испытанием была церемония представления меня этой коронованной персоне.
В 1930 году английский двор сохранял неприкосновенным церемониал, установленный процветающей королевой Викторией, чье царствование совпало с завидным могуществом колониальной державы. Леди Мюриал-Педжед, уже немолодая, сухощавая, тщеславная владелица средневекового замка и многих банковских акций, придирчиво заставляла меня упражняться в сложнейших поклонах.
— Сохрани вас бог нарушить этикет, об этом напишут все газеты, — предупредила она.
В апартаменте королевы мне надо было, кланяясь, пятиться к двери, чтобы ни разу не повернуться к ней спиной. Необходимость посетить Бакингемский дворец подавляла. Я понимала, как нелепо и вместе лживо такое почти противоестественное знакомство.
Но профессиональная пытливость, охота рассказать в подготовляемой мною книге «Очная ставка» о забавном осколке далекого прошлого, каким стала в двадцатом веке монархия, толкали меня с непреодолимой силой. Действительно, без этих приемов и раутов вряд ли удалось бы мне впоследствии воспроизвести бал королевы Виктории в «Похищении огня». За восемьдесят лет, отделяющих мою встречу с королевой Мери от викторианского расцвета, церемониал торжеств в замках королевской Англии почти не изменился.
В назначенный день автомобиль доставил меня в ничем не примечательную резиденцию королевской семьи — Бакингемский дворец. У подъезда поджидал меня седовласый министр двора. Молча шли мы по темным коридорам и лестницам. Было холодно и сыро. У одной из дверей лакей помог мне снять шубу. Я вошла в королевские покои.
Возле вышитой японской ширмы, у столика с вазой цветов, стояла русоволосая женщина в платье до пола, с затканным жемчужинами высоким стоячим воротником. На лице ее, набеленном и нарумяненном, не было морщин, а его овалу могла бы позавидовать восемнадцатилетняя девушка. И, однако, королева показалась мне старухой. Это противоречие я объяснила себе не сразу. Никакая пластическая операция не смогла омолодить ее глаз с красными прожилками и потухшим взором. Они казались еще более утомленными и дряхлыми на неестественно юном лице. С безразличием манекена смотрела на меня королева.
Вспомнив все, чему меня учили, кланяясь, я подошла ближе. «Как вам нравится осенний салон живописи в Париже?» — ледяным тоном, по-французски, спросила ее светлость. Я ответила малозначащей вежливой фразой. Разговор не вязался, спасла тема погоды и различия в климате России и Англии.
Кивком головы королева прекратила аудиенцию. Пятясь к двери и трижды склонившись в традиционном придворном поклоне, я заметила, как от приседания спустились петли на моем чулке. Но кто-то услужливо открыл позади меня дверь, и я поспешно отступила в коридор. Спектакль, в котором мне была отведена глупейшая роль, наконец кончился. Но посещать королевские балы мне пришлось еще не раз.
Я постепенно освоилась с городом и, готовя книгу об Англии, ездила по стране и бывала подолгу в таких промышленных городах, как Глазго, Шеффилд, Манчестер. В семьях Шоу и Веббов я увидела Бертрана Рассела, уже тогда признанного социолога, философа и общественного деятеля — противоречивейшего эрудита, который, блестяще владея софистикой, мог опровергать и возводить любые теории с легкостью жонглера. Увлекающийся, нестареющий, кидающийся от одной крайности в другую, он был, однако, безусловно исполнен самых добрых намерений, но, считая себя гением, принимал за истину только то, что породил сам. Когда Беатриса Вебб с присущей ей стремительной самоуверенностью пыталась оспаривать очередную теорию Рассела, он едва подавлял ярость и прокалывал ее насмешкой. В холодные дни Рассел любил подолгу греть спину у камина и затем усаживался в кресле, скрывая под насмешливой улыбкой очень доброе, по существу, лицо со слабыми глазами и юношеской шеей.
О чем только не толковали! Фашизм смертоносной змеей подползал к человечеству, но его-то почти не примечали. Сидней Вебб старался проникнуть в сокровенные тайны Японии. Не попытается ли она отторгнуть Австралию, столь нужную Великобритании? Осуждали политику Макдональда, фиглярство Мосли, искали магического заговора от экономических кризисов и безработицы.
В первый год жизни в Англии познакомилась я с двумя интересными людьми: виднейшим экономистом, приобретшим мировую известность, Джоном Кейнсом и его женой — талантливой балериной из труппы Дягилева, уроженкой Петербурга, Лидией Лопуховой.
Выйдя замуж, она оставила балет и выступала только на благотворительных концертах и очень редко — как профессионалка, с прежними своими партнерами. Мне удалось одни раз восхищаться ее дарованием. Она появилась с двумя молодыми юношами в танце, поставленном еще Дягилевым, введшим в балет подобное трио — одна женщина и двое мужчин. На этом же вечере выступил Лифарь, заслуженно считавшийся непревзойденным танцором своего времени.
Лидия Лопухова не раз посещала Советский Союз и Ленинград, где находился ее брат, балетмейстер. Она заметно грустила о родине. Дом Кейнсов был по-русски гостеприимен и прост. На втором этаже находилась студия балерины — стены из зеркал, балетные станки. Внизу, в кабинете и гостиной, часто бывали гости. Кейнс и его знакомые обсуждали новейшие книги по экономике, появившиеся в разных странах.
«Закат Европы» Шпенглера, мрачное послевоенное исследование, все еще занимало умы. Кейнс, как опытный метеоролог, предвидел экономические грозы, землетрясения, связанные с кризисами в Америке и капиталистической Европе, и их страшные последствия. Цифры, которые он называл, казалось, выстраивались полчищами безработных и рушили мнимое благополучие острова, прокладывая трассы войнам.
Джон Кейнс предсказывал экономический спад капиталистических держав и возможный подъем обнищавшей после поражения в первую мировую войну Германии. Он называл Гитлера и его партию мухой цеце, укус которой может оказаться смертельным. Его прогнозы были зловещими.
Кейнс, высокий, сдержанный человек с малоприметной внешностью, сероватыми, гладко зачесанными волосами, сохранил в себе юношескую непосредственность и прямоту. Его красила редко появляющаяся, застенчивая улыбка. Лидия Лопухова-Кейнс, маленькая женщина, была олицетворением той обволакивающей женственности, которая влечет больше красоты. Не имея детей, чета Кейнс относилась друг к другу влюбленно. Оттого, вероятно, так хорошо чувствовали себя гости в их небольшом, типично английском коттедже.
У них я увидела Дмитрия Мирского, чьи статьи читала всегда с интересом. Этот князь, отказавшийся от титула, был чтим в английском интеллектуальном и аристократическом обществе. Он преподавал в колледже и часто выступал в прогрессивной прессе с позиций коммунистов. Биография его была более чем противоречивой и необычной. В начале революции он враждовал с большевиками, был полковником белой армии, уехал в Англию, где собирался написать книгу против Ленина. Но, работая над трудами Ленина и Маркса, был побежден и порвал с прежними своими взглядами, вступив в Коммунистическую партию, и боролся за новую идею, которой решил служить своими знаниями до конца. Эта разительная метаморфоза ошеломила англичан, но влияние его оставалось значительным. Горький переписывался с ним, ценя его как литературоведа и критика.
Суровый, тощий, черноволосый, чем-то похожий на хана Кончака из «Князя Игоря», неуступчивый в споре и побеждающий благодаря убежденности, эрудиции и памяти, он никогда не был понят мною до конца. То была трудная и сложная натура.
Лишь через год после обоснования в Лондоне познакомилась я с знаменитым режиссером и театроведом Федором Федоровичем Комиссаржевским, родным братом великой русской актрисы Веры Комиссаржевской. Талантливый человек, как бы скромен и скрытен ни был, обязательно проявится, как только прикоснется к источнику, питающему его дарование. В первую встречу разговор велся о предметах, далеких от искусства, и Комиссаржевский молчал, сомкнувшись, как раковина. Но затем мы встретились на премьере пьесы Шоу «Плохо, но правда». И казалось, раковина распалась, обнажив жемчужину. Комиссаржевский говорил о театре, особенностях игры актеров и постановки с необыкновенным блеском. Чем-то он напоминал мне Луначарского, постигшего до дна законы театра.
Имена великих артистов Сиддонс, Гаррика, Дузе, Щепкина, Ермоловой и, наконец, наших современников, таких, как Станиславский, Садовский, Мейерхольд, зазвучали, сопровождаемые безусловной оценкой особенностей их таланта.
Комиссаржевский скорбел о том, что театр на Западе подчиняется спросу подчас невежественного зрителя и артисты снова, как в средневековье, стали кочевниками, играют в угоду пошлякам, святотатцам, поругавшим прекрасное. Он восхищался могучим расцветом зрелищ в России и сказал, что, выполнив старые контракты, вернется домой, куда должен был отправиться и его сын Виктор.
Спустя несколько дней, когда Федор Федорович пришел к нам, я спела ему несколько арий. Затем я попросила Комиссаржевского дать мне несколько уроков драматического искусства. Так стала я ученицей Ф. Ф. Комиссаржевского, изучая с ним в течение нескольких месяцев оперу «Пиковая дама».
В том же 1931 году в Англии вышло большое, отлично иллюстрированное исследование «Театральный костюм». Он подарил мне эту книгу и сделал на ней следующую надпись:
«Вумного написать ничего не могу, а буду всегда помнить о том хорошем времени, которое проводил у Вас в этом нелепом аглицком палаццо, и особенно о том удовольствии, которое получил от Вашего пения и наших занятий, милая Галина Иосифовна.
Ваш Ф. Комиссаржевский.
Февраль 1932.
Лондон»
Не всегда уроки со мной доставляли ему, однако, удовольствие, так как сценического таланта у меня не было. Подчас в самых напряженно-трагических местах оперы я вдруг чувствовала всю ее условность и едва сдерживалась, чтобы не улыбнуться. Сцена на Канавке пленила меня музыкой. Стихия звука захватывала, но действие, сопровождавшееся пением, а не простой речью, разрушало чары. Страшась быть смешной и ложно-патетической, я не исполняла того, чего хотел от меня Комиссаржевский-режиссер.
Но дикция и жестикуляции мои с его помощью улучшились, и я начала постигать законы театра. Однако нередко он останавливал меня во время какой-либо мизансцены резким:
— Не то.
Первую большую арию Лизы «Откуда эти слезы» Комиссаржевский заставил меня исполнить, лежа на кушетке, лицом вниз. И впервые я позабыла, что пою, и ощутила себя в роковом тупике, как та, кого должна была изобразить. Руки и ноги мне больше не мешали, условности отпали, я как бы осталась наедине с горестным предчувствием и любовью.
«Мои девичьи грезы, вы изменили мне...» — продолжала я, слегка приподымаясь.
— Вот и нашли правильную интонацию, — похвалил Федор Федорович, — пароксизм горя проходит, и Лиза овладевает собой. Посмотрите, как, согласно музыке и ремаркам Чайковского, видится мне эта сцена.
Комиссаржевский был великолепным актером, и подчас не только я, но и моя аккомпаниаторша, забывая обо всем, следили только за ним, когда, перевоплощаясь, он исполнял ту или иную мизансцену гениальной оперы.
Новатором и смелым творцом сценического действия считали его английские зрители и те актеры, с которыми он работал. В Лондоне шло несколько поставленных им пьес, и все они, будь то классический или современный репертуар, вызывали шумные споры и похвалы. Он, как сам мне восторженно говорил, учился у Гордона Крэга, Станиславского, Вахтангова и Мейерхольда. Ему нравился из молодых советских постановщиков Охлопков. Смысл его некоторых рассуждений был таков:
«Театр и жизнь неотделимы не только в репертуаре, но и в трактовке показа. Опера — тот же театр. Речь или пение — едины. Фальшь — следствие неумения и неталантливости. Владеть телом, голосом, словом — значит, освободиться от пут. Только тогда жди вдохновения. Шаляпин доказал, что опера может превзойти любое иное театральное искусство».
Комиссаржевский был прав.
В ту пору он собирался на Родину, по которой постоянно тосковал. Мы ездили с ним в Борнмут. Морские волны расползались у песчаного берега, как медузы. Но искривленные, встрепанные деревья твердили о жестокости ветров, качающих стволы, как мачты в шторм. Папоротник и роща напомнили нам Россию. Вскоре Комиссаржевский уехал. В последнюю встречу он познакомил меня с сыном Виктором, которого очень любил и считал одаренным.
— Идите на сцену, пойте, — убеждал он меня, прощаясь, но я не исполнила его совета.
Я разъезжала одна по рабочим окраинам. Как-то в беднейшем квартале вест-индских доков, где жили по преимуществу индийцы и негры, попала в опасную потасовку между полицией и бастующими докерами. Только под утро мне удалось вернуться домой неузнанной. Особенно памятно мне это происшествие потому, что, едва приведя себя в порядок, я должна была в тот же день в качестве хозяйки присутствовать на важном, устроенном для Уинстона Черчилля обеде. Тогда-то я и увидела его впервые.
Если Кейнс выглядел как скромный профессор университета, а лорд Антони Иден — как профессиональный киноактер, то на Уинстоне Черчилле лежала особая мета. В одном из музеев Лондона я подолгу задерживалась возле лат, некогда служивших Генриху VIII. Король этот родился колоссом. Ширина плеч его была неимоверной, как и высота грудной клетки. Он, по свидетельству современников, так же как Черчилль, мощным черепом и подбородком напоминал бульдога.
Почудилось мне нечто первозданное в коротконогом, широченном, бочкообразном Уинстоне Черчилле. Сила ума и тела исходила от этого наследственного аристократа. Вскоре первое впечатление, как это бывает нередко при встрече со сложным человеком, изменилось. Глядя на крепкие челюсти гостя, улавливая хитрецу, мелькавшую в его небольших глазах, подмечая незаурядное умение слушать, молчать и отвечать вовсе не так, как ожидалось, я поняла, что передо мной очень властный, рассудочный и вместе темпераментный политик, один из тех, кого природа создает в порядке исключения.
Это был отважный консерватор, деятельный представитель своего класса, идущий к избранной цели, не считаясь с препятствиями и потерями. Пожалуй, из всех людей на политической арене Великобритании ни один не казался мне тогда столь значительным. Он открыто защищал противоположные нам идеи, вызывая все же уважение этой откровенностью. В обычной застольной обстановке Черчилль казался веселым и остроумным собеседником с несколько даже старомодными рыцарскими манерами, особенно по отношению к дамам.
Уинстон Черчилль продолжил и завершил плеяду обладавших мертвой хваткой колонизаторов: великого мастера интриг, торговавшего народами и странами, — лорда Дизраэли, многословного Пальмерстона, путаного философа Бальфура и нерассуждающего слугу Сити — Керзона.
МОЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Не много на свете таких привольных, прекрасных мест, как Верховажье и Тотьма. Покатые холмы, леса, не по-северному приветливые душистые луга, прозрачные, веселые извилистые реки — все это первозданно и самобытно. Я дивилась тому, что суровый климат не смог наложить свою печать угрюмости и печали на окружающую природу. Она радовала сердце и будила надежды. Нравилась мне здешняя речь, не цокающая, как в Архангельской области, откуда я приехала в Вологодскую область.
Никто не говорил мне более: «Дохтурса, цаю не хоцес ли? Водицки хоцес?» И я не обращалась к встречному ребенку с просьбой: «Повопи-ка мамку-то».
За время жизни в Вельском районе в середине сороковых годов и работы в деревнях я вполне освоилась с местным произношением, и меня не раз считали уроженкой этого лесного края. Вологодцы же хотя и сильно окают, но говорят на среднерусском наречии.
Вельские жители недоверчивы, прижимисты, скуповаты, в Верховажье народ показался мне добрым и гостеприимным. Два дня, проведенные мною у пасечников — супругов, удивительно напоминавших Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну, — умиротворили душу. Старикам было уже далеко за семьдесят. Их рассказы о пчелах не уступали поэтическим откровениям Метерлинка. Давно уже они не защищались от пчелиных укусов ни сетками, ни перчатками. Старики верили, что своим долговечием обязаны не только меду, но и пчелиному яду.
Рой встречал их торжественным маршем, веселым, согласным гудением. Маленькое королевство неутомимо трудилось.
Пасечник говорил:
— Нет мудрее бессловесной твари, нежели пчела. Мал золотник да дорог. Читал я, что боги языческие питались нектаром и амброзией. Так ведь это и есть мед. Он очищает кровь и молодит тело. Вы пчел не бойтесь. Они доброго человека чуют, а особенно работящего и смирного.
Вечерами пасечник читал «Мифы древней Эллады» и «Жития святых» с одинаковым увлечением.
Старушка потчевала меня перед сном медом на блюдечке и испуганно поверяла шепотом, что старику в последнее время неможется. Просила советов и каких-либо порошочков.
— Мы, почитай, пятьдесят лет живем уже вместе, и детей у нас не было, так вот всю любовь-то друг на друга и возложили, — говорила она мне.
А едва она уходила, являлся старик со стаканом меда и советовался насчет старухи, у которой вот уже год не все ладно с головой, очень забывчива стала.
Вскоре, душевно поздоровев, напутствуемая добрыми пожеланиями пасечников, я отправилась к косарям, находившимся в деревне километрах в двадцати пяти от Верховажья.
В глухом селе, живописно расположенном под холмом, у самого леса, поселилась одна из трех бригад косцов.
Я устроилась у вдовы, болевшей раком. Зная о скорой смерти, она то истово молилась, то изощренно кляла бога. Детей и родных у нее не было, и целый день в нашей светелке толпились болтливые соседки и убогие калеки: горбунья, слепец и глухой, однорукий старец.
Стены избы были с пола до потолка оклеены пожелтевшими газетами двадцатых годов. Над моей постелью висела литография, изображавшая все семейство Романовых задолго до мировой войны. Старые ходики мерно отсчитывали время, и сквозь чуть пыльные фикусы едва пробивался свет в маленькое оконце. Мне доставляло неизъяснимое удовольствие перед сном при мерцающем свете лучины читать на своеобразных обоях сводки с фронтов гражданской войны, декреты рабоче-крестьянского правительства, подписанные Лениным, отрывки статей о соглашателях-меньшевиках и о победах над белой армией.
Иногда в ногах моей постели усаживалась вдова-хозяйка. На исхудалом лице ее цвета необожженной глины навсегда залегла гримаса испуга.
— Рак у меня, — шептала она. — В наших краях раньше такой хвори не знавали. От старости больше кончались. Я и сейчас не верю, что будто от рака этого помирают. Я так думаю, не от него, а потому, что пора пришла. Двум-то смертям не бывать, а одной не миновать. От нее не укроешься, где-нибудь да споймает. А болезнь — так, повод один, да и все тут. Вот слепец говорит, нынче, когда люди полезную дорогу построили, смерти за нами легче стало добираться. С нею и раки и разные другие муки едут. — Вздохнув и пожевав сухими губами, она продолжала: — Хотела я эту самую дорогу посмотреть, сорок верст до нее ходу, да горбунья отговорила. Пошто идти, нечего смотреть, говорит, дорога-то и не железная вовсе, а так, одни деревяшки настланы да бруски.
В соседней избе безмужние бабы, собираясь под вечер в праздник, пили горькую. Они дивились, что я отказываюсь от угощения, не пью.
— Чего бережешься? Ты от работы, а хозяйка твоя от рака изойдете, а сивуха — лекарь.
Не часто случалось мне принимать в окрестных селениях роды. Не было мужчин, тосковали женщины. Обычно я ездила на вызов, оседлав тощую и длинную, как Росинант Дон Кихота, трофейную лошадь, названную Фокусом. С ларем, в котором находились инструменты и лекарства, иногда с рассвета до поздна объезжала я верхом стоянки косцов и деревни, где не было медработников. Это были счастливые дни. Опустив поводья и высвободив ноги из стремени, я предоставляла Фокусу везти меня по безлюдным и нарядным лугам Вологодского края.
Я погружалась в прошлое, как в стога ароматного сена, встречавшегося на моем одиноком пути, и ловила себя на том, что говорю мысленно с теми, кого уже нет в живых. Хорошо было петь, присоединившись к хору птиц, и даже печаль не причиняла острой боли.
К осени пошла я работать в больницу.
Там жили мы тихой, однообразной жизнью. Вечерами зажигали лучники и коптилки. Прошедшая война все еще давала себя знать в этой глуши. Для больных ставились в тамбуры отхожие ведра, а здоровые бегали за деревянные загородки над ямой. Мылись в полутемной бане с огромными бочками, в которых налита была холодная вода с плавающими льдинками. Из дымящегося чана черпали ведром и наливали в деревянные шайки кипяток. В Вологодской области мы мылись «по-черному» и нагревали воду раскаленными камнями. Больничная баня казалась нам роскошью, как в древности римские термы.
В дежурках лечебных корпусов по вечерам медработники играли в домино и шашки.
Один из них, бывший ротный фельдшер Зайцев, или Зайчик, как мы его звали, был прямодушный старик, всю жизнь скитавшийся по глухим углам родины. Никогда не читывал он Пришвина, но его образный язык и рассказы о лесных чащобах, о деревьях, птицах и животных напоминали мне лучшие страницы книг этого чудесного писателя.
Было в Зайчике что-то детское, и в характере, и в лице, широком, без морщин. Несмотря на то что он перешагнул за пятьдесят, глаза его сохранили выражение неведения и чистоты, а бесхарактерные, толстые губы всегда складывались в добрую улыбку. Никогда он не
сердился, терпеливо переносил придирки больных, искал возможности помочь товарищу. Однажды он пришел ко мне крайне взволнованный и протянул письмо. Писал ему сын из госпиталя.
«Я умираю, папаня. Медицина бессильна исцелить меня. Умираю от немецкой пули, засевшей в позвоночнике. Был ты мне хорошим отцом и всегда честным человеком. Я верю в это теперь и всегда верил, да вот позабыл такого отца. Годами не отзывался. Теперь смертью искупаю. Не поминай лихом своего сына Сергея Зайцева».
— Вот и весь сказ, — добавил Зайчик и разрыдался.
Была у него также дочка Наташка.
— Ей уже двенадцать, в школе учится, — рассказывал нам Зайчик с нескрываемой гордостью.
Наташка, когда несколько лет назад отец нашел семью, бежавшую от немцев в далекий тыл, ответила ему самостоятельно написанным большими каракулями письмом. Я не раз перечитывала эти строчки. «Здравствуй, папочка, — писала девочка. — Я тоже люблю клены, воробушков и всяких птиц. У меня в ведре живут карась и карасиха. Приезжай скорее».
Заходя ко мне в корпус, Зайчик делился своими мыслями о будущем. Он собирался к семье.
— Жить буду, конечно, до самой смерти с Наташкой и старухой и опять же где-нибудь в глуши, в деревне. Мое дело — облегчать людям физические страдания. Опытный фельдшер что правая рука врача. Будем мы с Наташкой по грибы и ягоды ходить, но птиц и зверя больше бить не буду. Упаси бог. Я теперь цену жизни познал. Пусть себе живут, всякое дыханье славит господа. Так-то.
Однажды утром Зайчик зашел ко мне в неурочное время.
— Умру я, — сказал он твердо.
— Нет, — ответила я. — С чего только вы это взяли?
— Сон ли, видение ли мне было, чудится, едем мы с вами на лодке. Берег в цветущих деревьях. Подъехали к нему близко, вы вдруг выпрыгнули, а я остался, лодку мою от берега отнесло.
— Глупости, видно, расшалились нервы у вас, да и каша гороховая на ужин тяжела, — засмеялась я.
На следующий день, играя в шашки, Зайчик медленно сполз со стула на пол. Лицо его побагровело, распухло, сознание исчезло. Два дня все мы тщетно пытались ослабить отчаянные хрипы, вырывавшиеся из его груди, привести умирающего в сознание. Так и не удалось. Скончался Зайцев от кровоизлияния в мозг. Смерть его всех нас жестоко поразила. У гроба фельдшера я выплакала свое горе.
На убогих дрогах повезли сосновый, неструганый гроб в лес и зарыли Зайцева на опушке под деревом. Сообщили жене и Наташке, чтобы не ждали больше мужа и отца.
Автоматически двигалась я в те годы по жизни, стараясь никогда, кроме часов для сна, не оставаться без дела.
Вскоре нежданно в Княж-Погосте встретила я старую подругу. Благодаря ей я поступила на работу в «Помощь на дому» одного из медицинских отделений Печорской дороги.
Днем и ночью по непролазной грязи ходила я по пустырям Княж-Погоста в бараки и домишки строителей и железнодорожников. Более угрюмого и нелепо расположенного человеческого становища, нежели Княж-Погост, в те годы нельзя себе было представить. Точно ребенок, играя, раскидал кубики, которые кое-где сгрудились в кучу, а то далеко разлетелись по сторонам, образовав дома. И только огромное, похожее на сундук, здание Горного управления казалось примечательным в этом городке, поднявшемся на погосте, где схоронен некий опальный князь, умерший от тоски и лихорадки по пути в цареву ссылку.
Работала я усердно и вскоре получила назначение врачом и начальником (на военизированном транспорте — все начальники) вновь создаваемых детских яслей Северо-Печорской железной дороги.
Один из самых могучих двигателей на земле — это голод по творческому труду. Я испытала его в полной мере и с обычной для тех лет горячностью, вместе с несколькими простыми женщинами, набросилась на созидательную работу.
В день, когда мы, двенадцать служащих, пришли в дом, строящийся под ясли, столяры и штукатуры оставили его. Нам, будущим врачам, воспитательницам и няням, предстояло побелить дом, вымыть его, обставить и принять маленьких детей. И мы взялись за дело с теми вдохновением и радостью, которые всегда служат залогом успеха. Мы привезли мебель, сделанную в соседних столярных мастерских. Художники трудились вместе с нами. Нет ничего невозможного для людей, целеустремленных и захваченных трудом. Всем нам страстно хотелось создать среди чахлого леса и болот, в глухомани, маленькое чудо, способное осветить людям жизнь, как столь редкое в этом крае солнце.
Для большинства из нас детский очаг, что мы создавали, стал как бы смыслом бытия, родным домом, к которому всегда неслись наши мысли.
И вот детские ясли открылись. Маленькие кроватки, стульчики, столы, вешалки, шкафчики были украшены рисунками отличных безымянных художников. Посредине игралки зацвела искусственная, но столь же нежная, как и живая, яблоня. Вплоть до платьиц и рубашонок, все шилось любящими руками. На большой застекленной террасе в ватных удобных конвертах подолгу спали наши малыши. Все, чему научилась я, посещая детские сады наших прославленных московских заводов либо знаменитой воспитательницы Марии Монтессори, с которой познакомилась в тридцатых годах в Лондоне, пригодилось нам теперь, когда мы строили ясли в маленьком железнодорожном поселке Микунь. Дни, а часто и ночи проводила я среди детей. Но грустила я в этом северном сумрачном крае по матери и родному дому.
Вот случайно уцелевшие записки тех дней:
«8 августа 1947 года.
За окном три бураково-красных вагона, того же цвета кирпичные дома, серые пни, раскидавшие по земле щупальца спрута, а небо как серая тряпка с оборванными краями. Жидкие ветки хилых сосен на горизонте да гнилостный запах болот. Такова Микунь! Где-то наступило уже лето. Об этом твердят календари. Здесь же холодно и сыро.
Слушаю часто музыку по радио. Читала о влиянии звуков на человека. Они способны толкнуть на преступление, вызвать милосердие, буйство, умиротворение. Для меня музыка как запахи. Она поднимает из недр подсознания с полочек памяти забытое. Звуки, будто вода, размывают душу, и в поднявшемся со дна песке появляются чистые песчинки золота. Я думала — нет его во мне. Мелодии Скрябина, Шопена, Шумана, симфонии Калинникова, Чайковского, Берлиоза зовут к жизни, к любви, к счастью.
Я посвящаю эти записки моей матери. Когда мы были вместе, сердце цвело, а за последние годы точно злые копыта вытоптали все, и микуньский пень, что напротив моего окна, как порченый больной зуб, торчит в сердце».
Судьба, однако, порадовала меня, и вскоре я оказалась среди родных, в доме матери моей в Семипалатинске.
МАТЬ
Мать. Их миллионы, и каждая несет в сердце подвиг — материнскую любовь. Женщины всех рас, говорящие на разных языках, исповедующие противоречивые религии, воспитанные под давлением несхожих культур, опаленные солнцем и едва согретые им на Крайнем Севере, — все они сестры в едином беспокойном порыве чувства. Одинаковы, когда подносят ребенка к груди, белой, желтой, черной или коричневой. Одно и то же томящее, радостное чувство испытывают они, склоняясь над своим детенышем, где бы он ни находился: в колыбельке из тростника, пальмовых плетенках, в мешке из тюленьей шкуры или сложной коляске-домике на рессорах. Сердце их говорит на едином языке мира, и каждый, если в нем есть хоть атом человечности, скажет: «Лучшая мать — моя мать», ибо нет предела ее нежности, кто бы она ни была, где бы ни жила, ни росла, какая бы кровь ни заставляла биться ее сердце.
Мать. С годами слово это ширится, но как часто значимость его постигается тогда, когда уже некого им звать. В детстве мы, как маленькие кенгуру, счастливы, забираясь в невидимую сумку под сердцем матери. Потом начинается отрыв. Наступает время становления личности. Природа зовет к материнству. Дробятся поколения, а когда мы сами воспитываем своих детей, приходит просветление и, увы, следом позднее раскаяние.
Мать. Несчастен тот, кого не согревает воспоминание о ее руках и голосе, и по отношению к матери можно определить величие сердца. В мире есть женщины, позорящие достоинство человека, но в мире нет плохих матерей. Их не больше, чем уродов в огромной массе нормальных людей. Если бы столько добра, сколько излучает сердце матери, излучалось бы им на всех окружающих, зло погибло бы, как чахоточная палочка под чистым, могущественным лучом солнца.
Моя мать родилась в восьмидесятых годах прошлого века, в пору действенной тоски по великим социальным преобразованиям. Острые шпили костелов, сумрачный, разрушающийся, но все еще могучий замок, узкие улочки и ржавые дворянские и цеховые сербы на оградах и вывесках воскрешали в родном городе матери былое величие феодальной Польши.
Средневековый Люблин с трудом приспосабливался к определенному времени. Быт его домов был патриархален, тих, но за внешним благонравием часто скрывалась ложь. Семья богача заводчика, чванная, пресыщенная, не была исключением. Страстью деда, умершего задолго до моего рождения, были женщины. Болезненный, предрасположенный к чахотке, он сгорел от ненасытной жажды все новых и новых плотских утех. Изменяя жене, он не пощадил и свояченицу. Сестры стали соперницами.
Бронка, меньшая дочь, любимица отца, рано поняла, отчего плачет мать, отчего молоденькую тетку поспешно выдали замуж. Пересуды кухни и людской не миновали девочки. Но вскоре школа оттеснила влияние семьи. В казенной гимназии, куда она поступила, стремились сызмала чтивших польскую культуру заставить отречься от нее. Родной язык беспощадно изгонялся. Муштровавшие учениц классные дамы преследовали всякое проявление любви и преданности к чему-нибудь польскому. И ласкающие стихи Словацкого, бунтарские строки Мицкевича читались вполголоса в укромных уголках либо нарочито громко, как вызов.
Воля к свободе, протест, сознание прав личности крепли в гимназистках, и они грезили о счастье, равенстве и величии родины. Несмотря на запрет, они говорили между собой по-польски и с гордостью выслушивали за это выговоры.
Моя мать, выраставшая в довольстве и роскоши, мечтала в равной мере о любви и страдании, о воздушном замке и тюрьме. Она ненавидела деспотизм, познав его сначала в подавлении национальной свободы.
Иногда отец брал Бронку на фабрику. Табачные листья, огромные, хрустящие, одурманивали. Бронке казалось, что она в тропическом лесу. Как Колумб, впервые увидевший ароматические растения на губах американцев, она начинала шутя жевать пьянящие листья. Ей нравились сигары, коричневые, точно пальцы туземцев, сигары, на которые работницы нанизывали золотые бумажные кольца с фабричным клеймом. Она выходила из больших сараев, полных тюками табака, пошатываясь. На платье ее пеплом лежала табачная пыльца. Тайком она закуривала изящную дорогую папироску.
Перед девушкой было много открытых дорог. Она могла выбирать любую. Родители Бронки, люди по тому времени развитые, дали ей хорошее образование. Помимо гимназии она училась игре на рояле. Поездки за границу расширили ее кругозор, научили иноземным языкам. Все лучшие книги мира были к ее услугам.
Обычно в биографии такой девушки неизбежно должен появиться бедный учитель, который принесет ей томик Гегеля, Бакунина, Энгельса или Маркса. Но такого руководителя моя мать не встретила. Случилось иное. Однажды в Варшаве она провела вечер в обществе девушек и юношей, исполненных решимости пожертвовать собой ради счастья человечества. Среди них были Феликс Дзержинский и его будущая жена Софья. И дочь фабриканта, рожденная для того, казалось, чтобы выйти замуж за светского дельца или военного и жить в холе и достатке, выбрала иную долю.
Что могло тревожить ее в социальной неурядице на земле? Какое дело богатой наследнице до смутного нарастающего протеста среди рабочих на фабрике отца? Гуманные чувства справедливости и дерзновение заставили ее смешаться с толпой трудящихся и сменить уют буржуазного дома на тюремную камеру революционерки.
Первую забастовку она вместе с новыми товарищами провела на фабрике своего отца. Девушка с огромной светлой косой, с тонкими руками, знавшими хорошо только клавиши рояля, взобралась на бочку и обратилась с речью к тем самым рабочим, которых с детства она видела как рабов фабрики.
С этого дня жизнь ее завихрилась: аресты, камеры участков, демонстрации, явочные квартиры, прокламации под меховой кофточкой, в пышной муфте, — сложная романтика профессионального бунтаря-революционера. К прошлому не было возврата.
Началась борьба не за себя, а за судьбы других людей. Изредка удавалось прильнуть к роялю, к дорогим с детства книгам, урывками учиться на Высших женских курсах. Между двумя арестами и ссылкой Бронка окончила Варшавскую консерваторию.
В стенах Павияка и Цитадели она ощутила еще глубже извечную тоску человеческой души по правде и счастью.
В толпе таких же мятежных и больших сердец она нашла моего отца. Как и она, он понял, что счастье отдельной личности — в счастье всех обойденных. Отец был сравнительно обеспечен, учился в университете. Впереди его ждало независимое положение врача, доходные пациенты, собственный дом, выезд, рента, но все это не только не влекло его, но вызывало презрительное негодование.
Отец носил косоворотку и черный плащ, не брил усов и бороды. В облике двадцатилетнего студента легко можно было найти черты борцов за социальную революцию любой из стран мира. Мать любила его.
Удивительное поколение! В каждом веке, на протяжении всей истории человечества, мелькают, как зарницы, такие светлые души. У некоторых это миг цветения: созревая, они отходят в тень и даже иногда предают либо клеймят как заблуждение лучший порыв своего сердца. Но большинство сохраняют свет свой.
Ненависть к царизму, цель — свобода и пролетарская революция — давали этим людям могучие силы. Мать была счастлива. Ни тюрьмы, ни суды, ни изгнание не могли ослабить ее. Это был добровольный, желанный жребий. Минуты слабости — она осуждала их как позор, тщательно подавляя и скрывая. Отец не простил бы ей трусости. Только музыки, рояля не хватало ей в дни заточения. Отец и мать изучили азбуку глухонемых и переговаривались знаками на свиданиях, когда один из них был в заключении.
По беременности, досрочно, мать была отправлена из Варшавской тюрьмы на Украину. В Киеве родилась я.
Мать моя заботливо, нежно любила природу. Она «лечила» деревья, замазывала их раны, укрепляла ветви, если им грозил ветер, выпалывала бурьян, чтобы легче дышалось гвоздике. Любимыми цветами ее были резеда и маттиола, неприметные, застенчивые и ароматные. Она сама походила на них. Полевые цветы нравились матери больше холеных садовых. У нее был редкий дар подбирать растения для букетов. У японцев искусство это называется икэбана. Ему учатся в школах. Никогда я не видела подобной гаммы красок, какую удавалось ей найти. В плоских вазах она ставила, укрепив камешком, кипы незабудок, соединив их с пунцовыми маками. Среди травы в тарелке расцветали вереск и полевая гвоздика, и во мху дремали весенние лиловые чашечки ворсистого цветка. Его мы называли «сон». Осенью я вспоминаю гирлянды, которые мать плела из осенних листьев. Они походили на закаты, ковры, запечатлевшие мечту, и пышную раскраску тропических змей.
Когда матери бывало особенно тяжело, она уходила одна и возвращалась успокоенная и как бы набравшаяся сил. Никогда я не слыхала ее сетований или жалоб. Она была слишком добра, чтобы причинять кому-нибудь грусть или горе.
Мать моя не была красивой, но золотистые волосы с бронзовым отливом, гладкий печальный лоб и особенно очень большие, глубокие, светло-карие глаза делали ее привлекательной. Безукоризненно хорошо была она сложена, и редко встречала я такие приятные и маленькие руки и ноги, как те, которыми наградила ее природа. Столь разительно было сходство моей матери с прославленной актрисой Верой Комиссаржевской, что фотографии их путали даже в нашей семье.
Любовь к отцу не дала матери счастья. Кто тут виноват? Разве любящий не счастливее того, чье сердце пусто? Наилучшая и редчайшая удача — соединить два чувства в одно и равно сохранить его во времени.
Отец после недолгой привязанности охладел к матери. Ей пришлось постичь унижения равнодушия и измен. Слабая в своем огромном чувстве к нему, она не находила в себе силы однажды порвать. Бесцельная, изнуряющая затея воскресить умершую любовь.
Отец увлекся матерью, когда ему исполнилось всего двадцать лет. Он никогда не лгал. Не любя, он был прям, как тогда, когда любил, и тоже страдал, так как невольно причинял боль. Но как объяснить это оскорбленной, покидаемой женщине, как бы великодушна и умна она ни была? И мать страдала вдвойне — от самолюбивой гордости и от безразличия моего отца. Теряя, она погрузилась в любовь, как в реку скорби. Цельная во всем, воспитанная на тургеневских светлых женских образах, она никогда не смогла уже высвободить однажды полюбившее сердце.
Эта женщина много лет отдала революции. В 1919 году она служит в Разведотделе 13-й армии, позднее в Москве — в Разведупре на Лубянке. Феликс Эдмундович Дзержинский и его жена Софья Сигизмундовна стали для нее образцами всего самого лучшего, чистого. Пять лет трудилась моя мать вместе с Софьей Дзержинской в секретариате Польского бюро ЦК.
Вся ее жизнь со дня, когда отец нас навсегда оставил, сосредоточилась на общественной и партийной работе и на любви ко мне и моим детям. Я всегда помню ее скромной, доброжелательной к людям, невероятно щедрой во всем и самоотверженной. Тихо, незаметно отдала она всю себя людям.
Любовь к отцу мать пронесла через всю свою жизнь. Как-то в Лондоне в 1930 году она упросила меня послать от себя посылку отцу, которую собирала сама. Я удивилась, увидев там женскую вязаную кофточку.
— Это для кого?
— Для его жены, чтобы она не соблазнилась свитером отца и не отобрала его себе.
Это произошло спустя десять лет после их разрыва.
Помню, как изредка, когда отец навещал меня, мать поспешно пряталась в отдаленной комнате, чтобы не свидеться с ним, и говорила мне перед тем просительно:
— Пожалуйста, посмотри на пальто и пиджак отца. Уверена, что у него оторваны пуговицы. О нем сейчас мало заботятся дома. Придумай предлог и принеси мне его одежду, я приведу ее в порядок.
Так же беззаветно и жертвенно, ничего не беря взамен, любила она меня и внучат. Когда ее упрекали в том, что она меня балует, мама отвечала, снисходительно улыбаясь:
— Я делаю это не для Гали, а для себя. Если бы вы знали, как много удовольствия я получаю при этом.
Мать моя, выросшая в богатстве, совершенно преодолела какую бы то ни было привязанность к вещам. Никогда я не встречала более безразличной к собственности женщины, нежели она. Однажды воры, забравшись к ней в комнату, унесли всю одежду. Очень долго она скрывала это, чтобы не беспокоились и не предприняли поисков.
Узнав о потере, я опечалилась.
— Не жалей ничего, — сказала мать. — А то накличешь беду. Все это не имеет значения. Есть — хорошо, нет — будет. Самое необходимое всегда как-либо наживется. Нельзя быть привязанной к тряпкам: они тогда превращаются в цепи. Учись быть свободной.
Когда я была исключена из партии, маме предложили отречься от меня.
— Я ее воспитала и отвечаю за нее, как за самое себя, — сказала она. — Мое место возле дочери, которая, я знаю, ни в чем не повинна. Если вы не хотите понять этого сегодня, то неизбежно поймете позднее и устыдитесь.
И мать поехала за мной в ссылку. В глубокой старости жила она там долгие годы. Жила, чтобы облегчить мою судьбу и вырастить внучек. Она стала душой разрушенного гнезда, работала с рассвета до ночи, стряпала, мыла полы, давала уроки, а в годы войны приютила в своем домике беженцев и всем делилась с ними.
В 1948 году, вслед за десятью годами разлуки, я снова прожила с матерью несколько месяцев в Семипалатинске. Случалось нам сидеть в темноте, так как не было керосиновой лампы. Мать отдала ее как-то на один вечер соседке, но та не возвратила. Я вознамерилась забрать одолженную у нас вещь, однако мать загородила мне дорогу.
— Как тебе не стыдно быть такой мелочной, — сказала она. — Не вернула соседка, пусть ей же и будет совестно, а зачем тебе быть, как она? Перебьемся как-нибудь.
Страдавшая пороком сердца, едва передвигавшаяся старушка, оставшись без меня, все же работала на огороде, вела хозяйство, воспитывала и учила моих двоих детей, преподавала в музыкальном техникуме Джамбула. Когда силы стали ей изменять, она посетила врача и сказала ему:
— Вы видите, что я очень стара, и, верно, удивляетесь, почему так цепляюсь за жизнь. Я очень устала и хотела бы отдохнуть, умереть. Но поймите, мне еще надо жить. Я нужна моим близким. Сделайте так, чтобы продлить мое существование. Я должна помогать дочери. На моих руках две девочки — четырнадцати и шести лет, — и если я умру, они окажутся одни и могут погибнуть. Вот отчего я не имею еще права на смерть.
Второго октября 1950 года мама получила назад отправленные мне деньги. На все запросы ее в Москву и Алма-Ату обо мне в течение полугода ничего не отвечали. Тревога матери возрастала, она решила, что меня нет более в живых. Силы ее, воля к жизни были окончательно сломлены.
Мать моя скончалась, когда дома не было никого из близких, во время урока музыки, который она давала двум маленьким девочкам. Фамилии этих учениц не были известны в моей семье, и я тщетно искала свидетелей последних минут самого любимого мною на свете человека. И вот недавно пришло письмо моей читательницы. Ей было двенадцать лет, когда в ее присутствии умерла моя мать.
«...У школы, — пишет Маргарита Назаренко, — не было помещения и своих музыкальных инструментов, и мы занимались у педагогов на дому... Нас встретила маленькая сухонькая старушка... Вся ее фигура, жесты и особенно глаза излучали приветливость и доброту... Когда Бронислава Сигизмундовна узнала, что у нас дома тоже нет пианино, она стала приглашать нас на уроки 3 раза в неделю, вместо 2-х положенных, занималась с нами по часу и более, и смогла так нас подготовить, что из 1-го класса мы были переведены сразу в 3-й класс. Сама Бронислава Сигизмундовна нам почти никогда не играла, у нее сильно болели руки, — не гнулись пальцы с узловатыми суставами, но зато очень много рассказывала нам о музыке, о жизни композиторов. Говорила она тихо, проникновенно, никогда не повышала голоса... В один из очередных уроков мы увидели Брониславу Сигизмундовну сильно изменившейся. Она еще больше сгорбилась, почти ничего не говорила, но урока не отменила. В доме она была одна. Я села за рояль, открыла ноты «Итальянской песенки» Чайковского из «Детского альбома», Бронислава Сигизмундовна села на стул рядом. Я начала играть, она следила за моей игрой, не говоря ни слова, и вдруг, словно задремав, опустила голову на клавиши, седые волосы рассыпались по ним. Я вскочила, окликнула ее. Она молчала. Тогда я легко подняла ее и положила на рядом стоявший диван. Представьте, какая она была сухонькая и легкая, если 12-летняя девочка могла это сделать... несмотря на то что я присутствовала в минуту смерти Брониславы Сигизмундовны, она не осталась в моей памяти умершей. Я храню образ человека, который до конца своих дней остался большим тружеником, чутким, душевным человеком, несмотря на все жизненные невзгоды. Только ее трудами посеяна в моей душе большая любовь к музыке, которой я увлекаюсь до сих пор. В 1959 году я закончила Казахский государственный университет, а сейчас учусь в музыкальном училище по классу фортепиано. Классическая музыка — моя вторая любовь. Я коллекционирую все, что с ней связано... не пропускаю ни одного концерта — все это я отношу на счет больших трудов моей первой учительницы Брониславы Сигизмундовны...»
Моя мать, Бронислава Сигизмундовна Красуцкая, осталась неистовой советской патриоткой и коммунистом-ленинцем до последнего своего вздоха.
В 1966 году мне удалось перевезти прах моей матери из Джамбула на сельское кладбище поселка Переделкино. Отныне она похоронена поблизости от дома, где я живу. В нескольких шагах от могилы моей матери погребен Борис Пастернак, которому она часто, по его настойчивой просьбе играла на рояле Бетховена, Шопена и Чайковского.
С высокого погоста виден вдали дом в Баковке, из которого поздней июльской ночью мать и я ушли навсегда в 1936 году. Все вокруг так же оживает по весне — лес и поля. Если б моя мать дожила до лучших дней...
ОТЕЦ
Отец навсегда покинул свою семью, когда мне исполнилось четырнадцать лет. Многое из того, что я знаю о нем, рассказала мне мать, любившая его до последнего вздоха. У отца была своеобразная внешность: голова с прямыми, черными, откинутыми назад прядями волос, большие, в оправе густых ресниц, серые глаза, казавшиеся еще светлее на смуглом лице, удлиненный овал, тонкие черты, узкая борода и небрежно подстриженные усы, широкий лоб с глубокой морщиной. Лицо его напоминало Христа на полотнах Поленова. Та же мечтательность, бунтарство и горячность.
Как все революционеры начала века, отец вовсе не интересовался своей наружностью и одеждой и прослыл бы неряшливым, но мать заботилась о нем. Многие годы носил он разлетайку с двумя позолоченными металлическими бляхами-пуговицами на груди, косоворотку и только изредка появлялся в костюме, при галстуке. Во время войны он облачился в военную форму и обул редко видавшие ваксу и щетки грубые сапоги. Упрямый, вспыльчивый и всегда искренний, он вынужден был рано начать трудовую, самостоятельную жизнь, хотя родился в зажиточной семье. В отрочестве его изгнали из родного дома после громкой ссоры с моим дедом. Дед был человеком крутого нрава и охоч до женщин. Он часто изменял жене, и дети его заступались за мать. Уйдя из родной семьи, отец жил впроголодь, перебивался кое-как, давая частные уроки. После окончания гимназии он поступил на медицинский факультет, но получил диплом через семь лет, так как был дважды исключен в связи с арестами. Очень рано началась подпольная революционная работа. С дедом моим отец помирился, лишь когда тот лежал на смертном одре.
Отец слыл увлекающимся и неутомимо деятельным человеком. Революционная романтика, перипетии социальной борьбы завихрили его молодость. Он зачитывался историей древних и позднейших революций, чтил Спартака и Робин Гуда, Марата и Верлена, Рылеева и Желябова. Лишенный музыкального слуха, он любил петь, перевирая мотив, песни коммунаров и русских революционеров и учил меня им. Ему минуло немногим более двадцати лет, когда я родилась. Первой песней, которую я пела, стоя на кухонном табурете, была «Варшавянка».
Мои родители, как и их друзья, принадлежали к интеллигенции в большом, обязывающем смысле этого понятия; глубина мышления и чувствований, потребность знаний, стремление к справедливости, самоотверженность ради людей приводили к наиболее передовым идеям и борьбе за них, к отказу от наживы, эгоистических низменных удовольствий, тщеславия. Интеллигенты, которых так много было вокруг Маркса, Энгельса, затем Ленина, выбирали самые трудные, нехоженые тропы жизни и бесстрашно вырывались вперед, увлекая за собой лучших и сильных духом. В этом находили они не только цель, но и радость бытия.
Отца поглотили две страсти: революция и медицина. Он служил им обеим самозабвенно до смерти. Прочитав труды Маркса, Энгельса и позднее Ленина, он принял их учение и стал коммунистом. Мать рассказывала мне о фанатической преданности отца идее, о его храбрости. На демонстрациях отец шел всегда впереди, и ни нагайки карателей, ни дула винтовок не могли заставить его отступить.
Однажды на торжественном спектакле в Варшаве, когда в царскую ложу вошел Николай II со свитой, отец, пробравшийся на галерку, во время исполнения оркестром «Боже, царя храни» зычным голосом крикнул: «Сволочи!» — и чудом выбрался невредимым из театра, хотя выходы оцепили жандармы.
Он всегда брал на себя самые рискованные поручения партии в пору реакции. После года заключения в варшавской цитадели ему удалось бежать из тюрьмы и затем скрыться за границу. Но остаться в Швейцарии он не захотел и вернулся нелегально, но не в Польшу, а в Киев, где находилась моя мать. Отец презирал скупость и мелочность, сковывающие волю и укорачивающие размах стремлений. Желая уничтожить их во мне в самом зародыше, он требовал, чтобы незадолго до дня моего рождения я раздала бы все игрушки, иначе не получу новых подарков. Это было нелегким испытанием. С грустью, подчас со слезами на глазах расставалась я с куклами, мячами, кубиками. Один только раз мать помогла мне сберечь изрядно искалеченную матрешку, с которой я крепко сдружилась.
Так учили меня дома преодолевать инстинкт собственности. Постепенно я стала испытывать удалую радость, когда раздавала свое нехитрое детское имущество.
Отец ненавидел фискальство и безжалостно изгонял его из моей души. Если я жаловалась на своих сверстников, он наказывал меня. Я протестовала, недоумевая. Отец пояснял, сурово насупившись:
— Ты ябедничала, а это самое скверное из того, что делают плохие люди.
Мне минуло восемь лет, когда отец, работавший в земстве и для разъезда по деревням державший тарантас и лошадь, посадил меня на неоседланного коня и стегнул его кнутом. Джульетта, так звали норовистую и злую кобылу, сорвалась с места, поднялась на дыбы, а потом с ржанием понеслась по лугу. Мать моя неистово закричала что-то нам вслед. Почувствовав опасность, я припала к шее животного, уцепилась за гриву и замерла от страха. Сделав несколько кругов, Джульетта остановилась, и я сползла наземь. Мать прижала меня к себе. Но отец был спокоен и доволен.
— Теперь девочка преодолеет трусость и будет отличным джигитом, — сказал он весело.
— Как мог ты так рисковать жизнью дочери, ты ее не любишь, — укоряла его мать.
— Оттого, что люблю, хочу научить бесстрашию, а то вырастет кривлякой-барышенькой.
Отец не выносил лжи и, приравнивая ее к клевете, считал их источником подлости. Именно поэтому он единственный раз в жизни выпорол меня. Было это в Никополе, на Днепре, где отец работал эпидемиологом, сражаясь с вспыхнувшей там холерой. Желая хоть чем-нибудь похвастаться перед подружками, я соврала им, что на следующий день буду именинницей. Одна ложь влечет за собой другую. По моим понятиям, в подтверждение лжи надобно было угостить девочек сластями, иначе какое же это торжество. Но денег у меня не было. Собравшись с духом, я отправилась к помощнице отца, фельдшерице, и попросила ее от имени родителей одолжить три копейки. Крайне удивленная столь малой суммой, кредиторша, дав мне три копейки, пошла к отцу узнать, что у нас приключилось. Меня разоблачили. В присутствии приглашенной детворы, которую я только что угощала липкими леденцами, отец высек меня.
— Ложь и клевета обычно начинены порохом, — повторял отец не раз.
Прошло несколько лет. В тягостные дни развода родителей я высказала отцу много недобрых, но справедливых истин. Он впал в ярость и пригрозил мне расправой. Я ушла из дома и поселилась у однополчан по 13-й армии. Лишь когда отец со второй женой уехал из Москвы, я вернулась к матери. Ничто так не ранит юное сердце, как размолвки родителей. Детство мое и отрочество было жестоко отравлено неполадками в семье, изменами отца, о которых я догадывалась.
Несомненно, что судьба моя сложилась бы совсем по-иному, если б я росла в накрепко спаянной любовью, дружной семье. Самая лучшая из матерей не может восполнить потерю отца для ребенка, как и отец не заменит ему мать. Ненужная горечь и неискоренимое разочарование навсегда остались в моей душе.
Отец уехал в Хиву послом, и в течение нескольких лет я о нем почти ничего не слыхала. Когда он вернулся, я была уже замужем, имела ребенка. У отца от второго брака также родилась дочь, она была всего лишь годом старше моей.
Время, как мощная вода, сточило острия невидимой каменной гряды, возникшей было между мною и отцом, и мы свиделись как добрые товарищи. Я по-иному смотрела на отца. Этот человек, не пожалевший матери и меня, был, однако, отзывчивым и сердечным для всех других. Он мог все отдать приятелю, хлопотать, не щадя сил, за незаслуженно обиженного человека, проявлять редкую чуткость к случайным знакомым. Дом его был всегда открыт и напоминал заезжий двор, так много всегда там толпилось, жило посторонних людей. Отца любили за верность в дружбе и понимание, что она налагает взаимные обязательства. Есть люди с врожденным обаянием, общение с ними легко и приятно, отец был из их числа. Постепенно мне открылось, почему мать не сумела до смерти изжить чувство, которое она к нему питала.
Как-то в середине тридцатых годов мы случайно встретились с отцом на Тверской, ныне улице Горького, и зашли в кафе. Он был в отличном настроении. Завязалась сама собой доверительная беседа.
— Поговорим, как мужчина с мужчиной, — пошутил отец.
— Изволь. Скажи мне честно: почему ты оставил мать?
— Видишь ли, еще в детстве я дал себе слово не лгать. Любовь испарилась, а жалость — тяжелый груз. Его хочется поскорее сбросить. Измена, на мой взгляд, унижает и того, кто изменяет, и того, кому изменяют. Твоя мать чудесный, превосходный человек.
— И потому ты ушел от нее?
— Пойми меня. Не мог я больше видеть ее кротости, ее заплаканных глаз. Лучше бы она корила, оскорбляла меня. А то ведь ничего... молчание. Возвращаясь, домой, я чувствовал себя истязателем. Потому и ушел. Не выношу семейных драм.
Мне почудилось, что отец иронизирует, но он был серьезен.
— Любил ли ты раньше мою мать? — спросила я.
— Боюсь, что нет, так как я верю, что существует единственная любовь, одна и навсегда. Верю в это, но сам не испытал такой, видать, не посчастливилось. Даже самый легкомысленный человек мечтает быть верным, сосредоточить все помыслы и желания на одном чувстве.
Мы помолчали, допили кофе и разговорились о медицине, которая была отцу дорога, как певцу песня. Он был прирожденным врачом и, чем бы иным ни занимался, пристально следил за любимой наукой. Как часто, когда я была еще малым ребенком, мать снаряжала поздней ночью отца к больному, укладывала белый халат и деревянную трубочку в кожаный баул. Мне и сейчас иногда слышатся тревожные переливы колокольчика над нашей входной дверью.
— Скорее, доктор, скорее, прошу вас, спасите, — говорил чей-то женский или мужской голос в узенькой передней рядом со спальней, где стояла и моя кроватка.
— Положила ли ты в чемодан шприц, камфару? — торопил отец мою мать.
— Да, да. Вернешься ли ты до утра?
— Если нет, не волнуйся. Надо заодно навестить и женщину с воспалением легких. Близится кризис.
Отец уходил надолго, а утром, когда возвращался, его уже ждали больные. На террасе, в углу, обычно висел на гвозде его костюм для посещения заразных пациентов. Мать запрещала мне заходить в кабинет отца, особенно когда он возвращался от детей, хворавших скарлатиной и дифтеритом. Переодевшись, отец долго мыл руки дезинфицирующим мылом. Мне казалось, что он весь пропах сулемой и карболкой. Несмотря на все меры, я переболела многими заразными недугами, отчего, по мнению отца, становилась только выносливее.
Не зная в те далекие годы учения Павлова, отец сам пришел к выводу, сколь важно для больного доброе душевное состояние, внутренняя мобилизованность в схватке с бактериями. Когда я занедуживала, отец дарил мне подарки, развлекал чтением сказок и книг. Мне нравилось хворать и не хотелось выздоравливать.
— Главное — бодрый дух, воля к здоровью, заботливый уход, — заявлял отец, — а еще важнее — не повредить больному лекарствами.
В годы первой мировой войны отец был призван и служил эпидемиологом 7-й армии в Галиции. Еще до февральской революции отец вел подпольную политическую работу среди солдат. В это же время он создал в Галиции, в районе Бучача, несколько образцовых тифозных лазаретов, сконструировал машину для кипячения зараженного белья и добился значительного снижения заболеваний. Он получил за это награду от министра. В февральскую революцию отец, как большевик, возглавил военно-революционный армейский комитет.
Мать отпустила меня к отцу с его помощником, приехавшим по делам в Киев, и я очутилась в Западной Украине, в разрушенном войной местечке Монастержиско в мае, когда туда прибыл Керенский, призывавший войска к новому наступлению. Я была еще слишком мала, чтобы должным образом понимать окружающее. Но четко запечатлелись в памяти сцены братания русских, и австрийцев в окопах под Станиславом, солдатские митинги, где жестоко схватывались ораторы от большевиков, призывавшие к миру, и представители Временного правительства, уговаривавшие продолжать бойню. Атмосфера так накалилась, что отец вынужден был скрыться. Его заочно приговорили к смертной казни за большевистскую агитацию. Одна из медицинских сестер отвезла меня назад к матери. Об отце долго не было известий.
В Октябрьские дни он сражался в Питере в красногвардейском отряде и в начале 1918 года отправился на Север вместе с умнейшим и талантливым чекистом Кедровым.
Дружба его с Кедровым, Артузовым и другими замечательными соратниками Дзержинского не кончилась до самой его смерти. Отец вместе с этими боевыми, храбрыми большевиками боролся с первой мощной группой интервентов, начавших войну с советской властью в Архангельске. Отец стал начальником Санупра Северо-Восточного фронта. Опыт санитарной работы в царской армии помог ему быстро создать сеть полевых госпиталей. Сохранилось много приказов его той поры, сурово взыскивающих с тех медицинских работников, которые равнодушно относились к больным, саботировали или совершали неблаговидные поступки.
Отец был первым начальником Политуправления войск внутренней охраны. В 1919 году, в Киеве, он ведал губернским здравоохранением, а затем сменил А. М. Коллонтай на посту наркома агитации и пропаганды. После ухода большевиков из столицы Украины он вернулся в Красную Армию и сражался до разгрома белогвардейцев. Всю свою жизнь отец выделялся бесстрашием и предпочитал передний край штабу.
Несколько раз я слушала отца на многолюдных собраниях. Он был хорошим митинговым оратором и заражал аудиторию страстным убеждением, эмоциональностью, заинтересовывал фактами истории. Не знаю, был ли он таким же хорошим лектором. Его импровизациям не хватало спокойствия, аналитической глубины и строгой логики.
Отец удостоился личной благодарности за работу на Северном фронте от В. И. Ленина, с которым не раз встречался.
В годы гражданской войны, когда отец работал на другом поприще, в редко выпадавшие свободные часы он писал книгу «Медицина и советская власть», которую издал значительно позже.
Перелистывая теперь эту книгу, я, как бы чувствуя ускоренный, напряженный пульс писавшей ее руки, дивлюсь заразительной страстности изложения, завидному знанию предмета и жгучей ненависти к косности и кривде царского строя. Одну из глав этого труда отец закончил следующими размышлениями:
«Гражданская война — это то чистилище, через которое мы должны пройти, чтобы завоевать право уничтожения навсегда войн на планете...
Человечество к совершенству идет через страдания. Прометей был жестоко наказан за то, что похитил небесный огонь и дал его людям. Люди получили огонь без страданий...
Только человечество, завоевавшее социалистический строй, раскует Прометея».
Эти строки вылились на бумагу в 1918 году, в разгар войны Советской России с Антантой, под Архангельском.
В конце двадцатых и начале тридцатых годов отец работал в Москве директором Музея изящных искусств имени Пушкина. Однажды он вызвал меня в музей, чтобы поделиться своей радостью: художники открыли и реставрировали шедевр Рафаэля — портрет Форнарины.
— Ты, кажется, изменил медицине ради живописи и скульптуры, — сказала я, слушая пояснения отца, основательно изучившего искусство эпохи Возрождения.
— Это нисколько не мешает медицине. Наука и музы — родные сестры. Они требуют вдохновения и самоотречения.
Работая в музее, отец встречался с такими превосходными мастерами, как братья Корины, Кончаловский, Грабарь и другие. С их помощью он приблизился к миру прекрасного и почувствовал себя по-новому счастливым.
Новогоднюю ночь 1966 года мне довелось встречать в доме художника Б. В. Щербакова и его красавицы жены вместе с многими значительными в разных областях людьми. Был и чтимый мной за безупречно чистое сердце и талант Павел Корин. Мы обрадовались встрече и заговорили о моем отце.
— Чудесный, особенный был он человек. Наши добрые отношения отразились и на моей судьбе,— сказал грустно большой художник.
Позднее отца направили в Иркутск, где он снова занялся медициной. Мы почти не переписывались и не виделись, я долго была в разъездах.
Пытливость и присущая отцу страсть к врачеванию не покинули его и после многих лет иной работы. Он не только увлеченно изучал незнакомый ему край, но и вместе с другим специалистом сделал важные выводы о малоизвестных до того времени болезнях.
В последний раз отец зашел ко мне по пути в далекую пограничную степь, куда отправился добровольцем, чтобы уничтожить проникшую к нам чуму.
— Не могу жить вне борьбы за людей. Это моя стихия. Верно, оттого так нравится мне моя специальность — эпидемиология. Холера, тиф, чума и другие грозные напасти — невидимое страшное войско, которое надо победить, стереть с лица земли.
Отец подарил мне тогда свою книжку «Спутник на холеру, тиф и чуму».
— А вдруг ты заразишься и умрешь? — беспокоилась я, прощаясь с ним.
— Чепуха! На войне как на войне. Смелость города берет. Все зависит от цели, ради которой гибнешь. Если цель того стоит, умереть не боязно. Врач не может, не должен быть трусом.
Больше отца я не видала. Его не стало в 1937 году.
В ДЖАМБУЛЕ
Могила матери была на высоком холме, на неухоженном отдаленном кладбище. Весной алые маки покрывали надгробные насыпи. Иссиня-яркое небо да снежные вершины гор украшали этот погруженный в тишину приют мертвых. А внизу зеленым ковром казались густые сады Джамбула.
Много часов провела я подле праха моей матери. На пыльной проселочной дороге нашла обломок старого рельса, и мы с дочерью Таней вбили его в изголовье могилы и прикрепили деревянную дощечку с надписью. Если бы скорбь и любовь могли превратиться в мрамор, он покрыл бы стелой эту священную для меня землю.
Наш домик совсем обветшал, соломенная крыша сильно прохудилась и пропускала внутрь единственной комнаты лунные и солнечные лучи. Во время дождя приходилось ставить на пол корыто, которое быстро наполнялось водой.
Наступила зима, и нужно было запастись углем. Мы не имели сносной одежды и обуви.
В горздраве мне предложили поехать на работу в дальний аул, на медицинский пункт. Но там не было русской школы, а Тане следовало учиться и нагонять упущенное.
Девочка моя была дика, подозрительна, болезненна. Наиболее счастливым воспоминанием, которым она со мной поделилась, было ее пребывание в инфекционном изоляторе, куда она попала, заболев дизентерией.
— Как там было красиво, вы, наверное, никогда такого дома не видывали, — рассказывала моя дочь, долго обращавшаяся ко мне на «вы». — На кроватях — белые простыни и пододеяльники. И кормят досыта! Я даже получала каждый день кисель. Не хотелось мне уходить оттуда! Но только десять дней я пробыла там и очень горевала, когда мне велели идти домой.
Как-то ночью, когда мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, под моей телогрейкой и смотрели на звезды, заглядывавшие к нам сквозь щели в потолке, Таня сказала тихо:
— Кажется, я буду вас любить. Я думала, что у меня уже нет больше сердца.
На наше счастье, перед самой своей смертью мама выиграла по займу несколько сот рублей. Деньги эти спасли нас.
Чтобы предельно экономить, мы разрыли заброшенную яму, куда в пору жизни моей матери выбрасывали отслужившие вещи, и отыскали в земле клад, состоявший из поломанных, но все еще годных к употреблению ложек, вилок, кастрюль и лохмотьев. То, что казалось непригодным при некотором достатке, отлично послужило опять мне и Тане. Позднее я купила дочери первую в жизни школьную форму, ботинки, новые учебники и принялась лечить ее от детского туберкулеза, нажитого в годы недоедания. Все мое время уходило на домашнее хозяйство, стирку и стряпню. Чтобы заработать хоть немного, я делала впрыскивания больным на дому и получала за это буханку хлеба, ведро угля и отрез ситца на детское платьице.
В конуре подле нашего дома жила старая собака Лютра. Она добывала пропитание, главным образом воруя кости в мясных лавках на базаре, и они валялись повсюду на дорожках нашего маленького садика. Нередко Лютру жестоко избивали за хищения, и она хромала.
Несмотря на нашу бедность, Лютра оставалась верна своей любви к моей семье. Если бы она могла кормить Таню, добывая для нее мясо с риском для жизни, то делала бы это, несомненно. Не раз она приносила объедки, клала их у моих ног и, глядя своими усталыми, старческими, человечьими глазами, как бы говорила: «Ешь, пожалуйста, не брезгуй».
Вскоре, к большой моей печали, Лютра заболела раком. В это время у нас были уже деньги, и я варила ей бульон, доставала молоко, которых она никогда раньше не пробовала.
Но Лютра уже не могла есть.
На протяжении всей жизни у меня были многочисленные преданные четвероногие друзья. Родители подарили мне фокстерьера, когда я была совсем еще маленькой, желая, очевидно, не только смягчить, очеловечить душу, но и развить чувство ответственности. Пес зависел от меня, и это накладывало серьезные обязательства и подавляло эгоизм. У собаки я училась дружбе, неподкупности и верности.
В начале тридцатых годов в Лондоне Илья Эренбург подсказал мне, какой породы купить себе пса. По его совету мы приобрели шотландского терьера Будлса, или Бульку. Французы говорят, что на свете только одна безусловно надежная любовь, за которую, однако, платят, — это чувство собаки к своему хозяину.
Булька убедил меня в том, что и в человеческом сердце живет извечная, атавистическая привязанность к домашним животным. Он безошибочно угадывал все, что происходит в моем доме, и удивительно тактично вел себя со всеми, зная, когда надо принести мяч и требовать игры, а когда приласкаться или тихонько улечься поблизости. В его вынужденном молчании было больше слов, чем в болтовне иного двуногого. Он был не только психолог, но и знаток людей, и мы часто недоумевали, находя подтверждение его нерасположения к кому-либо. Когда бы я ни возвращалась домой, Булька ждал меня. Как долго, вероятно, для него тянулись часы. Ведь собачье время не совпадает с нашим. Они живут в четыре, пять раз короче, и каждая человеческая минута для них мучительно длинна. Она весьма заметный отрезок жизни. В радости и горе Булька был неукротим, неистов. Эмоции также его убивали. Когда я ушла на много лет из дома — Булька, по рассказам моей матери и дочерей, затих. Он совершенно поседел.
Шотландские терьеры чрезвычайно умны и чувствительны. В Шотландии они одни пасут огромные стада. Чтобы воспитать такого пастуха, его сразу же после рождения отдают на выкорм овце. Щенок растет с теми, с кем будет позже бродить по отдаленным пастбищам, отлично зная каждого из своих питомцев.
Мать рассказывала мне о злоключениях Бульки в Семипалатинске. Однажды его уворовали цыгане, которым, очевидно, понравилась необыкновенная собака, похожая на доисторического, густо обросшего человека, с квадратной седой бородой, с горящими, проницательными глазами. Маленький, ширококостный Булька был необыкновенно силен и без труда, впрягаясь в сани, часто возил мою младшую девочку по заснеженным улицам.
Спустя две недели после похищения цыганами Булька с веревкой на шее, больной, хромающий, прибежал назад. Его обласкали, вылечили, но никто так и не мог вернуть собаке ее прежней беспечности. Булька болезненно тосковал по тем, кого любил и потерял.
В 1939 году на глазах моей матери Бульку задавил грузовик. От меня это скрывали много лет.
Собакам нужна любовь, и они остаются с нами в беде и в нищете.
Таня, я и умирающая Лютра жили в Джамбуле в полном уединении, ожидая чуда. И чудо свершилось.
Наступил февраль 1956 года. Шел густой снег. Было холодно и вместе с тем пронизывающе сыро. Мы с Таней основательно закрыли дыру в потолке тряпьем и бумагой, впустили Лютру, чтобы согреть ее. Купить лист толя мы не могли. За несколько месяцев деньги наши истаяли. И снова не на что было приобрести уголь. Тогда мы решили свалить большое грушевое дерево и принялись за это спозаранку. Груша с протяжным стоном рухнула на талый снег.
— Теперь мы уже никогда не попробуем таких вкусных фруктов. Бабушка говорила, что это дюшес, — сказала с сожалением Таня и добавила, чтоб утешиться: — Зато у нас есть настоящие дрова, не хуже саксаула.
Вечером, когда дочь была еще в школе, я написала письмо, адресовав его в Президиум XX съезда. Это был стон, вырвавшийся из глубины души, та единственная правда, которая дает силы и жить и умереть.
Но как было отправить эту заветную, самую значительную из всех, что писала я за все годы, исповедь? Старый пенсионер доставил пакет на соседнюю железнодорожную станцию, где опустил его в почтовый ящик экспресса, идущего из Алма-Аты в Москву.
Двадцать пятого февраля день начался безрадостно. Последние поленья догорали в печи. Голод и холод свалили меня. Болело сердце, и я не могла встать с постели. Внезапно в дом наш вбежала соседка, а за ней девушка — посыльная с почты.
— Скорее, скорее, вас вызывают на телефонную станцию! Москва требует! — наперебой кричали они.
Кто-то помог мне обуть валенки и протянул свой тулуп и платок.
В сопровождении нескольких женщин, ведя за руку пугливую Таню, я вышла за ворота.
— Серебрячиху к телефону из Москвы, — оповещали встречных мои спутницы, и мы двигались уже толпой по улицам Джамбула навстречу возрождению.
Силы мои были уже на пределе.
Мы шли гурьбой к телефонной станции.
В этот удивительный день я говорила с московскими товарищами. Вернувшись домой и обжившись с мыслью о возможном счастье, я вышла на улицу с ведрами и направилась к водопроводной колонке, чтобы запастись водой. Навстречу мне шла в густом сером пуху линьки неуклюжая молодая овчарка. Внезапно она доверчиво встала на задние лапы и уперлась передними в мою телогрейку. Я погладила серо-коричневую морду и заговорила с ней. С той минуты собака более не отставала от меня.
Мы с Таней накормили ее, но и после этого она не ушла из дома.
— Что ж, оставайся, — сказала я и отвела ей место у печки.
Долго мы подбирали собаке имя и решили назвать Ренессансом, сокращенно — Ренсом.
У всякой собаки — своя судьба, часто горестная и сложная. Так было и с моим Ренсом. Он познал немало бед, прежде чем, после многих приключений, уже нежданный и считавшийся потерянным, в 1962 году снова очутился у меня. Его преданность была беспредельна, и о нем сложится особый рассказ.
Стоял жаркий августовский день. Я надела лучшее из двух имеющихся у меня платьев, штапельное, синее, и уселась подле клумбы с буйно разросшимися, лохматыми настурциями, ожидая часа, когда следовало пойти на заседание бюро Джамбульского обкома. Там должна была решаться моя судьба — быть или не быть мне партийным коммунистом?
Сильное беспокойство завихряло мои мысли. Как по взбаламученному морю неслись они, странные, отрывистые, а то и несуразные. У ног моих пылали настурции, будто вобрав солнечные лучи. Маленькие солпца на земле. Все вокруг было в золоте и пурпуре.
Я попыталась мысленно приблизить день, когда в 1919 году в 13-й армии меня приняли в ряды ВКП(б). Председателем приемной комиссии был обросший, с виду крайне усталый, но энергичный, веселый старый большевик Магидов. Его прозвище было «Борода». Меня всегда удивляло, с какой тщательностью он сам нашивал все новые и новые заплатки на свою выцветшую гимнастерку. Поблескивая темными глазами, Магидов сказал, поздравляя меня:
— Помни, Галина, кому много дано, с того много и спросится.
Как давно это было. Я загляделась на цветы и вдруг среди зелено-коричневой резеды увидела маленькие, поникшие, как бы увядшие стебельки. Это была маттиола. Только в сумерки откроются ее лиловые скромные соцветия, издавая пряный, особенный аромат. Не знаю, почему слезы потекли из моих глаз — от счастья ли возрождения или от грусти, что мать не дожила до этого дня? А раскаленный ветер, будто африканское сирокко, шевелил, пригибая, зеленые зонтики-листья настурции, и они открылись, еще более пестрые, горячие, рдеющие. Точно сноп солнечных лучей. Время едва шевелилось и мучило медлительностью. В окно я следила за недавно купленными в керосиновой лавке ходиками, на синем циферблате которых шишкинские медведи взбирались на поваленную сосну.
С узкой холодной речки Джамбулки с купания вернулась Таня. Мы принялись разжигать керогаз и чистить овощи для борща.
— Возьмут тебя назад в партию? — допытывалась дочь.
Стрелка часов, вернувшись, добралась к половине третьего. Наконец-то.
На городских улицах было безлюдно. Температура в тени достигла 36 градусов выше нуля. Обмахиваясь пышной веткой джуды, потная, внутренне заторможенная, я добралась до каменного здания обкома. Заседание бюро уже началось. В приемной нас собралось четыре человека. Все, как и я, жестоко волновались и молчали. Страшась думать о возможном счастье, я пыталась подготовить себя к любой неожиданности.
«Будь готова к печали, не располагай на хорошее, — нашептывал в мозгу коварный голос опыта,—не твоя это доля. Кто-нибудь да замахнется отравленным ложью клинком, попытается убить тебя, развеять твои справедливые надежды».
Вдруг дверь открылась, и меня окликнули. Настал долгожданный черед, сбылись сроки.
Тяжело переставляя ноги, вошла я в длинный зал с окнами на улицу. Села у белой прохладной стены и замерла. Десятка три различных глаз напряженно всматривались в меня. Секретарь обкома встал и начал одной рукой — другая, протез, бессильно висела вдоль тела — перебирать различные бумаги и оглашать их. Он перечислял обвинения, выдвинутые против меня, одно чудовищнее другого. Не все из них я знала. Клевета, могучая, как цианистый калий и печи Бухенвальда!
«И все это обо мне, — стучало в моих висках. — А что, если эти люди тоже поверят?»
Секретарь обкома опровергал одну за другой ложь, и она сгорела дотла на чистом огне фактов, истины.
Так меня восстановили в партии.
— Стаж ваш шел. Вы оставались коммунистом, — сказал мне секретарь обкома.
В учетной карточке, такой необычной и значительной, нашли свое отражение все минувшие двадцать лет.
— А сейчас вам надо полечиться, собраться с силами, — говорили мне окружающие.
С ураганным сердцебиением, все время испуганно проверяя, не потеряла ли справку о реабилитации, я побежала из обкома на расположенный рядом пустырь. Когда-то тут было старинное кладбище. Ноги то и дело оступались об остатки каменных плит. Оглянувшись вокруг и не видя никого, я опустилась на сухую землю.
Дожила!
Не то казалось мне удивительным, что я оправдана. Я всегда твердо верила в неизбежность этого, но дожить самой!..
Невероятно, сказочно!
Солнце, как гигантская настурция, клонилось к закату. Жизнь началась заново. Это было подлинным воскресением. Я улыбалась всем встречавшимся людям, и даже самые хмурые отвечали мне тем же. Счастливый человек готов излучать добро на все живущее.
1968-1975
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





