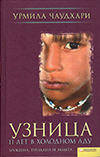ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Богуславская Зоя 1977

I
В отеле «Эглон» на бульваре Распай мой тихий номер выходит на кладбище Монпарнас, знаменитое могилой Бодлера. Автор «Цветов зла» верил в бессмертие поэзии, но вряд ли мог предположить, что 60 лет спустя советский поэт Владимир Маяковский, поселившись напротив, в гостинице «Истрия», придет на его могилу, чтобы отдать дань таланту буйного француза, сражавшегося на баррикадах.
Рядом с кладбищем — бульвар Монпарнас. В сущности, это тот же мемориал. На углу, в «Ротонде», бывали Модильяни, Матисс, Сутин. Рядом, в ресторане «Дом», выбирали устриц всех мыслимых сортов Пикассо и Брак. А через дорогу, чуть наискосок, в Куполи — художественной мекке Парижа — в зале подковкой и на застекленной веранде работали Хемингуэй, Габриэль Гарсиа Маркес, Натали Саррот, Арагон, заказывая, быть может, знаменитый кокиль и запивая его рислингом.
— Вот здесь, в Куполи, — говорит за ужином Антуан Витез, ныне главный режиссер народного театра в Шайо, — познакомились Арагон и Маяковский. Арагон мне рассказывал, как Эльза Триоле обратила на него внимание Маяковского. Французский поэт сидел у стойки бара. Через несколько минут пришла записка: «Арагон! С вами хочет встретиться русский поэт Маяковский. Второй столик слева».
— Так ли это было? — улыбается Витез. — Но знакомство состоялось в Куполи.
Антуан Витез, создатель хорошо известного театра в парижском предместье Иври, знаток русской литературы и искусства, начал с постановки «Бани» Маяковского. Затем — «Электра» Софокла, сделавшая его всемирно известным режиссером, «Пятница» в театре Шайо.
Мне довелось видеть в его театре «Фауста» Гёте, где сам он играл главную роль. Бурный новатор в режиссуре, актер, блестяще владеющий искусством преображения и характерности, в жизни Витез тих, задумчив, удивительно напоминает Арлекина из комедий дель арте: изломом темных бровей, резкими полосами треугольником у уголков рта.
— Мой Фауст, — говорит он, — это трагедия необратимости времени. Я кричу, взываю к окружающим: «Ничего нельзя ни вернуть, ни переделать, ни повторить! Остановитесь! Осмыслите каждое мгновение жизни». Разумеется, это только одна тема Фауста...
—А еще?
— Еще... — задумывается он. — Меня всегда волновала проблема двойников. Мне кажется, старый Фауст следит за юношей, каким был когда-то, словно ходит вслед за ним (собой) по улице, видит себя с другими людьми, с возлюбленной. Торжествует или ненавидит себя. Это тема «Смерти в Венеции» Томаса Манна и Лукино Висконти в его фильме — тема, гениально разработанная двумя великими стариками, осмыслившими прошлое. Для меня же двойное самоощущение Фауста — обратное. Это юноша, заглянувший в будущее старика.
В декабре 1976 года театр закончил сезон новой постановкой по роману Арагона «Базельские колокола», потом Антуан Витез поставил в Московском театре сатиры «Тартюфа» Мольера.
— Актеры привыкли у вас к «застольному периоду», — говорит режиссер, — мы же связаны временем, его всегда в обрез, поэтому я предпочитаю с первых дней делать все на сцене. «Пьесу вы знаете хорошо, роли тоже, — сказал я своей группе в Театре сатиры, — будем сразу двигаться, действовать». Две репетиции актеры помучились, а потом пошло. Там замечательно интересные актеры.
Спектакли Антуана Витеза — это коллажи. В его постановках, точно вклейки, обыгрывание натурального реквизита и мебели, подлинных блюд (салат, лапша, сыр в «Базельских колоколах»), цитаты из греческого, турецкого, русского, немецкого языков — все это равноправные участники событий, такой же инструмент актера, как голос, пластика, мимика.
Узкий жанр, открытый в живописи дадаистами, сегодня, мне думается, трансформировался, мощно проникнув во многие сферы искусства. В фильмы, как в «Сумасшедшем Пьеро» Годара, где эпизоды злоключений героя Бельмондо вплелись в хронику циркового триумфа французского клоуна Раймонда Дево. Следы коллажа у Р. Щедрина в балете «Анна Каренина», в романах-коллажах Хулио Кортасара или Андрея Битова, где выдержки из газет, афиш, документы и художественный вымысел нерасторжимо сращены в единый сплав прозаического повествования.
— Кстати о Маяковском, — возвращается к началу нашего разговора Витез. — Только что я принял участие в фильме о нем, снятом для французского телевидения режиссером Коллет Джиду и продюсером Тери Дамиш по сценарию Клода Фриу. Недели через две можете его увидеть. А Фриу наконец закончил свое многотомное исследование о Маяковском и его окружении. Раньше все свободное время уходило у него на университет.
— Да, быть президентом Венсена — дело героическое...
— Вы бывали там? — спрашивает Витез.
— Не однажды...
...С Клодом Фриу меня познакомили в доме Робелей (он — известный русист и переводчик советской поэзии) на приеме в честь юбилея агентства Сориа.
— У нас совершенно необычный университет, — сказал тогда Фриу, — приходите, убедитесь.
Сам президент показался мне тоже необычным. Громадный лоб, распространившийся до половины темени, длинные рыжие кудри, развевающиеся сзади, в движениях экспансивен, стремителен, несмотря на массивную фигуру, в застолье тягостно молчалив. А оказался Клод Фриу человеком яркого, парадоксального мышления, с редким даром оратора и проповедника.
— Учтите, послезавтра начинаются рождественские каникулы, — добавил он, прощаясь.
На другой день я побывала в Венсене у выпускников русского факультета.
Говорят, характер француза начинается с обеда. Не менее ритуален для него, на мой взгляд, выбор маршрута.
Как проехать? «Нет, по рю де Ренн быстрее, но у отеля «Пон Рояль» все перерыто, простоим уйму времени», — «А по бульвару Распай?..»
Выбрав идеальный маршрут, профессор Венсенского университета Ирина Сокологорская, скорее похожая на студентку длинными золотыми косами, веснушчатым лицом и манерой улыбаться до ушей, благополучно застревает в пробке на сорок минут. Отбиваемся от парней и девиц, просовывающих через ветровик листовки. Нас призывают: вступить в общество охраны собак, религиозную секту, принять участие в митинге солидарности с бастующими печатниками типографии «Паризьен либере», бойкотировать закон о налогообложении... Листовок накапливается штук двенадцать, а продвинулись мы метров на сто.
— Не дергайся, — с олимпийским спокойствием заявляет Ирина, — мои не разойдутся.
Действительно, студенты не разошлись. Но картину, которую мы застали, стоило бы заснять на пленку.
Дипломники русского факультета набились в аудиторию студентов первого курса, откуда неслось: «Не уезжай ты, мой голубчик» с цыганским перебором и стуком каблуков: новички праздновали окончание первого в жизни семестра. На сдвинутых столах — напитки, в том числе русская водка, сандвичи с ветчиной и сосисками. В освобожденном от мебели пространстве отплясывают танго, шейк, бамп сначала под Николая Сличенко, потом под парижского цыгана Алешу и наконец, под «Калинку-малинку».
Профессор делает строгое лицо — пытается остановить загул своих учеников. Время занятий вышло, ситуация тупиковая.
— Отложим до следующего раза? — осторожно спрашиваю.
— Почему это? — останавливается длинноволосая брюнетка в цветастой юбке, отороченной роскошной оборкой. — Бланш, — протягивает она руку.
А за ее спиной уже командует кудрявый паренек в джинсовой куртке, которого называют Пьером, и через пять минут, перейдя в свою аудиторию, дипломники замирают, точно восковые фигуры мадам Тюссо. Невозможно вообразить, что минуту назад в каждом теле все двигалось, переливалось как ртуть. XX век. Переключаемость!
— Может, сами назовете темы дипломов или семинаров?
Конкуренция с шейком мне явно не импонирует.
— Горький... Чуковский... Ильф и Петров... Платонов... Бабель... Драматургия Маяковского... (Достаточно, достаточно!..)
Рассказываю о диспуте «Надо ли ставить «Мистерию-Буфф»?» в 1921 году, о безудержно сломанной Вс. Мейерхольдом сценической коробке и соединении сцены с залом, о том, как заменены были привычные декорации конструкцией из системы лестниц, мостков, окружавших часть глобуса с надписью «Земля», о появлении с потолка «Человека будущего»...
— Ну и как? — перебивает мое повествование седой студент с ярким шарфом, обмотанным вокруг шеи. — Это прошло?
— Вопросы после! — шипит кто-то сзади.
...Потом говорим о Корнее Чуковском, о том, как в писательском городке Переделкино жил необыкновенный кудесник, который подарил подмосковным детям библиотеку и костер со стихами и плясками. Он был фантазером и жизнелюбцем, детским классиком при жизни и ученым с мировым именем, переводчиком и наставником...
Потом речь о «Климе Самгине», об Ильфе и Петрове... Звенит звонок.
— Мы вас отвезем, — заверяет студент в шарфе.
— Полчаса остается на вопросы, — бросает Пьер, и ему поддакивает его окружение. — Вот мы слышали, что вы встречались с разными людьми. Что они думают о будущем цивилизации? Или они довольны своей жизнью, а — после нас хоть потоп?
Сейчас у Пьера синева глаз отливает лезвием, и весь он напружинен, точно струны теннисной ракетки. Не отмахнешься.
— Не берусь, месье, отвечать на такой замечательный вопрос. Но многих во Франции я сама спрашивала... вот хотя бы это: «Что бы вы хотели переменить в окружающем вас мире, чтобы быть более счастливым?» Ответы самые неожиданные. Хотите, некоторые из них я зачитаю?
Роясь в записях неказистого блокнота, пытаюсь выбрать нужное, и, словно кинонаплыв, возникают лица, силуэты, отпечатки фраз, очертания берегов...
...Под Ниццей, в горах Сан-Поль-де-Ванс, как в лесном заповеднике, живет в Коллин седовласый мечтатель Марк Шагал. В ту первую встречу в 1974-й (последняя состоялась за несколько месяцев до его кончины, десять лет спустя), он еще полон был впечатлениями от поездки в Москву, переделкинскими соловьями и березами, толпами людей у входа на его выставку в Третьяковке, встречей с друзьями, балетом Большого театра. А час спустя в своем просторном рабочем ателье, где со стен на вас глядят летающие малиновые русалки, фосфорические синие рыбы, лиловые леса, розовое небо, зеленые птицы, он уже погружается в атмосферу живописи. На этюдниках рядом со старыми картинами, которые Шагал подправляет, стоят новые, еще неизвестные: эскизы, наброски, большие полотна, здесь же рядом — мольберты, краски, коробки с разноцветными мелками. Легко, точно ребенок, он порхает между столами и так же легко перескакивает с темы на тему. Он говорит о живописи, поэзии и о времени, которое осталось ему в жизни для работы.
— Ведь еще столько надо успеть, — сетует он. — Только бы потеплело на улице. Что бы я хотел переменить? Нелегкий вопрос. Самое главное для меня — это сознание, что в мире сегодня не убивают людей. В особенности детей. Я бы мечтал, чтобы каждый прожил на земле отпущенное ему и успел выполнить свое предназначение. — Шагал смотрит в окно. Теперь он удивительно похож на свою цветную фотографию в одном из альбомов. — Я остановил бы все войны, убийства, если бы мог. Да, я был бы более счастлив, если б в мире не умирал ни один ребенок.
В тот день в Ницце было очень холодно — пустынное море, пустые лежаки, свернутые зонтики, тенты. В Коллин еще холоднее, Шагал все время мерз — впервые в эту пору в горах выпал снег. По дороге непривычно было видеть незаселенные отели, незаполненные кинотеатры. Но в залах музея Шагала, в сокровищнице Пикассо — Антибе, во дворце Леже (как и на выставке Брака в Париже) было многолюдно, будто на празднестве, концерте или торжественном богослужении. Люди нуждались в искусстве больше, чем в курорте. На Парнасе, заселенном гигантами только лишь одного поколения, была другая температура...
Два года спустя, в декабре 1976-го, я вновь побывала в гостях у Шагала. Уже в канун его девяностолетия.
Через месяц президент республики Жискар д'Эстен вручит ему высшую награду — Большой крест, и будет решено впервые во Франции при жизни художника устроить выставку его картин в Лувре.
Этот декабрь совсем не походил на зиму 1974-го. Казалось, в Ниццу вернулось лето, пляжи заполнились полуодетыми людьми, скамейки, шезлонги были заняты загорающими, а около трех часов публика, одетая в вечернее, заполнила Концертный зал в Монте-Карло, чтобы увидеть балет Бежара «Мольер» — коллаж, соединивший высочайшую хореографию, пение и пантомиму, где буффонада и трагедия слились воедино.
В сумерках ясного неба дом и парк Шагала по-особенному красивы.
— Шагал по-прежнему работает с утра до вечера, — встречает меня Валентина Георгиевна, жена Шагала, и ее громадные сливовидные глаза грустно улыбаются. — За эти два года расписал плафоны в Лондоне, Чикаго, Париже... — Она оглядывается на дверь. — Сейчас закончит разговор с издателями из ФРГ и придет. Последние дни он чувствует себя немного уставшим, болеет. Стараемся приглашать друзей в это время, к чаю.
Шагал появляется минут десять спустя, чуть бледноватый, движения его несколько скованы из-за лечебного кушака, но он, как всегда, необыкновенно приветлив. Усталое, в сетке морщин лицо сияет по-ребячьи.
— Не могу забыть деревья в Подмосковье, — говорит он, чуть захлебываясь. — Я так хотел бы писать русскую природу! Там у деревьев особый наклон, форма, все другое. — Он с трудом усаживается в кресло, совсем близко. — Левитан мало что говорит западному человеку, а я гляжу на его картины и чуть не плачу. В этих ветвях и наклонах столько для меня близкого! Я бы мечтал перенести все это на полотно, но уже поздно, все поздно...
Он заглядывает в глаза, словно ожидая опровержения. Удивительная у него эта привычка — заглядывать в глаза, как бы зрительно проверяя смысл сказанного собеседником.
Спрашиваю о предстоящем юбилее, выставке.
— Боюсь этого ужасно, — шепчет он, — этих почестей. Не привык быть на виду. Награда — это, конечно, почетно, чо я чересчур нервничаю. Последнее время я ведь почти не выхожу, мало бываю на людях.
— Но обо всем все знает, — вставляет Валентина Георгиевна. — Читает газеты, интересуется всем, что происходит в мире, особенно в России. Слушает радио, страшно любит музыку.
В этот момент шофер вносит корзину с розами и тюльпанами, она едва пролезает в дверь.
— Мне все несут цветы, — разводит руками Шагал. — Я весь в цветах. Меня это удивляет. Я часто думал, что я и моя работа мало кому интересны. Мне никогда не нравилось то, что я делал. Всегда думалось: кому это нужно — эти мои мечты, фантазии, причуды воображения?
Вспоминаю заоблачную высь синих витражей в Концертном зале музея Шагала в Ницце, выставленную там и единственную в своем роде коллекцию картин на библейские мотивы, думаю о выставке «Автопортрет в русском и современном искусстве» в Москве, которая три месяца в пятнадцати залах Третьяковки собирала тысячи посетителей, где были экспонированы работы Шагала, и среди них завораживающая «Свадьба», и сквозь все это смутно начинают проступать лица студентов Венсена.
...Стараюсь переключиться, попасть зрачком в настороженные глаза слушателей. Минута, и снова листаю записи в затрепанном блокноте.
II
В середине декабря, когда вдруг потеплело и после обильного дождя небо высветило неправдоподобно синим, обнажая прозрачную чистоту силуэтов Пале Рояля и площади Конкорд, в город вернулся из поездки в Женеву Хулио Кортасар. Кумир латиноамериканской молодежи, книги которого сравнивают с романами Толстого и Достоевского, для меня тогда он был создателем сборника рассказов «Другое небо», одной из книг, что «берут на необитаемый остров».
В доме женщины с прекрасным, значительным лицом, светлыми волосами и темными глазами в день рождения ее сына горели огни рождественской елки, а мальчик в одежде Деда Мороза одаривал гостей, когда вдруг на лестнице, ведущей в мансарду, раздались тяжелые шаги и появился вампир с кроваво-вывороченными губами и веками. Он рычал и плясал, выделывая ногами немыслимые кренделя. Мальчик сдернул маску кровопийцы, и открылось лицо удивительной доброты и одновременно застенчивости, как бы антимаска вампира. Скульптурная бугристость кожи, густая шевелюра и борода Че Гевары оттеняли блестевшие азартом глаза, цепко перебегавшие по фигурам гостей. В комнате все словно уменьшилось в размере — столь громаден, масштабен был человек, появившийся среди нас. В тот вечер много говорили о погибшем Пабло Неруде, о книгах, которые имеют свою судьбу, как известно, отличную от судьбы их творцов. Кортасар кивал, соглашаясь, на лице его появилось выражение напряженного страдания, а я думала о неповторимой магии его новелл, в которых чудодейственно смешаны краски самой точной бытовой и психологической реальности, обжигающая сопричастность человеческому горю и вдохновенный вымысел фантаста, изображающего невероятное как вполне естественное.
Когда два года спустя я вновь побывала в доме на Рю де Савуа, в Москве уже вышел новый однотомник прозы Кортасара, привлекший широкое внимание читающей публики...
— Фантастическое... — задумался Кортасар, отвечая на мою тираду о сплаве магического, чудесного с реальным, имеющим некоторые традиции и в русской прозе. — Фантастическое — это для меня совершенно будничное, то, что может случиться в любой момент: в кафе, в метро, в обществе женщины, в каком-нибудь путешествии. Подобное происшествие ввергает меня в то состояние «сосредоточенности и рассеянности, входа и выхода» в различных изменениях, которое в конечном итоге предопределяет появление невероятного во многих моих романах и новеллах.
Мои романы содержат элементы чистой фантастики, — продолжал он, — введение персонажей, немыслимых в обычной жизни, например присутствие пингвина на парижских улицах, но параллельно этому в моих книгах существует ситуация и обстоятельства, созданные из реального опыта, на базе сегодняшней драмы, как латиноамериканской в целом, так и, в частности, драмы Аргентины.
— Как в романе «Выигрыши»? — спрашиваю. — Где элементом фантастики становятся для пассажиров парохода невероятные события, происходящие в запретной зоне — на палубе.
— Конечно... И вообще я хотел бы видеть мир более счастливым, чем он сейчас, мир, где бы вещи не были так подчинены условиям, организующим их таким образом, который, на мой взгляд, не является на самом деле для этих вещей органичным. Я хотел бы видеть мир, где возможности человеческого существа не были бы затоплены и задушены печальным воспитанием, которое дается детям, и все направлено лишь на то, чтобы сделать из них граждан логического города, города Аристотеля. Я хотел бы, чтобы человек стал более открытым к тому, что люди назовут идеальным или чудом, а я называю проявлением фантастики. Чтобы человек был более расположен к состраданию и в конечном счете сам почувствовал его на себе. Я хотел бы, чтобы в будущем человеке максимально раскрылось поэтическое, чтобы поэзия делалась всеми...
Спрашиваю Кортасара, какие обстоятельства влияли на его творчество, сделали его художником, столь глубоко чувствующим страдания каждого человека в отдельности и всего человечества в целом.
— С самого детства, — говорит Хулио, — я был страшно восприимчив или, если хотите, чувствителен. Очень близко воспринимал все, что происходило вокруг меня. Для меня горе любимого существа и даже гибель животных и растений с самого начала моей жизни были обстоятельствами до такой степени потрясающими, что я сам заболевал. Это распространялось на меня самого. Осознав существование ближнего как исторического существа, то есть что я принадлежу народу и что этот народ принадлежит, в свою очередь, всему человечеству, — я ощутил свою неотторжимость от судеб моей страны, и сила этого чувства с годами все увеличивалась. Говоря грубо, когда я был ребенком, болезнь моей бабушки делала меня больным, а теперь болезнь Чили и Аргентины делает меня больным. И у меня возникает потребность — возмутиться, включиться, сражаться против существования коллективного несчастья, происхождение и причины которого мы знаем и против которого все имеем право бороться...
Думая над словами Хулио, я жалею, что размеры кратких заметок не позволяют мне передать более полно все высказанное им, но я понимаю теперь, что сквозь «магические дыры его реальности», о которых столько писала мировая критика, всегда просвечивает «другое небо» Кортасара — небо того человечества, где каждый будет поэтом.
...Рабочая комната Натали Саррот сплошь заставлена книгами: французскими и русскими, классика и современность — рядом. Многие представители «нового романа» уже не вызывают интереса сегодняшнего читателя, а книги Натали Саррот — всегда в центре внимания. Одна из ее последних книг, «Слышите ли вы их?», — о столкновении поколений. Два этажа жилого дома, два способа существования, две точки отсчета ценностей. Все — не совпадает.
Натали Саррот протестует против варварства, которое порой сопровождает стремление молодых порвать со старым, закостеневшим, но она имеет мужество сказать: «Прислушайтесь к ним». Она любит тех, о ком пишет, и молодежь отвечает ей взаимностью.
— Нельзя подходить к молодым с готовыми схемами, — говорит она в ответ на мой вопрос. — Предвзятость представлений — преграда на пути людей к счастью. Я бы уничтожила эту предвзятость и воспитала у каждого человека и народа умение смотреть на жизнь других, отбросив заведомую вражду, предрассудки.
...Сзади слышится чей-то вопрос.
— Наверно, хватит на сегодня? — обращаюсь к студентам, откладывая в сторону записи. — Как вы видите, Пьер, среди моих собеседников не было «довольных», но духовные ценности, созданные нацией, принадлежат новым поколениям. Вам предстоит жить в том пространственном «окружении», которое создали лучшие умы Франции, дух и гений ее народа. Менять — прекрасно, но «кое-что», может быть, стоит и сохранить?
А два года спустя, в конце семестра, я приехала в Париж уже по приглашению Венсенского университета. Теперь я многое прочла об Университете VIII, знала, что у него новый президент Пьер Мерлен, талантливый специалист в области нового градостроительства, автор известных работ о современных условиях жизни, один из создателей плана реконструкции Парижа [Во время выхода книги Президентом Университета VIII стал снова Клод Фриу.].
На этот раз движемся к Венсену с той же Ириной Сокологорской в непроглядной тьме — с полудня началась забастовка работников электростанций.
В вестибюле центрального корпуса горят свечи, факелы, коптилки — в их огнях различаем одеяла, шкуры зверей, расстеленные на полу, а рядом мексиканское сомбреро, чилийские пончо, сумки, вырезанные из кожи, мечи из дерева. Здесь, в полутьме, Ирина расстается со мной: лекция ее на полчаса раньше.
А это еще что? Наклоняюсь, чтобы проверить. На цепочке — позолоченная бритва. Их у бородатого гиганта целая серия. На темном вельвете салфетки они поблескивают, наводя на дурные мысли. Ощупываю бритвы. Не режутся, и то хорошо.
— Новая мода, — слышу над собой голос на ломаном русском.
Оборачиваюсь. Кудрявая блоковская голова, круглая детская физиономия. На груди — цепочка с бритвой.
— Услышал русскую речь и нашел вас в темноте. — Парень мнется. — Вы очень спешите? Меня зовут Жан.
— Не очень. Еще двадцать минут.
Присев на самодельный табурет, пишем по просьбе Жана поздравительную открытку в Киев. Рядом двое его друзей.
Дальше идем вместе. Обращаю внимание на странные амулеты. На цепочках — кольца с полумесяцем внутри, лежащие перед молоденькой мулаткой.
— Она из Африки, — поясняет Жан. — Кажется, полумесяц — это знак возвращения. Многие покупают талисман, чтобы вернуться. Как в Риме бросают монетки в фонтан Треви.
Все трое провожают меня в аудиторию по какой-то лестнице — голову сломишь. И вдруг зажигается свет. Ура!
Видно, чтобы оценить преимущества цивилизации, надо их на время лишиться.
И вот знакомая аудитория. Комната заполнена, прокурена до потолка, сзади настежь распахнутое окно — проветривают.
На этот раз говорим о прозе В. Шукшина, Ю. Трифонова, В. Белова, В. Распутина, А. Битова, Б. Окуджавы, М. Рощина и других, о разноликости ее представителей, раскованности повествования, о ее новых героях, о французских переводчиках прозы, донесших их неповторимые интонации, — Лили Дени, Люси Катала, И. Сокологорской и других.
Сопоставляю, цитирую, вспоминаю, о женщинах — моих коллегах-прозаиках — И. Грековой, Е. Ржевской, Н. Баранской, М. Ганиной, Г. Демыкиной, И. Велембовской, А. Беляковой, В. Токаревой и других.
Сыплются вопросы:
— Подробнее о личности В. Шукшина.
— К какой литературной традиции вы отнесли бы последние повести Ю. Трифонова?
— Знаете ли вы повесть А. Битова «Улетающий Монахов»? Только что мы читали ее в «Звезде».
— Что делает начинающий писатель с рукописью? Куда идет?
— Какие права дает членство в Союзе писателей?
— Есть ли в вашей литературе антагонизм между различными течениями?
— Как женщины совмещают быт и творчество?
И вдруг:
— Знакомы ли вы с писателем Григорием Гориным?
Ничего не скажешь, подкованные студенты в Венсене!
И все же что-то изменилось в них. В воздухе нет радости, приподнятости. После нашего разговора студенты начинают шушукаться, к ним присоединяются преподаватели — составляется какая-то листовка, завтра лекции в университете отменяются. Почему? Демонстрация у министерства. Что же вы будете там делать? Проведем занятия прямо на улице, у здания. Снова урезали средства на образование, нам в особенности. Уж очень мы колем глаза властям.
— Значит, стало труднее, чем два года назад?
— Намного, — грустно пожимает плечами один из молодых преподавателей. — Редко кто из окончивших может устроиться по специальности. «Фабрики безработицы» — вот как называют сейчас французы свои университеты. Помните Бланш? Та, что отплясывала прошлый раз? Очень способная, а вот, окончив, работает машинисткой... Все бурлит, — добавляет он.
Теперь я знаю, что за шесть летних недель 1968 года в лесу были выстроены корпуса Университета VIII, чтобы создать экспериментальное учебное заведение нового типа, где были бы соединены признаки очного и заочного института. Венсену предрекали близкую гибель, начались бесконечные дискуссии. В спорах раздражение порой заглушало смысл происходящего.
...Открыты двери в университет для людей, даже недоучившихся в лицее? С заводов и ферм, иногородних и иностранцев, даже для тех, кто уже имеет образование и не удовлетворен им? Не может быть! Да-да, лекции построены с расчетом на самостоятельное освоение дома, в библиотеке... Город гуманитариев, где кроме социологии и права преподают психоанализ, биоэнергетику и сексологию? Кому это нужно?
...Венсен существует уже девять лет. Выпускники его разбрелись по разным городам и странам. В университете сделана попытка создать новую методику преподавания, критически переосмыслить знания, десятилетиями носившие печать академизма, господствовавшего в социальных науках. Статистика показывает, что по кредитованию на научные исследования Венсен находится на 71-м месте среди университетов Франции, по расходам на штаты — на втором, а по количеству научных публикаций — на первом.
Теперь это городок со своими средствами массовой коммуникации, со своей многотиражкой и кинозалом, театром, залом скульптуры, живописи. Библиотека университета обладает редким собранием книг по социологии, эстетике, праву, воспитанию, культуре. Университет становится на ноги. И все-таки споры вокруг Венсена не утихают до сих пор.
В последнее время все упорнее говорят о необходимости переселения университета из Парижа в пригород Марн-ля-Валле. Почему? Истекает срок, на который муниципалитет Парижа предоставил университету участок в Венсенском лесу, временно построенное здание неуклонно разрушается. Резонно. Но только ли о здании идет речь? «Следует ли воспользоваться переселением, чтобы уничтожить душу Венсена, надеть на него смирительную рубашку?» — задает вопрос Жерар Птижан в «Нувель обсерватер». Оказывается, переселение связано отнюдь не только с переменами условий бытия университета. По дороге от Парижа до Марн-ля-Валле должна произойти трансформация Венсена из университета экспериментального в университет, обслуживающий нужды микрорайона, с сокращением числа студентов с 32 тысяч до 15-ти, с заменой важнейших дисциплин духовного формирования человека полезно-утилитарными — управление производством, экономическое правоведение и т. д. Но на каком основании? А на том, что «...Венсен — это своего рода роскошь, — приводит Птижан слова служащего государственного секретариата по делам университетов. — Это миф, определенный климат, который не поддается административному управлению».
Да, да... не поддается. Как вдохновение и творчество, воздух и талант. Что же, и душа — это тоже своего рода роскошь? Но не станет ли и человек роскошью, если только алгеброй поверять его духовную жизнь, если гуманитарные познания общества, его связи с миром сократить до нужд сиюминутных?
«Вот уже много лет пытаются понемногу убить Венсен, — завершает свою мысль автор статьи в «Нувель обсерватер». — Переселение в Марн-ля-Балле будет днем его гибели». Нет, поверить в это невозможно. Борьба за Венсен продолжается, за него вступились силы прогресса и мужества, и он еще постоит за себя.
* * *
...Через месяц я прощалась с Венсеном.
Спускаемся по знакомой крутой лестнице.
— Минуту, — задерживают меня двое молодых слушателей, — не торопитесь, мы сейчас...
Уже внизу, в дверях, запыхавшись и улыбаясь, они протягивают коробочку.
Отклеиваю скотч, открываю крышку. На синем бархате поблескивает уже знакомый талисман — кольцо с полумесяцем.
1977
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать: