ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

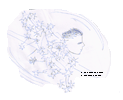

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Шагинян Мариэтта 1942
1
Пройдут десятилетия — и тысячи страниц испишут о том огромном, что мы называем сейчас «обороной Москвы». Ученые будут рыться в документах, в газетах; для художников станут драгоценными каждая мелочь, каждая черточка, уцелевшие от забвенья и не поглощенные временем. Вот почему каждый из нас, очевидцев и современников, должен по свежему следу, пока не начала изменять память, записать все пережитое. Нужды нет, что не получится целого, не будет охвачено все, — одному человеку это и невозможно. Главное — каждый из живых людей в необозримом количестве впечатлений и фактов подметит что-нибудь одно, свое, и вот об этом своем и скажет.
Для меня таким «своим» было по-новому яркое ощущение советского строя в войну. За каждым отдельным фактом обороны вставала вся наша система, открывались те преимущества, которые она доставляет нам и которые мы должны научиться полностью использовать.
Мы, советские люди, в первые недели войны могли наблюдать удивительное зрелище: как наши дома и старинные дворцы, и деревянные, одноэтажные где-нибудь возле заставы, и огромные блоки на новых улицах, самые разные по виду, возрасту, расположению, как эти дома почти мгновенно сорганизовались, объединились, словно мобилизованные в военном строю. Мы в этих домах жили, не задумываясь об их управлении. Про управдома вспоминали, когда нужно было кого-нибудь обругать. Но сейчас он и весь обслуживающий состав дома — лифтерши, истопник, дворник, а там, где их нет, домохозяйки, выборные от жильцов — сделались проводниками системы, частицами единой, сильной, необычайно подвижной организации. Одно и то же стало обязательным для каждого дома, и все как один на глазах наших с осязаемой быстротой проделали переход на оборонное положение. Синяя лампочка на лестнице, синие наклейки на окнах, мелом подчеркнутые перекрестки, заложенные доверху мешками с песком зеркальные витрины, кадки, ведра, лопаты, песок и вода — все это одновременно и почти мгновенно водворилось по всей Москве. Стали у ворот дежурные, появился уполномоченный по дому; наверху, на чердаке, захозяйничала пожарная бригада. И вместе с этой военизацией домов как-то сразу опрозрачнилась перед нашими глазами вся улица, прозрачными стали дома, ясней, глубже, убедительней увидели мы наш коммунальный советский быт, советские отношения, пережили то особенное, острое, только в нашей стране знакомое, повсеместное чувство домашности, уверенности, что нет ни единого закоулка в нашем городе, где не стояла бы такая же прозрачная общественная ясность, где не было бы все той же налаженности советской структуры.
Должно быть, так было в каждом из наших городов, но в Москве особенно сильно. В ней не только ставились и решались все основные вопросы войны, но в ней изо дня в день шло оборонное творчество. Оправдали себя самые разные организации: художественные, научные, культурно-массовые — все они начали работать на оборону. Первый период их работы был чисто педагогический, разъяснительный: листовки, плакаты, радио, кино, агитпункты, статьи, учебные фильмы, лекции, графика, иллюстрации стали объяснять населению, что такое воздушная атака, что такое фугасные и зажигательные бомбы, как с ними бороться. Изо дня в день велось это разъяснение. Через пластический образ в кино москвичи усваивали нервами, мускулами, внутренне повторяя в себе движения, увиденные на экране, весь процесс борьбы с бомбой. Позднее, когда они с этой бомбой столкнулись в жизни, они показали чудеса находчивости и отваги. Можно сказать, что в первые недели войны сдала экзамен на «отлично» многолетняя советская практика пропагандистской массовой работы.
Потом начало сдавать экзамен искусство. За прямой агитацией последовала художественная. Вместо листовок и разъяснений на стены вышли стихи и карикатура, возникли замечательные содружества текста и рисунка, такие, как Маршак и Кукрыниксы. Стал изменяться и весь облик Москвы. Неотложной стала задача так называемой «маскировки» города, чтобы вид сверху на городские объекты сделался новым и чтобы хищник в небе потерял свой ориентир. Советские архитекторы сумели и к этой специальной задаче, подчиненной строгим законам оптики и геометрии, подойти творчески.
Свою задачу они проделали с огромным вкусом. Для врага — дезориентир, маска, провалы, путаница; для самих москвичей — раскраска, агитирующая, как плакат, возбуждающая чувство героики, чувство необычайной важности наших дней.
Многолетний наш опыт празднично поднимать город, заставлять его участвовать в праздничном движении, организовать это движение, звать к маршу помог архитекторам внести в маскировку такую агитационную силу, такой общественный элемент, о котором вряд ли и помышлять могут архитекторы на Западе.
Все это лишь первые, беглые, внешние впечатления, но они потом росли и росли — от поведения наших художников в тылу и на фронте до той большой роли, которую начало играть искусство в подъеме оборонных настроений, в мобилизации масс, в объединении людей.
2
Очень большое значение получили в первые дни войны голоса людей. Мать говорит сыну-красноармейцу по радио; это частное письмо, сказанное вслух. Пишут люди из одного осажденного города в другой, перекликаются, дают весточку близким. Разговаривают ученые нашей страны с учеными союзнических Англии и Америки. Голосам этим особенность исторической минуты — грозность условий, постоянная опасность (враг близко, город под обстрелом) — придала новое качество. Обычная форма таких высказываний, уже имевшая свой трафарет, сейчас пропиталась личным, теплотой, искренностью; «на людях» голоса звучали так же интимно, как и в четырех стенах своей комнаты. И в то же время все личное стало восприниматься как общее, как вышедшее за пределы собственного мира двух разговаривающих. Это очень хорошо понимал Лев Толстой. В сценах «Войны и мира» сквозь случайный диалог двух незнакомых людей, задетых за живое, сквозь солдатские реплики, словечки из толпы, всегда жизненные, всегда о своем, глядят эпоха и обстановка.
Особенно запомнились мне два голоса, может быть, потому, что за одним из них встало далекое, знакомое лицо. Наш советский физик с мировым именем П. Капица перекликнулся с знаменитым английским ученым, физиологом Арчибальдом Хиллом. Знали они друг друга, вероятно, давно: П. Капица долго жил в Англии. И каждый из них, выступив, заговорил не о своей стране. П. Капица написал в «Вечерней Москве» 14 августа 1941 года:
«Передо мной лежат номера журнала «Начур» [«Природа» (англ.).] за 1941 год. Мы, ученые... привыкли читать в этих номерах описания вновь созданных научных учреждений, институтов, библиотек и музеев. Теперь в каждом номере я читаю перечень разрушенных фашистскими бомбами и пожарами сокровищ мировой культуры. Повреждены и разрушены здания университетов в Лондоне, Ливерпуле, Бирмингаме и других городах. Повреждены Британский музей, Гринвичская обсерватория... Разрушены и повреждены памятники искусства Лондона, включая творения самого великого зодчего Англии Кристофера Рена...»
Ученый спрашивает как бы в недоумении: «Неужели это возможно в наше время? Ведь... Британский музей находится в центре Лондона. Рядом нет военных объектов. Нечаянно бомбить его нельзя».
И отвечает: «Это все только указывает, что фашизм в своем озверении разрушает мировую культуру, науку и искусство. Они ему непонятны, как не были понятны варварам, в средние века наводнявшим Европу...»
Покуда Капица вспоминал уютные залы Бритиш Мьюзеума, чудесные архитектурные памятники Лондона, «веселую старую Англию» во всем своеобразии прелести ее страны, Арчибальд Хилл в Лондоне припомнил больницы, лаборатории и клиники Советского Союза, бесконечную перспективу Андреевского зала в Кремле, стройную колоннаду Казанского собора, набережные Ленинграда.
В 1935 году он был у нас на Пятнадцатом Международном конгрессе физиологов в качестве постоянного ученого секретаря или вице-президента этого конгресса, уже не помню точно. Приехал с женой, сыном и дочерью и сразу всю публику конгресса очаровал своей английской моложавостью, выправкой и спортсменскими замашками. Помню, как этот шестидесятилетний красавец юноша вспрыгнул в Детском Селе на мраморные перила чуть ли не в полтора метра вышиной, — «прыжок», от которого любой подросток ахнул бы от зависти.
Арчибальд Хилл не всегда был с нами. Но сейчас, с войной, он сделался нашим настоящим другом и настоящим помощником. Надо знать его огромный мировой авторитет и всю силу его голоса, чтобы оценить по достоинству страстную речь, которую он произнес по радио. В конце этой речи, еще совсем прежним, юношески веселым голосом, с величайшей английской непосредственностью и юмором, Хилл воскликнул в микрофон: «Давайте забудем все глупости, которые у нас в Англии раньше говорились, давайте действовать сообща!»
Это восклицание как будто прорвало шлюзы между двумя культурами. Мы очень долго и прочно держали связь с французским искусством, у нас были традиционные связи с германской наукой, но Англия и Америка были дальше от нас и тесное культурное сближение с ними по-настоящему только начинается. Советский Союз знают на Западе до смешного плохо. Даже интеллигенция, учащиеся до сих пор верят всякому невежественному вздору, переполнявшему уличные листки.
Вот почему сейчас, как никогда раньше, всякий честный, искренний голос о нас приобретает не только культурное, но и оборонное значение, мобилизует за рубежом общественное мнение, влияет на усиление технической помощи Союзу. И в этом смысле Москва тоже сделалась с первых дней войны сердцем обороны.
Отдельные голоса, подобные Хиллу, сменились голосами больших коллективов. В Москву сотнями стали приходить телеграммы с выражением симпатий и солидарности, подписанные участниками митингов, союзами, корпорациями, обществами. Телеграммы эти печатались в наших газетах изо дня в день. Москвичи тоже ответили на них голосом коллективов. Митинги всеславянский, еврейский, женский, молодежный прозвучали на весь мир. Слово советской женщины не могло не запасть в сознание американской фермерши, английской хозяйки, мексиканской актрисы, французской продавщицы — тысяч, сотен тысяч женщин всех профессий и национальностей. Если бы наши митинги передавались не только по радио, но и телевидением на экране, то каких бы женщин увидели в Америке и в Европе! Худая, смуглая, сильная рука испанской работницы, рука Долорес Ибаррури, еще раз взлетевшая в грозном жесте; страстное, мученическое лицо Ванды Василевской с ее сжатыми губами аскетки и горящими глазами, лицо, которому веришь, в котором читаешь историю народа, за которым пойдешь без оглядки... Но, может быть, еще сильней и внушительней, чем эти лица, заговорило бы для европейских и американских женщин другое лицо, иного типа.
Это было в Колонном зале профсоюзов, на митинге работников печати. Очень тихо и незаметно, не в самом начале и не в самом конце, а просто в ряду очередных ораторов, взошла на кафедру старая женщина в черном. Во всем ее облике — чуть старомодном длинном платье, гладко зачесанных седых волосах, сдержанном выражении узкого, суховатого лица, скупом жесте — ничего не было броского, ничего не кидалось в глаза, и это стало заметно через мгновение, и это именно как-то приковало к ней, к ее лицу и губам, весь зал. Потому что вместе с этим неброским, незаметным, подтянутым взошла на трибуну старая, знакомая, незабываемая культура, старая, знакомая, незабываемая традиция — большевички, подпольной работницы, члена старой ленинской гвардии. Это была Стасова. За ней перед сотнями женщин-работниц вставала в памяти и знакомая фигура Надежды Константиновны Крупской... Та же большая образованность, обходящаяся безо всего мудреного, без единого непонятного термина, но чувствуемая за каждым словом; тот же спокойный авторитет, завоеванный всей жизнью, та же любовь к массе, уменье говорить с массой, вести ее, спаять ее воедино. Стасова сказала немного: про уборщицу, сидевшую тут же, в первом ряду, и ее сына, Героя Советского Союза, отличившегося на фронте. Но уборщица слушала, затаив дыхание, как будто не про нее шла речь, а про всех матерей; и каждая мать в зале слушала, как будто не про уборщицу шла речь, а про нее самое...
Таково действие большевистского умения говорить с массой. Культура, выдержка, организующая сила характера, высокое знание, никогда не вылезающее наружу, но питающее весь ход мыслей, — эти качества чтутся в Европе и Америке на вес золота, и было бы очень важно для нас, чтобы традиция большевизма, культура большевизма раскрылась наконец перед американцами и англичанами вот в таких отдельных человеческих образах.
3
Фашисты начали бомбить Москву в ночь на 22 июля. Впрочем, настоящей, черной ночи тогда еще не было, — день заходил за ночь, и слова «Граждане, воздушная тревога!» разносились при зеленоватом прозрачном небе. Кто эти первые бомбежки пережил в Москве, запомнил их на всю жизнь. Спускаешься в бомбоубежище, не в силах побороть неуместное как будто чувство — любопытство. Зеленый цвет неба неспокоен, жуток, где-то за зеленью — грязные пятна бензина; еще не слышно для уха, но ощутимо для нервов — тишина неба надорвана рокотом моторов, приближается враг, сейчас могут упасть на Москву первые бомбы, — и словно не ты живешь, а страница книги; словно ты стал читателем собственных дел и дней; сознание раздвоилось, нет страха — огромное острое желание познать, увидеть, пережить, ринуться в действие; это фронт, а на фронте всегда легче, чем в тылу. Так воспринимали первые дни бомбежки не только дети и подростки, но и многие взрослые москвичи. На следующий день, словно подытоживая за своих сограждан пережитое особое волнение, Ставский хорошо написал в «Правде» об этих первых бомбах над Москвой.
В бомбоубежище свет — большая роскошь для затемненной по ночам Москвы. Пользуясь им, москвичи принесли сюда работу. Старый ученый погружен в нумерованные, мелко исписанные листки; мать довязывает носок; кое-кто читает затрепанные библиотечные книжки. Изо дня в день, вернее, из ночи в ночь, во время непрерывных бомбежек маленькая жена знаменитого челюскинца готовила по учебнику английский урок, исписывая тетрадь за тетрадью... Немногие события, нарушающие общий быт, это короткая побывка дежурного. Он приходит сверху, с на-гора, как говорят шахтеры, серьезный, молчаливый, значительный, не отвечающий на вопросы. Ему дают напиться из бака. И опять туго на болты закрывается дверь, исчезает зеленовато-белая полоска летней ночи, видневшаяся сквозь щель. Потом, пробираясь между сидящими, проходит санитарка из местного медпункта. Тяжкое сотрясение — это ухнула невдалеке бомба. Трехлетняя девочка, просыпаясь, говорит: «Фугаська». Начинаются тихие, безответные вопросы: где, с какой стороны? Громко разговаривать нельзя.
За время войны такие ночные отсидки сделались бытом, к ним приспособились, на них выросли. Бывали и комичные сценки. Дремучая борода, деловой приезжий, дядя-колхозник, с исписанным листком всяких поручений за пазухой и крепким, унизанным веревкой мешком под мышкой, входит в бомбоубежище прямо по внутренней лестнице, из большого магазина. Времени у него в обрез, он выстоял очередь, но купить ничего не успел. За ним наблюдают десятки глаз, дядя явно нервничает, то сядет, то встанет, то спросит, сколько времени. И вдруг в привычной тишине бомбоубежища громовой басовитый голос: «Граждане, да чего ж мы сидим? Похлопотать надо!» Он так привык ко всяким препятствиям, так умеет по-крестьянски всяческое дело «обхлопотать», что ему кажется — люди сидят от слабости характера и лени, а стоит пойти кому-то, выложить резон, и всех отпустят восвояси.
Но вот к трем-четырем часам утра самый чуткий в убежище вздрагивает, поднимает голову, прислушивается. Происходит движение. Ожили люди, голоса, скрип скамеек. Это гудки возвещают отбой. И переживается самая незабвенная минута первых недель войны. Дверь распахнулась. Гуськом движутся люди. На лестнице еще синий свет лампочек, но в раскрытом квадрате наверху — белесовато-молочная рассветная мгла. Кажется, будто на камнях города выпала утренняя роса. С волнением, с болезненным чувством события, с жадным интересом выходите вы на каменный, стиснутый домами дворик.
Над вами — ясное небо. Воздух тяжел и насыщен гарью, отзвучавшими грохотами; он в пелене затихших сражений, — словно по небу всю ночь ездили дымные грузовики. На асфальте — выбитые осколки стекол. Где-то черный столб затушенной, но еще дымящейся головешки. Но сражение ушло, враг выгнан, и в спокойных зеленых заводях неба, словно корабли на якорях, стоят серебристые аэростаты заграждения. Этих минут нельзя забыть, это история в действии.
Когда ночи стали длинней и черней, много пришлось понаблюдать с крыш. Московские чердаки с их недрами сделались местом сбора особых бойцов — пожарников. Очищенные от мусора, раскрытые настежь, с пролетами на крышу, чердаки, как и подземелья, стали обжитыми; их обжили самые молодые и сильные жильцы дома, вооруженные перчатками, щипцами, лопатами и прочим боевым оружием. Под землей люди ощущали нервами то, что происходило в небе. На чердаках это жадно наблюдали глазами.
Уже много писалось и рассказывалось о замечательных советских людях, защищавших Москву от бомбежек. Подростки храбро хватали «за жабры» плевавшиеся огнем зажигательные бомбы и выбрасывали их в окно, точь-в-точь как показывалось в кино. Женщины и девушки дежурили на чердаках. По утрам население домов, не спавшее ночью, выходило на авральные работы, подметало лестницы, собирало осколки стекол, расчищало дворы. Имена москвичей попадали в сводку Информбюро наравне с именами фронтовых бойцов.
И однажды утром газеты дали скупые три строчки сводки о том, что пять советских служащих героически отстояли от пожара деревянную усадьбу Льва Толстого в Хамовниках, превращенную в бытовой музей.
4
...Еще до начала немецких бомбежек тихая улица Льва Толстого, как и все московские улицы, как и все дома, прошла сквозь инструктаж борьбы с бомбами. В эту ночь дежурство в музее несли пять человек: худенькая смуглая девушка В. Н. Гусева — научный работник музея, заведующий музеем Н. П. Теодорович, дворник музея X. Юнисов, татарин по происхождению, пожарник Ф. Д. Зубарев и только недавно приехавшая из колхоза, не очень грамотная, не очень разбирающаяся в политике уборщица Г. В. Тюрина. Поздно вечером бригадир этой маленькой группы Теодорович собрал ее еще раз в саду и рассказал, хотя знал об этом лишь по брошюрам и лекциям, как нужно бороться с бомбами. Простые советские служащие, каких миллионы на нашей земле, внимательно слушали. Они были далеко от центра, на окраине столицы. Никакого военного объекта поблизости. Проступали на небе звезды, пахло вечерней росой, жимолостью, прелым покосом, сырым деревом из только что привезенной и сложенной дровяной кучи. Залаяли собаки в чужих дворах. Но вот в лай вмешалось стрекотание: по небу мчался немецкий хищник. Люди не успели крикнуть «берегись». Над толстовским музеем-усадьбой немецкий бомбардировщик выпустил пачку — свыше тридцати — зажигательных бомб.
Усадьба — деревянная. На ее площади — легкие, воспламеняющиеся постройки, куча дров, целая копна сухого сена. Первой услышала шипение бомбы В. Н. Гусева: зажигалка упала у самых ее ног. Не было бы, в сущности, ничего странного, если б неопытная группа людей растерялась, почувствовала себя беспомощной, бежала от опасности. Но это не показалось бы странным лишь на чужой, а не на советской земле. Чувство ответственности, организованность встали в этих пятерых людях, мгновенно преобразив их. Бригадир тотчас расставил на боевые участки своих бойцов. И сами бойцы, схватив оружие — пожарную кишку, ведра, лопаты, мешки с песком, начали войну с бомбами. Шипело уже семь, восемь, десятки. Они сыпались с разных мест. Но люди обезвреживали их. В. Н. Гусева даже сейчас, вспоминая, как она шлепала бомбы мешком, как тлело на ней платье, как начинала угасать в бомбе ее ядовитая жизнь, — краснеет и одушевляется...
К утру были уничтожены тридцать четыре зажигалки и все их очаги. На площадке, как будто созданной для пожара, в деревянном доме Толстого не пострадало ни одно бревнышко.
Оказалось, что фашисты, в разбойничьем и мародерском нашествии на советскую землю, не случайно избирают целью наши народные святыни и реликвии. В Клину они разрушили, разграбили дом-музей П. И. Чайковского; в Истре надругались над домиком, где жил А. П. Чехов. В Ясной Поляне осквернили все, что было дорого сердцу не только советского, но и каждого культурного человека. Так древний вандал, проснувшийся в цивилизованном арийском ублюдке, идет с бешенством разрушителя на культурные святыни нашего народа.
Они делают это в надежде, что русские перестанут помнить и познавать себя, потеряют величие своего прошлого и путь к будущему. Председатель Специальной комиссии Академии наук, выезжавший в Ясную Поляну, И. И. Минц рассказывает: «Возле учительницы яснополянской школы, которая держала на руках грудного ребенка, остановились два германских офицера. Не подозревая, что учительница знает немецкий язык, один из офицеров, указывая на младенца, самодовольно сказал: «Вот этот уже ни слова не будет знать по-русски. Только разве старики и будут помнить русский язык, а всех остальных мы заставим говорить по-немецки».
Но никогда раньше не чувствовал еще русский народ так остро, так свято, так волнующе своих культурных памятников, никогда, может быть, не стремился так познать себя в прошлом и в настоящем, так утвердить себя для будущего, как в эти дни великой схватки с врагом всего передового человечества. И никогда советская система с ее глубокой, непрестанной работой для народной массы, с ее настоящим корневым демократизмом, с ее воспитывающими, поднимающими, обучающими методами и учреждениями не открывалась так народному взгляду во всех ее преимуществах, как после каждого цинического поступка фашистов.
5
Пять советских служащих, спасших свое учреждение от немецких бомб, сделали, в сущности, то, что входило в круг их обычных, мирных обязанностей; это они точно так же могли бы сделать и в мирные дни, во время пожара; это стоит, наконец, в перечне обязанностей советского гражданина по нашей Конституции. Война только вскрыла с показательной яркостью, до какой степени параграф Конституции, касающийся социалистической собственности, вошел у нас прочно в плоть и кровь. Именно это новое чувство собственности на музеи и памятники, дома и дворцы, поля и леса, дороги и мосты, корабли и поезда, школы и больницы, заводы и рудники сыграло немалую роль в развитии партизанского движения.
Кое-кто в Европе и в Америке еще думает, что партизанское движение родилось у нас, как рождаются на войне по указанию главнокомандующего те или иные приемы военной стратегии, то есть что оно вызвано директивно. Такое представление в корне ошибочно, оно показывает, что люди просто не знают, в чем заключается суть партийного руководства. Большие, глубокие, коренные процессы и сдвиги в сознании народа, в его самоощущении, в его историческом поведении — медленной, самоотверженной, кропотливой работой, изо дня в день, многие, многие годы терпеливо подготовлялись нашей партией. Не все из того, что сделано ею в нас, нашей психике, достаточно видно даже нам самим. Да и не в каждом оно еще достаточно окрепло. И настоящее большевистское руководство заключается в том, чтобы указать верное направление и форму именно тем силам и процессам, которые исторически уже происходят в народных недрах, которые годами подготовлялись и воспитывались, которые определяют путь нашего народа в будущее. И призыв к партизанскому движению, как и призыв переключиться целиком на оборону, забыть мирные тыловые настроения, был обращен к тому новому, советскому гражданскому самосознанию, тому новому, советскому чувству родины, которое партия воспитала в народе. Тыл исчез, потому что на нашей земле нет и не должно быть нейтрального клочка. Словно в древних, мудрых сказках человечества, дававших хозяина каждому дереву, ручейку, пеньку, пещере, населявших дриадами, гномами, лешими, водяными, дивами леса и горы, болота и ручьи, сейчас, в двадцатом веке, советский партизан сделался для немецких солдат страшным дивом и чудодеем каждого лесного оврага и пригорья, дорожного поворота и домашнего чердака.
Поучительно было видеть в Москве, как «снимаются с места», перестраиваются на оборону массивные научные учреждения, казалось бы, бесконечно далекие от войны. В одной из самых тихих московских улиц, в глубине палисадника, стоит дом, овеянный традициями славных десятилетий. В этом доме бессмертные русские ученые находили помощь и материал; сюда засылал записочки Владимир Ильич, прося с удивительной деликатностью прислать ему нужное и обещая вернуть в кратчайший срок, здесь, в большом старом зале, под зелеными лампами, склонялось несчетное число молодых голов многих десятков студенческих поколений. И здесь, в бывшей Румянцевской, а ныне имени Ленина, библиотеке, на глазах людей моего поколения не прерывались занятия во время трех войн — русско-японской 1905 года, первой мировой империалистической 1914 года и Отечественной 1941 года.
Студенты в дни первых двух войн входили в эту полутемную по углам залу, испещренную зелеными светляками абажуров, как в оазис. Снаружи — тягостная для всех война; здесь, внутри, — спокойное бесстрастие науки. Неслышно исписывались билетики с заказами на книгу, часами рылись люди в каталогах, задерживая пальцы на необычайных названиях, привлекательных заглавиях, жадно поджидала молодежь новую заказанную книгу, сокровенный для нее мир, уже испутешествованный тысячами глаз, излистанный тысячами пальцев, а все новый, с волнующим запахом слежалой бумаги, присохшего клея на корешке. Беззвучно ходили вдоль стеллажей, взбирались по лестницам и разыскивали нужные номера десятки сотрудников. И если бы какой-нибудь досужий статистик полюбопытствовал, что нового внесла война в чтение, какая перемена в заказах, он бы был разочарован потому, что война никак и ничем на чтении и на заказах не отразилась. Здесь царствовала своя традиция, диктовали университетские семестры, кандидатские и магистерские сочинения, из года в год очень мало менявшие тему и материал.
Когда в июле 1941 года я раскрыла дверь в ту же залу, внешне как будто и сейчас ничего не изменилось. Читающих меньше, но они были; так же выдавались книги из-за дубовых прилавков. Но эти книги и это чтение уже ничего общего со вчерашним днем не имели, да и зала стала «специальной залой», потому что появился особый, специальный читатель, — агитатор, пропагандист, журналист, работник Информбюро, массовик. Книги военно-исторические, о фашизме, о Гитлере, о Германии, о стратегическом сырье, о колониях, о морских и железнодорожных путях; книги, о которых никто не подозревал, что они будут спрашиваться и зачитываться, как роман. Чтение за месяцы войны в Ленинской библиотеке никогда не забудется москвичами. В общем, мы никогда еще не читали так страстно и так оперативно. Все, что было незаметно получено нами за двадцать четыре года политического роста, что выслушивалось (подчас с зевотой) на сотнях докладов о международном положении, схватывалось по газетным столбцам, по радио, накапливалось по мелочам, — дало свои плоды в этой необычайной оперативности библиотечного чтения.
Но, пожалуй, всего сильней и ярче изменилась работа на наших предприятиях и заводах.
6
Немцы пишут в газетах со злобой и недоумением, что-де «в оборонных работах у русских принимает участие само население». Для немцев это ново и необычно. А между тем с первого дня войны наш труд, как в любые решающие периоды за эти двадцать четыре года, становился общественным не только тем, что население шло на рытье окопов, а по воскресеньям стали возрождаться прежние, первых лет революции «субботники», а и тем, как сами рабочие стали трудиться, не уходя из цехов под бомбежками, не отменяя ночных смен, подняв движение двухсотников (две нормы в день вместо одной) и трехсотников.
На одном из комсомольских воскресников в Москве, 17 августа, мне довелось участвовать. Работы на нем велись необычайные. Большой завод, когда грянула война, был в периоде бурного своего роста; он строился и закладывал котлованы для новых и новых корпусов, здесь соединялись сразу две большие функции — производственная, сосредоточенная в цехах, и строительная, производившаяся на заводской площадке. Рядом с ломом и сырьем для цехов во дворе возвышались груды опасного в пожарном отношении строительного материала. И нужно было на воскреснике усилить производство в цехах, а на площадке разобрать начатую постройку. Кадровики и ученики стали в цеха, а контора, заводоуправление, инженеры пошли во двор.
Казалось бы, что хорошего в разработке, — а люди работали вдохновенно, они как бы укладывали, прятали свой завод от врага, зарывали дерево в землю, обезопасив его от гниения, насыпали и утрамбовывали котлованы, выметали и вычищали мусор. Это была почти личная, почти семейная укладка своего, дорогого сердцу добра, чтобы никакой пожар не повредил, никакая бомбежка не тронула.
Пока на дворе укладывали добро, в цехах горячо и непрерывно создавали вещи. Я зашла в пролет, где работали ученики, и тут увидела среди молодых рабочих высокую, немолодую, строгую на вид женщину в платочке, с лицом такой углубленной сосредоточенности, что захотелось невольно остановиться возле нее. Работала она очень красиво, жест был точный, рассчитанный, пальцы легкие, прикосновения к инструменту смелые и увлекательно-заражающие; видно, что человек находит удовольствие в работе. Я задала ей какой-то вопрос. И вдруг молчаливые губы открылись. Работница сказала:
«Вы не поверите, какое это огромное наслаждение впервые в жизни создавать вещь, реальную, весомую вещь, и знать, что она пойдет в жизнь, послужит на оборону, из моих рук перейдет в другие человеческие руки...»
Пожилая фабзавучница оказалась театральным режиссером с многолетним стажем, только с первых дней войны ставшая к станку. Таких новых людей, с новым острым чувством наслажденья от производственной работы, на заводах появилось очень много. Но в первые месяцы войны мы еще не видели новых черт в нашем труде. Заводской труд, казалось нам, возрос, расширился, налился новым историческим смыслом, но мы еще не умели различать в нем черты принципиального новаторства, созданные самой войной. Только позднее черты эти начали проступать все явственнее и явственнее. Я попытаюсь обобщить эти черты.
В годы пятилеток мы энергично боролись за выполнение программы. Но бывали случаи, когда программа перевыполнялась, а стране все-таки недодавалась продукция. Происходило это оттого, что исчисление сданного (в тоннах, процентах, рублях и т. д.) оставляло всякие щели для обхода и завод, в погоне за выполнением программы, иной раз соблазнялся этими щелями и вступал на скользкий путь формализма. К примеру, выдать десять тонн крупных деталей в несколько раз легче, нежели изготовить столько же тонн мелких, сложных, до зарезу нужных стране, — хотя в процентах выпуска это одно и то же. Вот и бывало подчас, что одних деталей накапливался излишек, а других образовывались нехватки. Металлургия выдавала болванки с огромными припусками (тяжелее чем надо весом) и осложняла, замедляла работу механических заводов. Словом, получалась та пестрая картина, при которой сборка и выпуск последнего цельного продукта, готовой вещи, замедлялись и затруднялись. А стране нужны были не проценты перевыполнения, а сама вещь.
Война с первых же дней резко ударила по всяческому формализму. Фронту нет никакого дела до сверкающих цифр и трехзначных процентов, ему подавай весомые, осязаемые, готовые вещи: танки, минометы, пушки, истребители, — и чтоб эти вещи приходили потоком, без перебоя, и чтоб работали они хорошо, без сюрпризов.
В цехах отцы, братья, товарищи получают фронтовые письма, делятся ими с соседями, пишут сами, всем коллективом, цехи переживают войну конкретно, целостно, образно.
И практически это жизненное ощущение войны вылилось в совершенно новое чувство детали: перед цехом, пролетом, бригадой, перед каждым рабочим местом отдельная операция встала в образе той цельной вещи, которую производит не один цех, а весь завод, может быть даже несколько заводов. Раньше стахановец знал и формировал только одну свою деталь. А сейчас, если вы походите по цеху, приглядитесь к рабочему месту, вы увидите, что каждая отдельная операция, каждая деталь связалась в представлении рабочего с тем нужным, готовым, собранным продуктом, которого требует от него фронт, ждут бойцы на полях. И он начинает форсировать в работе не одну только свою деталь, а и все производство в целом, он все больше вмешивается в технологию.
Война поощрила соединение основной и подсобной работы, умение помочь себе и найтись, когда это экономит время и рабочие руки, умножает технический опыт. Война потребовала совмещения профессий, она как бы выжала из людей тот добавочный опыт, накопленный жизнью, о каком иной раз и сам человек в себе не знает или не придает ему значения. До сих пор производства знали художественную самодеятельность: бухгалтер играет на флейте, табельщик декламирует Маяковского. А сейчас появилась самодеятельность техническая. На скоростных стройках мы видим, как художник оказывается замечательным плотником, машинистка становится слесарем, токарь лезет на крышу и орудует, как первоклассный кровельщик.
Что это такое, как не тяга к созданию целой вещи? Отсюда, из нового чувства детали, из жизненной необходимости давать готовую целостную продукцию, из желания совместительствовать, не терять времени, заменить собой недостающие руки в наших цехах стало легче бороться с простоями, весь производственный процесс сделался яснее обозримым, сигналы с рабочих мест в случае аварий или задержек стали приниматься и учитываться быстрей, рационализаторские предложения возросли, технологические улучшения вышли из папок, а чаще всего и до папок не успевают доходить, так как цеха их подхватывают и осуществляют на ходу.
Вместе с перечисленными чертами расширенного, обобщающего, более культурного и практического подхода к хозяйству война подтянула, сузила, уточнила, дисциплинировала такую важную функцию на заводе, как контроль.
Попробуйте разговориться с рабочими и мастерами, выполнившими какую-нибудь важную оборонную вещь. Они вам непременно расскажут о вызове в кабинет директора, и будет в рассказе и такая фраза: «...а в кабинете сидит военный с ромбами». Это новое лицо в заводском обиходе, оно как-то резко отличается от всех остальных заводских людей, и рабочие чувствуют разницу, оттеняют ее в своем рассказе.
Военный с ромбами обычно молчит, когда другие разговаривают. Но он задает четкие вопросы. Он тщательно и кропотливо проверяет вещь. Он понимает функцию вещи. В его лице стахановцы видят непривычно для себя близко, ощутимо своего заказчика, потребителя, оценщика.
Военный с ромбами, обойдя и опробовав вещь, как бы расчленяет ее на мельчайшие составные части, прощупывает и проверяет каждую в отдельности. И этот экзамен, это одно присутствие как бы снова возвращает и весь цех и каждого отдельного рабочего к прежнему обостренному чувству своей детали, но уже более ответственному. Подумайте только: если одна твоя деталь подведет всю готовую вещь!
И война, поднявшая, воспитывающая, культивирующая в наших рабочих тягу к целой продукции, в то же время при помощи военного контроля усиливает, углубляет в них создание ответственности за каждую отдельную свою операцию.
Итоги шести месяцев войны для нашей промышленности говорят еще только о начале, о первых ростках этого нового, вызванного колоссальным сдвигом, произведенным войной. Но нашим заводоуправлениям необходимо уже сейчас видеть эти ростки новизны, чтобы научиться использовать их для будущего.
Так оборона Москвы, ставшая делом чести всего Советского государства, всех советских республик, на каждом тыловом участке нашей борьбы с фашизмом дает нам ясней понять все выгоды и преимущества советского строя, самого передового и самого прочного строя в мире.
1941—1942
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





