ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

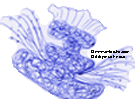
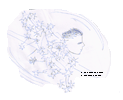
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Голубева Вера 1980
...История моей журналистской жизни началась осенью 1922 года. И началась она в кабинете Марии Ильиничны Ульяновой, в те годы ответственного секретаря и члена редколлегии «Правды». Привел меня к ней мой старший брат Александр Голубев, вернувшийся с гражданской войны и работавший тогда в ВЧК — ОГПУ. Он отыскал меня, изведавшую мытарства беспризорности, в Великом Устюге незадолго до этого и, естественно, был озабочен моим будущим.
Мария Ильинична внимательно слушала рассказ брата, а потом как-то сразу повернулась ко мне и спросила:
— Ну что ты можешь делать, девочка?
— Я все могу, — выпалила я, — мыть полы могу, убирать комнаты, на посылках могу. Ведь плохой работы, по-моему, нет...
Мария Ильинична подошла ко мне, положила руку на плечо и, глядя в глаза, сказала ласково чуть глуховатым голосом:
— Это ты верно говоришь, нет плохой работы — встречаются, к сожалению, плохие работники...
Потом она вернулась к письменному столу, на котором в большом порядке лежали рукописи, папки с бумагой, гранки, подумала и неожиданно сказала:
— Будешь работать в корректуре!
В тот день я впервые услышала слово «корректура». Очень смутилась, оробела... Мария Ильинична заметила это:
— Не бойся, ничего страшного. Научишься, тебе помогут, — и как-то многозначительно добавила: — Тебе надо много учиться!..
Меня зачислили подчитчиком. Так начала я свою работу в «Правде».
На плечах Марии Ильиничны лежала огромная работа по организации газетных номеров и по развертыванию рабселькоровского движения. Но она находила время для воспитания сотрудников. Каждый из нас чувствовал ее доброжелательность, чуткость, внимание. Мария Ильинична никогда не проходила мимо меня, не спросив, как идут дела. Я отвечала: «Учусь, Мария Ильинична». И она ободряюще мне кивала.
Сестра Ленина терпеть не могла черствых, равнодушных людей. Перегруженная текущей работой, находила время принимать множество разных посетителей, терпеливо выслушивала их и, когда могла, старалась помочь. Помню, иногда мне приходилось делиться с ней своими комсомольскими заботами. Я возглавляла в ячейке отряды «легкой кавалерии». Мы встречались с разными трудностями. Из бесед с Марией Ильиничной я навсегда усвоила: надо очень ответственно, добросовестно, упорно и настойчиво выполнять порученное дело и непременно доводить его до конца. «Все надо делать хорошо!» — учила Мария Ильинична. Как я потом узнала, она еще совсем юной писала Владимиру Ильичу: «Уж если что делать, то делать хорошо!» Эти слова мы часто слышали от нее.
Навсегда осталась в памяти ее поразительная скромность. Руководитель газеты, она старалась ничем не выделяться в коллективе: редко вызывала сотрудников к себе в кабинет, сама быстрой походкой шла к их рабочему столу. Я ни разу не слышала, чтобы она повышала голос. Ее одежда, прическа — все было образцом скромности.
Каждый совет, каждое слово Марии Ильиничны были неписаным законом в дружном коллективе редакции. Мы все очень любили ее.
Давно уже нет в живых Марии Ильиничны Ульяновой. Но все, кто работал с ней, вправе считать себя ее воспитанниками. За свою долгую жизнь, попадая в разные ситуации, я мысленно проверяла себя: а как бы тут поступила, что посоветовала бы мне Мария Ильинична?
Вплотную я столкнулась с газетной работой, когда меня перевели секретарем редакционного отдела «Культура и революция». На правах выдвиженки в центральную печать, не оставляя работы, я училась на комсомольском факультете вечернего отделения Всесоюзного коммунистического института журналистики имени «Правды».
В редакции меня окружали доброжелательные учителя, асы журналистики: Михаил Кольцов, Александр Зуев, Александр Зорич, Давид Заславский, Николай Погодин.
Мне, тогда только приобщавшейся к газете, очень хотелось узнать у Николая Погодина, журналиста, исколесившего страну вдоль и поперек, имя которого уже было широко известно, в чем секрет нашей профессии:
— Что главное? — допытывалась я. — Поделитесь опытом.
Погодин, посмеиваясь, говорил:
— Опыт — это вещь субъективная: ваш характер, привычки... А объективно — это труд... Каторжный труд, если хотите.
И еще Николай Федорович внушал мне, по его словам, простую и давно известную истину: «Если хочешь писать, надо очень ценить утренние золотые часы...» Одно лето мы были с ним соседями по даче, и я видела, как он оберегал свои «утренние золотые часы» от всего, что могло ему помешать.
Никогда не забыть уроки, преподанные мне Михаилом Ефимовичем Кольцовым.
Запомнился такой разговор. Я посетовала на то, что не смогла пробраться к месту события, о котором мне предстояло дать информацию. У Михаила Ефимовича, как мне показалось, засмеялись глаза, он всплеснул руками и, покачивая головой, с укоризной спросил:
— А почему же ты не влезла на столб? Настоящий репортер должен уметь лазать по столбам.
Я не сразу поняла, шутит ли Кольцов. Или я и впрямь должна принять его совет — слишком уж велик был авторитет у этого всеобщего любимца редакции.
В дальнейшем лазать по столбам мне не приходилось. Но иной раз, возвращаясь в редакцию, радовалась: сегодня «влезла на столб»! Это было в тех случаях, когда мне удавалось, преодолевая большие трудности, добыть интересную информацию.
В начале тридцатых годов мне как репортеру «Правды» было поручено следить за событиями бурно развивающейся в нашей стране авиации.
30 сентября 1933 года весь мир облетело известие — стратостат «СССР» установил мировой рекорд полета в стратосферу. Героическая команда советских стратонавтов — Прокофьев, Годунов и Бирнбаум — достигла высоты 19 километров. Далеко позади осталось считавшееся рекордным достижение известного бельгийского физика Пиккара, который за два года до этого смог подняться на своем стратостате на 16,2 километра над землей.
Мы, журналисты, следили за ходом подготовки стратостата к полету. Примерно за две недели до старта, выполняя задание редакции, я поехала в Кунцево, на полигон, где жил командир экипажа Георгий Прокофьев. Дома его не оказалось, и я направилась на зеленый луг, в центре которого на высоком постаменте сверкала серебристая оболочка гондолы. Поднявшись по ступенькам наверх, обойдя вокруг гондолы и заглянув в люк, я потянула ручку дверцы и, легко открыв ее, не думая о последствиях, спустилась внутрь. Не успела я осмотреться, как надо мной послышался разъяренный голос запыхавшегося Прокофьева. Не считаясь с приличиями, он сыпал на мою голову самые нелестные эпитеты. Выскочив из гондолы, я приняла воинственную позу и подчеркнуто вежливо попросила: «Повторите! Повторите, пожалуйста! Отличное начало для моей будущей корреспонденции о вас...» В последующие годы сердечной дружбы с семьей Прокофьева мы часто смеялись, вспоминая эту первую встречу.
В предстартовую пору на аэродроме имени Фрунзе было много — почему-то тогда в шутку говорили «семьдесят семь» — представителей газет, журналов, авиационных деятелей. Не одну ночь ждали мы вместе с командой стратонавтов штилевой, безоблачной погоды — непременного условия для подъема стратостата.
Наконец-то! 35 зеленых газгольдеров, наполненных водородом, покачиваясь, поплыли на поводу у людей к месту старта. Взволнованные предстоящим событием, мы подмечали и тотчас записывали в свои блокноты каждую деталь. Задолго до рассвета началось наполнение стратостата газом. Делалось это тогда вручную: десять человек, наваливаясь на газгольдер, выталкивали водород по шлангу в стратостат. Два шара-прыгуна кружились вокруг оболочки. Люди, привязанные к сиденью, проверяли клапаны, расправляли складки, осматривали поднимавшуюся оболочку. И вот уже к ней прикреплена гондола. В маленьких мешочках подвешен маневренный баланс из мелкой дроби. Как нам сообщили, вес его 620 килограммов. И почти 300 килограммов — резерв внутри гондолы. По веревочной лестнице поднимаются Бирнбаум, за ним Годунов. Чуть позднее идет к гондоле Прокофьев.
А тем временем мы все, «семьдесят семь», стремглав неслись к зданию Главной аэрометеорологической службы, именуемой ГАМС. Оттуда должна была вестись связь со стратонавтами. Помню, я первой влетела в помещение, а потом набилось еще столько журналистов, что нам, как и следовало ожидать, категорически предложили покинуть помещение.
И вот тут я решила во что бы то ни стало «влезть на столб». Прижавшись к окну, я не обращала внимания на шумные протесты своих коллег. И когда привыкший к подчинению дежурный в военной форме подошел ко мне, я с наигранным удивлением спросила его:
— Как? Разве вам не известно, что я нахожусь здесь по личному приглашению начальника Военно-Воздушных Сил РККА товарища Алксниса?
— Хорошо, — парировал он, — вместе с ним вы и войдете сюда...
Но я не хотела уходить. И мне повезло: в это время показались в дверях члены комиссии во главе с Алкснисом. Я направилась прямо к нему, развернув удостоверение «Правды». Хитрость удалась. Алкснис любезно предложил мне стул за столом, где размещалась комиссия.
Через пять минут после старта в комнате раздался отчетливо слышимый голос Бирнбаума, передавший по радиотелефону:
— 8 часов 45 минут. Говорит «Марс». Высота — 3 километра...
Последовал ответ:
— 8 часов 55 минут. Говорит ГАМС. Привет. Счастливого пути. Алкснис.
Начались регулярные переговоры, которые я тщательно фиксировала в своем блокноте.
И только спустя значительное время пятерке наиболее активных репортеров удалось все же проникнуть в ГАМС.
Когда стратостат достиг высоты 17 900 метров, «Марсу» была передана радиограмма:
— 10 часов 30 минут. Говорит ГАМС. Горячий привет от работников печати. Ваши успехи станут достоянием широких масс трудящихся. Представители «Правды», «За индустриализацию», «Техники», «Комсомольской правды», ТАСС и Союзфото.
В 16 часов 23 минуты радиосвязь со стратостатом прервалась. К месту посадки, вблизи станции Голутвин у Коломны, мчались на автомобилях и самолетах советские и иностранные корреспонденты. А я спешила в редакцию, чтобы обработать и сдать в набор свои записи.
Тогда, в канун шестнадцатой годовщины Советской власти, «Правда» с полным основанием писала:
«Как далеко мы ушли от азиатчины и средневековья, отсталой империи царей, если своими собственными материальными и техническими средствами мы можем решать подобные задачи, если мы можем творить события, которые приковывают к нашей стране внимание всего мира».
Радостно сопоставить это событие с сегодняшним днем, когда советские космические корабли изумляют мир, совершая свои триумфальные полеты вокруг земного шара.
«Давайте прыгать, девушки!» — призыв, прозвучавший в тридцатых годах. Дружба с девушками-парашютистками разжигала и у меня желание прыгнуть с парашютом. Я даже уверяла летчиков, тренировавших девушек, что хорошо знаю технику прыжка. Но мой прыжок откладывался на неопределенное время. Видимо, я очень уж надоедала им, так как однажды Машковский «сжалился» надо мной.
— Хотите испытать «мертвую петлю?» — спросил он.
— Да, да, очень хочу!
И вот, нацепив шлем и выслушав все добрые советы и наставления, я приготовилась, как меня предупреждали, к «сильным ощущениям». Надо сознаться, приемы высшего пилотажа превзошли все мои ожидания. И уж совсем непередаваемое чувство испытала я в тот момент, когда самолет пошел в штопор. Мне показалось, что не только душа, а и все мои мозги переселились в пятки. После «мертвой петли» желание прыгнуть у меня поостыло.
Репортерское «вживание» в авиацию оборвалось для меня самым непредвиденным образом. В одном из номеров «Правды» в августе 1935 года была напечатана моя заметка о готовящемся женском перелете из Ленинграда в Москву. За пять лет до этого в семье советских самолетов появилась прекрасная птица с красным полосатым хвостом — легкий самолет конструкции Яковлева — «АИР». С каждым годом эта машина совершенствовалась и к моменту женского перелета называлась «АИР-6».
На шести самолетах «АИР-6» собирались преодолеть путь от Ленинграда до Москвы шесть молодых летчиц в возрасте от 19 до 24 лет в сопровождении таких же молодых авиатехников. Все они изучили летное дело, не оставляя работы на производстве.
Вылетев из Ленинграда вечером десятого августа, летчицы намеревались сделать на полпути остановку и, переночевав, утром одиннадцатого прибыть в Москву. Мне предстояло в этот день дать в номер отчет о перелете.
С утра я направилась на аэродром и томительно ожидала эскадрилью «АИР-6». Но они не прилетели ни к десяти, ни к двенадцати, ни к двум часам дня. Из редакции посоветовали: надо ждать!
На аэродроме мне встретился уже хорошо знакомый летчик, тренировавший парашютисток на высотные полеты, Т. Маламуж.
— Гуляете? — приветливо спросил он.
— Да нет, жду не дождусь шестерку «АИРов». Скучно без дела...
— Давайте я вас развеселю. Идемте, тут рядом, в институт Гроховского. Наденем наше снаряжение и в воздухе встретим девушек. Будут у вас необычные строчки в отчете.
В комнате, где разрабатывалось новое увлечение Гроховского — катапульта, на полках десятки парашютов. Мне дали комбинезон, по всем правилам надели парашют. Не без труда влезла я в кабину позади летчика в открытом самолете «Р-5». Оглушительно взревел мотор — и мы уже над Москвой. Самолет шел навстречу девушкам, а я любовалась великолепной панорамой живописных лесов, лугов, сел. И вдруг увидела широкую ленту реки. «Волга», — мелькнуло в голове. А вдали очертания какого-то города. «Может быть, Калинин?» — терялась я в догадках. Тем временем горизонт обкладывала черная полоса туч. Маламуж то низко опускался над какой-то небольшой поляной, посреди которой распластался белый крест, то поднимался ввысь. Неужели летчик решился сесть? Ведь белый крест — условный знак, запрещающий посадку...
И все-таки мы приземлились. Как говорят в таких случаях, пассажиры отделались испугом. К самолету уже мчалась машина. Оставалось поставить редакцию в известность, что женская эскадрилья не прилетела, а я застряла под Калинином. Мы оба — я и Маламуж — тут же с этого маленького аэродрома отправили депеши: он — в аэропорт, я — в «Правду». Поужинали в калининской гостинице, где не без труда удалось получить койки. Среди ночи меня разбудили:
— Вас к телефону, вызывает Москва.
— Мы тебя разыскиваем, — услышала я сердитый голос своего начальника. — В редакции переполох. Посылали сотрудника в аэропорт, ему сообщили, что самолет Маламужа, в котором видели тебя, сделал вынужденную посадку... От тебя известий нет. Готовили для розыска санитарный самолет. Требуем, чтобы ты немедленно вернулась поездом в Москву!
Телефон замолк. Что делать? Глухая ночь, транспорта нет, город незнакомый. Пришлось идти советоваться к Маламужу. Он отнесся к звонку из редакции спокойно.
— По-видимому, — объяснил Маламуж, — вашу телеграмму задержали, аэродром закрытый, а вы лицо частное, ждали разрешения начальства. Паниковать нечего. Гроза прошла, утром доставлю вас в Москву. Надеюсь, и участниц перелета встретим.
Он был прав. Как только наш самолет оторвался от земли, в воздухе показались «АИРы». Наш самолет приветствовал их, покачивая крыльями.
— Мы вылетели, — рассказывала мне командир перелета Марина Раскова, впоследствии прославленная летчица, — при тихой, солнечной погоде. А уже на 120-м километре нас настигли грозовые тучи. Сразу стало темно. Ливень прижал самолеты низко к земле. Почти 60 километров мы шли на высоте 100—150 метров. При вынужденной посадке один самолет получил повреждение. Ждали из Ленинграда запасные части. Мы сами отремонтировали самолет! — не без гордости отрапортовала она.
Все как будто кончилось благополучно. Я несла в редакцию уже готовый к сдаче в набор материал. Но встретили меня не очень дружелюбно:
— Иди к редактору. Объяснишь ему свое поведение...
Те, кто знал крутой нрав Мехлиса, поймут, с каким настроением я выходила от него. И мой пропуск на аэродром остался лежать на его столе... «Неужели уволят?» — мучилась я. Но в отделе меня ждал ошеломляющий сюрприз:
— Внизу стоит машина, — сказали мне, — поезжай в нейрохирургический институт. Надо дать корреспонденцию об операции. Ее будет делать Николай Нилович Бурденко. Срочно! В номер!
Это был приказ. Я только успела спросить:
— Почему такая спешка?
Мне ответили:
— Сегодня ждут Указа о награждении Н. Н. Бурденко орденом Ленина.
Так с места в карьер меня переключили с авиации в совершенно неведомую мне область — медицину. Предстоял трудный экзамен.
Помню, с каким трепетом входила я в операционную. Это была первая операция, которую я видела своими глазами. Она произвела на меня сильное впечатление, у меня подкашивались ноги. И вдруг в разгар операции я услышала фразу, от которой пришла в чувство!
— Стакан воды... корреспонденту! — сказал Бурденко.
Отсюда пошли встречи с другими людьми и событиями. Вскоре я перестала тосковать по авиации. Много актуальных тем было в здравоохранении, в культурном строительстве, экономике страны.
В «Литературной газете», куда меня приняли не без участия Николая Погодина и Александра Фадеева, пришлось осваивать специфику издания, знакомиться с жизнью писательских организаций. Но чем бы я ни занималась в редакциях, меня всегда тянуло к репортажу... Однажды пошла к редактору, им был тогда К. М. Симонов.
— Константин Михайлович, — сказала я, — должность литсотрудника не по моему характеру. По натуре я репортер.
— Репортер?! — переспросил Симонов и даже встал из-за стола. — Это же самое драгоценное качество газетчика! Я сам репортер! Вот и идите в наш отдел информации!
Так Константин Симонов вернул меня к полнокровной газетной жизни.
Еще до войны мой личный архив стал наполняться блокнотами с записями бесед с Алексеем Толстым, Константином Фединым, Корнеем Чуковским и другими писателями. Появились их письма, подлинники рукописей.
Среди этих материалов хранится заметка о поразившем мое воображение событии в самой редакции — 25-летнем юбилее работы ее рядового сотрудника репортера Евгении Осиповны Пельсон, с которой меня связывала давняя тесная дружба. Заметки за подписью Е. Пельсон появились еще во времена РАППа, вскоре после создания «Литгазеты», в апреле 1929 года.
Много теплых слов сказали, отмечая долгий путь журналистки-репортера, в своих поздравительных телеграммах Александр Фадеев, Константин Федин, Всеволод Иванов, Константин Симонов, Павел Антокольский, Михаил Исаковский, В. Билль-Белоцерковский, Сергей Михалков, Агния Барто, Лев Кассиль, Ираклий Андроников.
В шуточном стихотворении, посвященном Е. Пельсон, были такие строки:
Необходим особый разум,
Чтобы в предельно краткий срок,
Отжавши воду, выдать сразу
Лихой кусок... на сорок строк.
Да что там разум? — нужен гений,
Чтобы суметь свести на нет
Непроходимых выступлений
Стенографированный бред...
Еще много лет после этого юбилея проработала в «Литературной газете» Е. О. Пельсон, отдавая ей все свои мысли, силы, энергию. Ее личный архив хранит поистине уникальные документы. Жаль, что никто пока не заинтересовался им, а самой разобраться в своем богатстве ей уже не под силу.
Обмениваясь с Евгенией Осиповной мыслями о значении подобного рода архивов, мы пришли к убеждению: надо спросить у писателей, с которыми часто общаемся, нет ли в их личных архивах, дневниках, письмах или «трофеях», привезенных из путешествий, не рассказанных читателю историй? Может быть, нам удастся создать несколько документальных новелл? Случай не замедлил подсказать нам тему такой новеллы, идея обрела конкретную форму. Началось наше творческое содружество.
«На танке, в танке, под танком». Эту строчку мы взяли из дневника далеких военных лет у Мариэтты Шагинян. Что общего имела в те годы писательница с танками? Как раскрыть обстоятельства, при которых попала эта таинственная фраза в дневник Мариэтты Сергеевны? Ответить на эти вопросы нам помог полковник в отставке заслуженный врач РСФСР Б. Виленский. Он пришел в редакцию, чтобы показать письмо от Мариэтты Шагинян, полученное им спустя 16 лет по окончании войны. Виленский и рассказал нам эпизод, участником и свидетелем которого был.
В первые годы войны политработники во главе со старым солдатом революции Н. И. Подвойским искали автора для популярной брошюры, которая помогла бы новичкам, призванным в армию, избавиться от «танкобоязни», научила бы их бороться с вражескими танками, а танкистам помогла лучше овладеть этой мощной техникой. Подвойский хотел, чтобы брошюра была написана художественно, а автором был писатель.
Весной 1942 года стало известно, что на несколько дней вернулась из Свердловска в Москву Мариэтта Шагинян. Не теряя времени, Подвойский с группой военных направился к ней домой. Они застали писательницу, укутанную в шубу, в не топленной всю зиму квартире. Мариэтта Сергеевна сидела за письменным столом и озябшими пальцами макала тонкую школьную ручку в бутылочку с чернилами. Выслушав внимательно военных, она стала отчаянно отказываться.
— Никто, как вы, — уговаривал ее Подвойский. — Нам нужна не техническая, а художественная брошюра, чтобы боец захотел стать танкистом. Ну а с танками мы вас познакомим, да так, что потом вас с ними и водой не разольешь.
В тот день Мариэтта Шагинян записала в свою тетрадку-дневник: «...все мои возражения, что сама не знаю танк ни в хвост, ни в гриву и питаю перед ним пехотинский страх, отвел, как чепуху. Сказал, что это мой долг...»
У писательницы не хватило духу отказаться. В той же тетради мы нашли более позднюю запись, как бы сжатый конспект ее действий:
«Понемножечку увлечение танком. Записала рассказы полковников... Учебники по танку. Повезли в Наркомат обороны. Танковое училище. Полигон. На танке, в танке, под танком (вы лежите во рву, танк проезжает над вами, не задевая). На самом танке страшновато, обтекаемый корпус, трясет, как на верблюде, держишься большей частью притяжением. Брали всякие препятствия, лезли через надолбы и т. д. В общем, влезла по уши в танковое дело».
Это был настоящий ратный подвиг писательницы. Раскрыв малоизвестную страницу из биографии неугомонной Мариэтты Сергеевны, мы бросились искать ее брошюру «Танкисты». Она была издана в годы войны большим тиражом и читалась бойцами в воинских частях. Но у писательницы не оказалось ни одного экземпляра. Не нашли мы ее и ни в одной библиотеке Москвы. Пришлось перерыть все тематические и алфавитные указатели художественной литературы за два военных года, скрупулезно изучить картотеку статей о танках, но следов этой «пропавшей грамоты» так и не обнаружили.
И вдруг нам позвонила Мариэтта Сергеевна:
— Я припоминаю: кажется, очерк «Танкисты» вошел в мой сборник «Урал в обороне», выпущенный во время войны. У меня его тоже нет, но, может быть, вы его где-нибудь достанете?
Сборник нашелся. Отрывком из очерка «Танкисты» мы и начали нашу первую документальную новеллу «Неугомонная», повествующую о том, как Н. И. Подвойский силой своего красноречия сумел убедить забраться «в танк, на танк и под танк» пятидесятитрехлетнюю Мариэтту Шагинян.
Незабываемым событием в моей журналистской практике я считаю неожиданную встречу с Маргаритой Федоровной Николевой. Она познакомила меня с неизвестными тогда еще письмами молодого Феликса Эдмундовича Дзержинского.
Летом 1952 года я приехала по семейным делам в Кисловодск. Попутно решила заглянуть в пятигорский Домик Лермонтова. На этот раз я шла туда, надеясь найти для «Литгазеты» какие-нибудь новые, неизвестные читателю поступления в музей. Но ожидания мои не оправдались. Домик оказался на ремонте.
— Неужели никого из сотрудников нет поблизости? — допытывалась я у его хранительницы.
— Попробуйте поговорить с Николевой, — услышала я в ответ. — Она здесь давний работник и живет при музее.
В аскетически обставленной, узкой, длинной комнатке меня радушно приняла старая женщина. Скромность, приятный внешний облик, благородство манер и участие, проявленное ко мне, очень располагали к хозяйке — Маргарите Федоровне Николевой. Мы сразу нашли общий язык. Она заинтересовала меня новым оформлением места дуэли поэта.
— Стоит посмотреть. Да и я вместе с вами с удовольствием съезжу туда еще разок, — предложила Николева.
Долго беседовали мы, гуляя среди экскурсантов по асфальтовым дорожкам памятного места.
— Вы, вероятно, северянка? — вдруг спросила она. — Я сужу по вашему говору. Может быть, вы бывали в Нолинске или в Кайгороде?
— Знаю, Кайгород на реке Каме, не так уж далеко от моего родного села.
— Эти места очень памятны и дороги мне. Там в ссылке прошли мои самые счастливые, светлые дни, — сказала Маргарита Федоровна, — в обществе человека, которого я любила всю жизнь...
— Он жив? — спросила я.
— Нет. Это Феликс Дзержинский, — и добавила: — Я храню его письма...
Так начала свои волнующие воспоминания Маргарита Николева, бывшая бестужевка, друг семьи Короленко. В глухие годы царского самодержавия она была арестована за распространение ленинской брошюры и другой марксистской литературы. В тюрьме Николева сидела вместе с Н. К. Крупской. В 1898 году молодую курсистку выслали в захолустье Вятской губернии — Нолинск. Туда же следовал по этапу и молодой Феликс Эдмундович.
— Нас разлучил новый арест Феликса, — продолжала Маргарита Федоровна. — Он писал мне из тюрьмы почти каждый день...
Долгие десятилетия в большой черной металлической шкатулке каслинского литья хранила Николева свое сокровище — письма, ставшие ныне реликвией. И вот я увидела эти письма.
— Я не могу сейчас обнародовать их, — сказала Маргарита Федоровна. — По моему завещанию письма будут переданы в партийный архив. Надеюсь, они послужат нравственному воспитанию нашей молодежи.
Действительно, даже те небольшие отрывки, которые мне в тот вечер удалось прочитать, свидетельствовали об исключительной ценности их.
Много волнующих часов провела я, слушая тихий голос женщины, вновь и вновь переживавшей радость воспоминаний о далеком прошлом.
История с письмами имела продолжение только спустя несколько лет, уже после смерти Николевой. В 1964 году готовился к выпуску сборник «Всегда с вами», посвященный 50-летию журнала «Работница». Я принимала участие в его подготовке. Решено было дать статью о борьбе с беспризорностью и роли в этой борьбе Ф. Дзержинского. Автором этой статьи мы пригласили племянницу Дзержинского Софью Владиславовну. Вот тогда я и рассказала ей о своей встрече с Николевой и письмах, которые видела у нее. Это известие было для Софьи Владиславовны открытием, необычайно взволновавшим ее.
В одном из писем, которые хранятся в семейном архиве Дзержинских, Феликс рассказал о своей юношеской любви. «...В течение долгих лет я любил так, как раз в жизни любить можно,— писал он 29 августа 1916 года из Бутырской тюрьмы своему младшему брату Владиславу... Я был счастлив своим чувством и никогда не имел уверенности, любим ли я».
— Так вот она, девушка, имя которой я долго и тщетно пыталась установить, — сказала Софья Владиславовна.
Встал вопрос: где теперь письма молодого Дзержинского к Николевой? В ИМЛ их не было. К поиску подключился полковник И. Е. Поликаренко. Он выяснил, что после смерти Николевой все ее документы, письма, фотографии поступили в Ленинград к ее близкой подруге Е. И. Редько. Но Редько тоже уже не было в живых. А ценнейший архив Николевой находится у ее дочери... Благодаря розыску, письма были сданы в ИМЛ — туда, где им и следовало быть.
В юбилейном 1977 году вышла книжка С. В. Дзержинской «Героическая молодость», значительную часть которой составляют письма Дзержинского к Николевой. В предисловии к книге говорится: «Письма эти имеют непреходящее значение для познания жизненного пути пламенного революционера. Они зримо воссоздают прекрасный облик Дзержинского, раскрывают его мировоззрение, постоянную жажду борьбы, стремление к революционному действию...»
В непрерывных поисках, в общении с интересными людьми пролетели полвека моей журналистской работы. Как память о ее начале я храню две красные книжечки ударника редакции газеты «Правда».
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





