ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

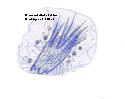

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Максимович Десанка 1964

ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ
В кухне пахло свежими, только что испеченными пончиками, и этот запах, заливая соседние дворы, отделенные друг от друга ветхими потемневшими заборами, выманивал на пороги домов ребятишек и кошек и приводил их к самой ограде сада учительницы. Разрумянившись от стряпни, учительница вынесла в сад стул и села среди высоких подсолнухов и тропически пышных туй, которые давали более густую тень, чем деревья. Она могла бы сесть и среди густо разросшейся высокой мальвы, усыпанной лиловыми цветами, от которой, словно от плывущих облаков, падали колеблющиеся тени; можно было отдохнуть и под диким виноградом, лозы которого, цепляясь за соседние ветки и стрехи, сплелись в сплошной шатер. Откуда-то с реки повеял ветер, неожиданно пахнуло медом и терпким бурьяном. Ветер быстро освежил ее. Она посидела еще немного, глубоко вдыхая прохладу, которой тянуло от воды, и, еще раз окинув взглядом сад, вернулась в дом, чтобы закончить дела на кухне.
Целая гора пончиков самой разной формы еще дышала на блюде, но их словно поубавилось, пока она отдыхала во дворе, пышные комочки опали и сплющились. И теперь, как и пятнадцать лет назад, она старалась, чтобы пончики получались неправильной формы — с ушками, хвостиками и клювами, как говорили дети, — такие они больше любили. Она с удовольствием думала о том, что вот есть еще вещи, к которым дети сохранили старую привязанность. Они по-прежнему рады праздникам, которые полюбились им в детстве, хотя уже отрицают то, что стоит за этими праздниками. По-прежнему любят школьные праздники в день святого Саввы, хотя уже в пятом классе вычеркнули Растко Неманича [Растко Неманич, в монашестве Савва (ок. 1174— 1235 гг.) — первый сербский архиепископ, основавший в Сербии школы.] из списка святых. По-прежнему любят они и героев народного эпоса, хотя уже нашли новых, которым стремятся подражать. Есть еще дороги, по которым дети идут с ней рядом, но часто они уже сворачивают с них и сами шагают куда-то дальше, протаптывают свои тропы, так что порой она совершенно теряет из виду в чаще неизвестных ей знаний и представлений. «Да, — улыбаясь, думает учительница, — они уже знают много такого, что мне неизвестно». Бывает, правда, что она только делает вид, будто чего-то не знает, чтобы доставить детям удовольствие объяснить ей и почувствовать свое превосходство. Как это ей однажды сказала дочь — с такой важностью, словно открывала новые миры:
— Слушай, мама, ведь не существует какого-то неизменного представления о красоте или правила, которое одно провозглашало бы красивым, а другое некрасивым. Вот мы, например, считаем, что короткие юбки красивы, и для нас это на самом деле так.
Мать, конечно, могла бы возразить, что, по ее мнению, как раз длинные юбки красивее, но она не стала спорить, так как знала: дочь не собирается укорачивать юбки, и этот пример привела только для того, чтобы показать, как меняются представления о красивом.
Учительница всегда улыбалась в душе, вспоминая день, когда дети впервые открыли газету. Вечером, она это хорошо помнит, они еще читали сказки Андерсена, а наутро, усевшись у окна, вгрызались в передовую «Политики» и с жаром убеждали ее, что читать газеты так же важно, как изучать грамматику. Они были так торжественны и серьезны, что мать, словно бы не соглашаясь с ними, заметила:
— Ну, наверное, не так уж важно?
— Не так важно?! Мнение, будто детям не следует читать газеты, давно устарело!
На пороге кухни появилась дочь учительницы, восьмиклассница Эмилия, девушка с большими, теплыми, прозрачными, как крыжовник, глазами, и смущенно сказала:
— Ну, мама, теперь ты можешь пойти к тете.
— Разумеется, когда я вам все приготовила, я могу идти, — укоризненным тоном, хотя и улыбаясь, ответила учительница.
Мать, как и дочь, была бледная, тоненькая, в ее облике было что-то девичье, задумчивое. Косы, которые она когда-то носила, как и дочь, за спиной, сейчас были уложены венцом над ее совсем еще гладким лбом. Эмилия покраснела и смутилась.
— Ну, мама... Ты же сама сказала...
— Сказала, но мне просто хотелось посмотреть, кто к вам придет. Впрочем, все равно.
Она пошла собираться.
— Ты, кажется, сердишься, мама, но ведь это глупо. Ты всех их знаешь. Они же у тебя учились. Будет, во-первых, Дивна и наш геолог Момчило, потом Станица Лазич и Слободан Йокич, потом еще один мальчик из восьмого и балагур Лаза. Может быть, Чедомир, Елена и еще кто-нибудь. Ребята все хорошие. Оставайся, если хочешь, только ты ведь знаешь, как мы любим сами хозяйничать.
Учительница поборола минутную грусть и даже рассердилась на себя за то, что выдала, как ей хочется дождаться гостей, не сумела побороть тщеславного желания показать, что и она не отстает от жизни, идет с детьми в ногу.
— Мама, — вдруг воскликнула Эмилия, — знаешь, ты права: дождись ребят! Пусть знают, что тебе известно, кто у нас бывает.
«Что ни говори, а детям мы близки и нужны только тогда, когда мы служим каким-то их целям», — подумала мать, улыбнувшись словам Эмилии и ее простодушному эгоизму. Пока дочь переодевалась, она пошла еще раз взглянуть, в порядке ли комната. Тихо, чтобы не мешать Стевану, углубившемуся в учебники, она поправила старый пиратский ковер на полу и дорожки на диванах, подравняла книги на полке — дети то и дело вытаскивали их, стулья поставили вдоль стены словно для родителей, которые приходят в школу на экзамены, и тут вдруг заметила, что в то, как расставлены стулья, как разложены подушки на диване, как стоят вазы, Эмилия внесла свой вкус и свою логику. Поэтому она быстро вернула все на свои места.
За последние два-три года их дом приобрел совершенно другой вид. Бывало, учительница выйдет из дому за покупками, а вернувшись, обнаружит, что шкаф переехал из комнаты в кухню, коврик перенесен из одной комнаты в другую, картины висят на новых местах. Однажды, придя домой, она не нашла извещения о смерти мужа, которое всегда висело в рамке на стене. Теперь оно было спрятано в шкатулку, где хранились всякие важные бумаги. Учительница заплакала. Наутро она уже поняла, что не стоило расстраиваться, но тогда это показалось ей очень обидным.
— Ну, мама, в чем дело, почему ты так огорчилась? — спрашивал сын. — Память отца мы ничем не оскорбили, мы помним его, даже когда и не говорим о нем, так что же странного в том, что Эмилия сняла со стены то, чему там совсем не место. Вот если бы ты заметила, что мы забыли отца, тогда я еще понимаю.
Точно так же с некоторых пор Эмилия оставляла в вазах не больше двух-трех цветков. Теперь и учительница привыкла к этому и подобно детям стала считать, что обилие вещей иногда мешает воспринимать их красоту и ценность.
Она пошла в сад за астрами, к ней присоединились, продолжая разговор, начатый в комнате, Стеван и Эмилия.
— Слушай, Дивна перевела несколько стихотворений Христо Ботева [Христо Ботев — (1849—1876) болгарский поэт-революционер.] и сегодня будет их читать, — говорила девушка брату. — Не наваливайся сразу с политикой, Дивна у нас первый раз, еще испугается...
— Испугается политики? — усмехнулся юноша, потягиваясь: целых три часа, не разгибаясь, он просидел над книгами.
Словом «политика» брат с сестрой сокращенно называли то, о чем обычно шла речь, когда у них собиралась молодежь, и за что, по мнению учительницы, Стевана исключили из гимназии. Понятно, что тогда в ней победила мать — ей ли не знать своих детей, — и она приняла сторону учеников, а не учителей. Правда, сын легко сдал экзамены на аттестат зрелости экстерном, исключение из школы не помешало его занятиям, и мать скоро успокоилась.
— Мы хотим уговорить Дивну войти в правление Литературного общества, — продолжала между тем девушка. — Мы сейчас боремся за нее с Николой и его дружками.
Стеван слушал сестру и занимался гимнастикой. Он карабкался по шесту, бросал в цель камни и, наконец, встал на руки. Стоя вниз головой, он заявил:
— Если она на самом деле умная, она будет на вашей стороне.
— На другой стороне тоже есть умные, — вмешалась в разговор учительница. — Ум как красота: одним кажется умным одно, другим — другое.
— Нет, ты послушай, как мама навострилась спорить! Бьет нас нашим оружием! — восхитилась Эмилия и по-детски звонко чмокнула мать.
В окне дома напротив показалась женщина с большими зелеными глазами; скрестив руки на груди, она оперлась на подоконник и стала наблюдать. Сначала она делала вид, будто смотрит на игру облаков в небе, потом занялась прохожими: вот парикмахер Йова в белом халате бежит через улицу в табачную лавочку; вот идет загорелый слесарь из депо, весь он с головы до ног словно отлит из мускулов, а вот и судейский писарь Штамбук, который всегда обращается к ней с шутливым приветствием: «Слава Иисусу!» И, наконец, женщина откровенно остановила взгляд на дворе учительницы — действительно ли у этой женщины с девичьей фигурой и короной волос на голове такое согласие с детьми? Неужто она с легким сердцем разрешает, чтобы каждое воскресенье к ее детям приходила целая орава ребят? Знает ли она, что они при этом делают и о чем говорят?
«У ребят, — думала черствая бездетная соседка, — вечно какие-нибудь странности: если они не сходят с ума от избытка сил, не распущены и не развратны, если они чисты и простодушны, как, например, дети этой учительницы, то уж наверняка думают о чем-то необычном и предаются увлечениям, еще более неприятным для родителей, чем сердечные: бредят политикой и не поднимают головы от книг». Молча глазеть на двор соседей стало уж совсем неприлично, и женщина крикнула учительнице как бы в шутку, но в то же время нисколько не скрывая язвительности и двусмысленности своих слов:
— Того гляди, дети и нас уговорят на голове ходить!
Учительница ласково взглянула на юношескую фигуру Стевана, на напряженные мышцы шеи и рук и спокойно ответила соседке:
— Чего не сделаешь ради детей! — И прибавила: — Стеван долго сидел за книгами, надо же и поразмяться.
Юноша встал на ноги и, повернувшись к женщине, у которой грудь, руки и плечи походили на перестоявшее тесто, задиристо сказал:
— Мама у нас легкая, ей и в самом деле ничего не стоит вместе с нами встать на голову.
Из-за угла показалась кучка ребят; еще на улице они закричали:
— Мы Дивну ведем!
Бледная девочка сердито оглянулась на товарищей, и женщина в окне сразу поняла, кто из них Дивна. У нее был чистый и гладкий лоб. Пышные кудрявые черные волосы подстрижены под мальчика. Женщина в окне отдала должное ее платью, отутюженному так, как это могут сделать только материнские руки.
— Папа отпустил тебя! — радостно встретила девочку учительница. — Ты очень выросла, но совсем не изменилась за эти семь лет. Других-то ребят я вижу чаще.
Ученики робко поздоровались с учительницей, будто они еще были в младших классах.
— Оставайтесь, послушайте наш концерт, — сказала Станица, заметив, что учительница собирается уходить.
Все одобрительно заулыбались и взглядами попросили ее остаться. Ребята входили в комнату, словно в собственный класс. У каждого, как в школе, было свое место. Они чувствовали себя свободно, брали с полки книги, переставляли стулья, выходили в переднюю и в соседнюю комнату, заглядывали в кухню. Толстяк Лаза вернулся из разведки и, не скрывая радости, сообщил, что в кухне целая гора пончиков. Словно у себя дома, он предложил прежде всего расправиться с ними. Румяный, коренастый, внешне Лаза был полной противоположностью бледнолицей тоненькой Эмилии. Его громкий, шутливый говорок тоже не походил на ее глухой и немного грустный голос. Это несходство и то, что он был на год моложе Эмилии, заставляло товарищей сочувственно смотреть на его увлечение худенькой прозрачной подругой, так как им казалось, что ему никогда не добиться взаимности.
Все скоро забыли об учительнице, и никто не заметил, когда она ушла и слышала ли, как читала стихи Дивна и как рассказывал Стеван о событиях в Польше. Но когда ребята обнаружили, что остались одни, они почувствовали себя еще свободнее и уютнее.
Диванные подушки оказались на полу. Все сели на них, словно в походной палатке. Кто-то закурил. Эмилии вдруг не понравилось, как мама поставила цветы в стеклянной вазочке, и она вскочила, чтобы сделать по-своему.
Дивна и еще две девочки удрученно молчали под впечатлением рассказа Стевана о вторжении немцев в Данциг. Стеван теперь каждый раз начинал рассказывать о Польше словом «Увага!» [«Увага!» — «Внимание!» (польск.)], и сейчас они вспомнили, как это слово-вопль звучало в передачах польских радиостанций в первые дни сентября. Тогда девочки искали в своих учебниках истории все, что касалось Польши, им хотелось снова перечитать роман «Огнем и мечом», они страдали так же, как если бы немцы ворвались не в Данциг, а в один из городов Югославии или Сербии.
Лазе было грустно, но он по-детски стремился переключиться на что-то другое и громко спрашивал сам себя: «Что это я хотел сказать?»
— Раз сегодня наша художественная часть состоит только из тебя, может, ты повторишь все сначала? — наконец попросил он Дивну.
— Прочти хотя бы «Патриота»! — поддержал Лазу Слободан Йокич, смуглый паренек, державшийся почти вызывающе прямо.
Слушая Дивну, Слободан захотел прочитать какие-нибудь русские стихи — Пушкина или Лермонтова, но он быстро подавил это желание, и радость от того, что ему удалось побороть себя, была гораздо сильнее, чем если бы он прочел любимые стихи. Пусть лучше друзья считают, что он не любит поэзии и не знает ее, потому что больше всего он боялся, что они подумают, будто он хвастает своими знаниями.
А знал он действительно много и многим увлекался, но никто об этом даже не подозревал. Сколько раз, бывало, математик спрашивал: «Кто знает, что теперь надо делать?» Слободан знал, но молчал. Сколько раз преподаватель сербского языка просил поднять руку тех, кто читал ту или иную книгу, а Слободан не отзывался, хотя некоторые книги прочел уже и по-русски. Товарищей иногда выводила из себя его скромность и стремление остаться в тени. Толстяк Лаза не раз открыто возмущался, говоря, что Слободану хорошо дожидаться, пока учитель спросит его, а другие-то должны из кожи вон лезть, чтобы показать свои знания, — не ровен час, вызовут тогда, когда не знаешь.
— Почему именно «Патриота»? Я не люблю политических стихов, — заупрямилась Дивна.
Стеван вспыхнул и вскочил, но Эмилия взглядом остановила брата. Ее удивляло, как он не может понять, что с Дивной следует обращаться бережно, ведь она еще ребенок и Чича воспитал ее в старых понятиях.
— Ну, раз ты так здорово читаешь, — как бы между прочим сказал Слободан, — мы выберем тебя секретарем Общества, чтоб наконец и на этом месте у нас был одаренный человек. Будет великолепно: Чича — руководитель, а его дочь — секретарь.
— А как же Зора? Разве она не останется?
— Это еще зачем? Чтобы Общество превратилось в клуб шовинистов? — неосторожно бросила Станица.
Эмилия чуть не заплакала от огорчения. Сколько стараний пришлось приложить, чтобы Дивна, которую Чича никуда не пускал, согласилась прийти к ним, а теперь все пойдет прахом. И в самом деле, Дивна, словно защищаясь от удара, вытянула руки и раздраженно воскликнула:
— Надоели вы мне со своей политикой. Не хочу, и все тут!
В доме Чичи интерес школьников к политике стоял в одном ряду с такими пороками, как азартные игры, воровство и ложь.
— Чего не хочет эта малышка? — с нарочитой небрежностью бросил Стеван.
— Не хочу вмешиваться в политику, вот что. Все вы в Обществе занимаетесь политикой!
— Тогда давайте я вам буду рассказывать сказочки, — вырвалось у юноши, но взгляд сестры сразу же заставил его замолчать.
Эмилия подошла к Дивне, обняла девочку за плечи и притворно сердитым голосом, каким взрослые утешают плачущих детей, сказала:
— Попробуйте ее хоть пальцем тронуть!
В другой комнате Момчило показывал камни, которыми у него были набиты карманы. Паренька тоже не очень интересовали Общество и политика, всю страсть души он вкладывал в минералогию. Но раз уж приходилось выбирать, с кем дружить, а все ученики в классе и в школе делились на две партии: националистов и левых, как они сами себя называли, он примкнул к левым. Левые были из того же сословия, что и он, вели себя сдержаннее и казались более справедливыми. Сейчас он чувствовал себя на седьмом небе от того, что ребята столпились вокруг его сокровищ, и охотно рассказывал, где какой камень нашел. Лаза предложил за какой-то черный блестящий камень сыграть любой из своих комических номеров. Станице приглянулся розоватый, обкатанный рекой камешек, он мог служить прессом. Взамен она предложила Момчило выписать за него слова к трем французским урокам.
— Не пойдет!
— Ну, десять уроков?
— Ладно.
Дивна не сводила глаз со слюды. Момчило ревниво спрятал блестящий минерал в карман, уверяя, что он нужен для коллекции, но потом передумал и отдал его Дивне. Дивна скоро забыла о Литературном обществе, о том, что ее прочат в секретари, и совсем освоилась. В этот вечер никто с ней об этом больше не заговаривал. Не вспоминали и о Николе, о его шовинизме, о том, что он ходит в Клуб сербской культуры. А когда Дивна собралась домой, ее не стали удерживать.
— Ребята, есть новость! Папа больше не будет нас учить! — неожиданно вспомнила она. — Он сказал мне сегодня, что приезжает новый учитель сербохорватского и директор отдает ему половину папиных уроков. А еще приезжает новая учительница географии.
Под наплывом воспоминаний и угрызений совести все сразу загрустили. Сколько раз они возмущались, что Чича донимает их биографиями писателей, что знание грамматики и синтаксиса он ценит выше начитанности, что Николе он постоянно ставит пятерки, а своей дочери четверки. И только Станица иногда простодушно спрашивала его, как спросила бы отца:
— Господин учитель, скажите, до каких пор работы Николы будут считаться самыми лучшими? Когда же вы наконец признаете, что и другие пишут неплохо.
— Когда вы будете знать знаки препинания, как он.
— Неужели это самое главное? — спрашивал кто-нибудь с глухим негодованием.
— А вы как думали? Я ставлю оценки за то, чему вас учу, за то, чему можно научить, а за способности я отметок не ставлю...
А им, наоборот, хотелось, чтобы он оценивал не знания, которые они получили от него, а их способности, чтобы он отмечал их удачные сравнения, фантазию, отдавал должное их юношеской поэзии, их романтической восторженности. Им было обидно, но они не обвиняли за это учителя. Сейчас ребятам вспомнилось, как Чича грозил иногда, что поставит всем двойки и не исправит их даже в конце четверти, пусть бы они отвечали и на пятерки, вспомнилось, как он стучал кулаком по кафедре и при этом сам верил, что страшно сердит. Однако ученики лучше его знали, что он вообще не умеет сердиться, а просто разыгрывает перед ними строгость, и в такие минуты чувствовали себя старше его. «Эх, Чича, Чича! Вы думаете, будто мы все еще маленькие и не видим, что вы только прикидываетесь сердитым», — снисходительно улыбались они. Самые чувствительные ребята переживали эти шумные взрывы так, словно он был им отцом, и, как Дивна, не поднимали глаз от парты. «Чича, Чича, расшумелся, как воробей на дождь!» — упрекали они его про себя.
Дивна одинаково страдала и от отцовских вспышек ребяческого гнева, и от его старческой неопрятности. «Если бы хоть костюм на тебе не был таким мятым и галстук не сползал набок, может быть, твой гнев на кого-нибудь и подействовал бы», — краснея, думала она.
С пятого класса ребята посерьезнее и поумнее стали защищать его от грубых и черствых товарищей. Слободан живо вспомнил, как однажды, когда Чича особенно разбушевался, задавака Светолик, злой и тупоумный мальчишка, начал бормотать:
Я, как ветер, пыль вздымаю,
Разве я вас не пугаю?
Слободан два-три раза оглянулся и угрожающе посмотрел на мальчишку, но тот забормотал еще громче. Тогда Слободан встал и, словно учителя не было в классе, закатил насмешнику пощечину.
Чича вдруг очнулся. Он перестал кричать, стучать кулаком, метаться по классу и удивленно воззрился на бледного от гнева ученика, который осмелился совершить на уроке подобный поступок.
— Он правильно сделал! — выскочила девочка, сидевшая позади Светолика.
Боясь, что она скажет правду, Слободан перебил ее:
— Светолик все время колет меня иголкой в спину, сколько можно терпеть!
— Я думал, что вы уже взрослые, а вы деретесь и колете друг друга иголками, как дети! — снова раскричался Чича.
Слободан и сейчас был рад, что он тогда принял удар на себя, хотя его заслужил другой, к тому же мальчишка, которого он ни во что не ставил, и все это для того, чтобы старик не узнал правды. Ребята смотрели на него с завистью и восхищением. Можно себе представить, что было бы с Николой, доведись ему совершить этот подвиг!
И вот Чича уходит от них. Они многое бы дали, чтобы забыть, как они сердили его, как нередко думали, что хорошо бы, пришел новый учитель, помоложе и посовременнее. Чича учит их уже седьмой год, смогут ли они теперь, перед самым окончанием гимназии, привыкнуть к новому учителю, пусть даже он будет лучше? Неужели никто больше не станет делать замечаний Станице за то, что она неправильно произносит некоторые слова? И им не придется хором кричать, что Станица родилась там, где все так говорят? Неужели никто больше не станет превозносить синтаксис и грамматику?
Дивне было приятно, когда все огорчились, узнав, что Чича уходит от них. Ей захотелось поскорее оказаться дома и рассказать обо всем отцу, но тут же она вспомнила, что он запретил ей говорить об этом товарищам. После ее ухода Лаза первым прервал удрученное молчание:
— Ну, что нос повесили? Не умер же Чича! Да, что это я хотел сказать? А, вот что... лучше послушайте, как Чича встретит Дивну.
Он нахмурил брови, как это делал Чича, когда смотрел поверх очков, и стал говорить то мужским, то девчачьим голосом: «Где ты была до сих пор? — У Эмилии. Там были самые лучшие ребята. — А ты читала свой перевод? — Читала, папа, всем понравилось. — Видали! Всем понравилось! А был там Никола госпожи Ружи? — Нет. — Он тоже хороший ученик. —Эмилия и Станица его не любят, говорят, что он шовинист. — Это уже пахнет политикой. Пока ты в школе, твое дело учиться. — Папа, не было там никакой политики, мы говорили только о школьных делах. — Видали! Чуть что в слезы. Ну, ладно, в следующий раз позовите и Николу и Стояна. Ты не говорила им о новом учителе? — Зачем же я стану говорить? — Ну, хорошо, иди ложись! — Спокойной ночи, папа!»
Когда закончился этот воображаемый диалог, некоторые расстроились еще больше, а Момчило и Стеван в восхищении бросились было качать импровизатора, но смеющийся и раскрасневшийся Лаза сел на пол и крепко ухватился за ножки стола.
Вскоре вернулась учительница, заглянула в окно, и ей показалось, что ее бывшие ученики за эти два часа еще больше повзрослели, а в лицах их появилось какое-то новое выражение. В сад доносился смех и обрывки разговоров. Ребята говорили о вещах, которым она их не учила и которых сама не знала. Она грустно пошла вниз по улице, чтобы не мешать им. Дети! Как часто она наблюдала их нетерпеливое желание распахнуть двери жизни или заглянуть хоть в замочную скважину, видела, как жадно вдыхали они ветер, прилетавший издалека, где им виделось что-то желанное; замечала, как чутко они внимали голосам взрослых и в них искали ключ к тому, что им хотелось понять как можно скорее. Она видела, с каким чувством слушали они музыку, которая, вероятно, казалась им огромной волнующей душой жизни; сколько раз она замечала их удивление, когда они внезапно обнаруживали свое сходство с растениями, словно у них тоже появлялись побеги и листья.
«Придут дни, — думала она, — когда вечером они заснут детьми, а проснутся юношами и девушками. Уезжая на лето, попрощаются с родителями и учителями чистым, как колокольчик, голосом, а вернутся долговязыми, голенастыми, у мальчиков станет заметным пушок над верхней губой, у девочек — юная девичья грудь, и поздороваются они каким-то чужим, незнакомым голосом. Дочки до отъезда спокойно моются при матери, а через два месяца запираются, чтобы переодеть платье. Уехав на каникулы, оставят дома дневники, где пишут о меле, о классных наставниках, о том, как кому-то солгали, а вернувшись, станут прятать под подушку новые дневники, а в них только и написано: «Мне надоело учиться».
Только что они читали стихи Христо Ботева, а сейчас танцуют, и музыка, наверное, отзывается в сердце у каждого какой-то новой, незнакомой мелодией. Эмилия смотрит на высокого Тучу взглядом, которого еще вчера у нее никто не замечал, и, танцуя, опирается на его руку. У Лазы лицо серьезного зрелого человека, которого мучит какая-то боль, он еще не нашел ей имени, вероятно, завтра он узнает и это. И Елена завтра поймет, почему ей все время хотелось плакать, когда она видела, как разговаривали Станица и Слободан. Пройдет несколько дней, догадается и Слободан, почему у него так и не хватило смелости пригласить Станицу танцевать.
ЗАСЕДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЩЕСТВА
Ребята собирались на заседание Литературного общества в самом просторном классе. Чича, который в этот день председательствовал, пришел вслед за учениками младших классов. «Видали, — думал он, — сюда они не опаздывают». Вошли Никола и Стоян. Никола среднего роста, он идет торопливо и быстро вертит головой, как птица. Пришла со своей неразлучной спутницей толстухой Зорой Ольга Попович, дочь депутата, как всегда прибавляли к ее имени. Девочки, видимо, секретничали, поверяли друг другу тайны: шушукались, оглядывались, прикрывали ладонью рот, чтобы их никто не услышал. Крепыш Петар Эро появился один, он вышагивал так твердо, что, будь пол дощатый, он наверняка дрожал бы под его шагами. «Видали, какие важные, — недовольно думает Чича, хмуро отвечая на их приветствия. — Скрытничают, шепчутся, строят друг другу каверзы. Даже Николица госпожи Ружи держится так, как будто идут выборы в Скупщину».
Чича все больше и больше мрачнеет, видя, что сегодня, в день выборов правления Общества, учеников пришло гораздо больше, чем обычно; особенно много одноклассников Дивны. Сейчас он их просто не узнает, на уроке они совсем другие. Виданное ли дело, разговорился даже Ранко, сын протоиерея, пришел Сава Матич, который раньше никогда не приходил, да к тому же не один, а с Лиляной, дочерью полковника. Вот впорхнула стайка девочек: дочь доктора Любица, ее подружка Милица, неряшливые работы которой доставляют ему всегда столько огорчений; Елена, которая никогда не может написать больше одной страницы. Чиче приятно, что все они сначала подбегают к Дивне. Он с удивлением видит, как оживлена его дочь.
— Ой, как много сегодня будет народу! — то и дело взволнованно восклицает она.
На пороге появляется Станица, спокойная, серьезная; увидев Чичу, она бросается к нему, словно к родному дядюшке или доброму старому соседу.
— Господин учитель, вы пришли раньше нас?
— Старые люди любят точность. Время начинать! Ждете, чтоб я вас подгонял?
— Сейчас, сейчас начнем!
Станица послушно заторопилась, стремясь сделать учителю приятное и лишний раз выказать ему свое уважение. Кто знает, будет ли он председательствовать на следующем заседании! Пусть уходит от них с легким сердцем.
Дивна сидит на первой парте, в окружении девочек из младших классов. В этот острый момент борьбы ей не хочется подходить ни к одной из соперничающих групп, чтоб никого не обижать. Словно на настоящих выборах, агитаторы снуют от одного к другому, раздают листочки, нашептывают что-то на ухо, многозначительно переглядываются, похлопывают мальчиков по плечу, спрашивают девочек, пишут ли они стихи.
— А вы пишете стихи? — спросила Дивну какая-то девчушка с тонкой осиной талией.
— Вот уж чего не умею, так не умею, — улыбнулась Дивна.
Чича сел недалеко от группы Станицы и Эмилии, стараясь сохранить торжественный и строгий вид. До сих пор это разделение на лагери казалось ему детской забавой, но сейчас он начинал чувствовать во всем этом настоящую борьбу, настоящее соперничество. Это уже мало походило на потасовки из-за коварной подножки при игре в мяч или внезапного удара под ребро, когда он с трудом разнимал драчливых петухов. Теперь он ясно видел, что дело здесь не только в литературном соперничестве, но и в разнице убеждений.
— Видали! — негромко бурчал он время от времени. — А может быть, раньше нам надо выучить грамматику? А нос вытирать мы научились?
Дивну смущала отцовская воркотня, она боялась, как бы ее не услышали старшие ребята. Девочка понимала, как ей это ни было горько, что Станица, Никола, Эмилия, Слободан и некоторые другие уже в чем-то превзошли Чичу, что они словно бы взрослее его и видят в нем сейчас лишь старого честного человека.
— А почему господин учитель спрашивает о грамматике? — не оставляла в покое Дивну девочка-оса.
— Не знаю, спрошу у него завтра.
— А вы не боитесь спрашивать? Я ни у одного учителя ничего не смею спросить.
Атмосфера в классе накалялась, ученики почти забыли о присутствии Чичи. Они громко перекликались, называя друг друга по именам и прозвищам, и лишь немногие сидели смирно, как на уроке. Младшие с любопытством наблюдали за важным обрядом старшеклассников. К Станице подходили ученики с рукописями. Она была уполномоченной центрального молодежного журнала «Свет», который издавался в Белграде. Станица прятала рукописи в портфель, даже не заглядывая в них, сейчас она была поглощена выборами правления. В школе она давно пользовалась репутацией умницы и хорошего товарища, а в последние годы, когда многие ребята стали сотрудничать в журнале «Свет», ее авторитет среди прогрессивно настроенных учащихся вырос еще больше. В пятом классе у Чичи недавно произошел такой разговор:
— Знаете, как Станица оценивает наши работы? Как настоящий учитель! Все, что она отберет, обязательно печатают в журнале, а если пошлет просто потому, что сжалится или на уговоры поддастся, редакция все равно не печатает.
— Видали! — удивился Чича. — А кто же это ее уговаривает? Вы, что ли?
— Нет, мы не шовинисты, Никола. Он написал рассказ про то, как болгары во время войны убили в одном селе двух пастухов. Нам, когда он читал, очень понравилось, мы стали кричать: «Позор болгарам!» — но Станица сказала, что это раздувание национальной вражды, и сначала не хотела даже посылать рассказ в журнал. Но Никола сказал, что она плохая патриотка и плохой товарищ, она сжалилась над ним и послала, а рассказ так до сих пор и не напечатали.
Чича вспомнил об этом, видя, как около Станицы толпятся ребята с рукописями. За то, что она отклонила рассказ о болгарах, он рассердился на нее, если вообще можно было сердиться на такого мягкого человека, как Станица. Зачем она всюду примешивает политику и что она знает о болгарах? Чича был на войне, и его мнение о них совпадало с мнением Николы. Ее дело следить, грамотно ли написан рассказ, есть ли у автора чувство, фантазия. Он так увлекся своими мыслями, что не заметил, когда началось заседание. Очнулся он от того, что председатель Общества Стоян, серьезный и сосредоточенный, как все дети из крестьянских семей, неутомимо стучал ладонью по столу. Он стучал равномерно, спокойно, не торопясь. Размеренным голосом он объявил, что надо выбрать новое правление, и призвал называть лучших товарищей.
— Вы, мелюзга, поразборчивее пишите фамилии.
— Видали! А они вообще-то научились писать?
— А почему господин учитель все время говорит: видали, видали? — опять спросила девочка-оса.
Одного пятиклассника все называли поэтом. Это был тихий, застенчивый паренек, который все старался скрыть на локтях заплаты — они были из того же материала, что и куртка, только еще не выгорели. Прикрывая ладонью листочек с фамилиями кандидатов, он озирался по сторонам, не подсматривает ли кто.
— Да не прячь, мы и так знаем, ты — за Дивну.
— Это вы, да? — спрашивает девочка-оса. — А разве поэтом может быть, — здесь она немного запнулась, — бедный?
Но Дивна не слушает ее. У всех лица разрумянились, точно на контрольной. Чича видит, что взгляд Дивны направлен в сторону ребят, окруживших Станицу, что вокруг Николы образовалась своя группка, что несколько мальчиков и девочек в растерянности пытаются заглянуть в листочки своих соседей. Видали! Разделились, точно на предвыборном митинге. Момчило и Эмилия перешептываются, глядя на Дивну. Никола хмуро смотрит на них и, наклонившись, говорит что-то Петару Эро и Немане. Милица и Елена ушли в дальний конец класса и, сблизив головы, пишут на вымытой дождями оконной раме. И хотя им нравятся мальчики из враждебных лагерей, объединяет их то, что к ним одновременно пришло чувство, превращающее вчерашних девочек в девушек. Веснушки на лице Чедомира за этот час стали такими яркими, точно кто их изнутри подкрасил. «Поэт» пошел по классу с шапкой, собирая в нее листочки; их еще не все заполнили, и он терпеливо ждал, пока все будут готовы.
— Я голосовал за тебя, — тихо шепнул он Дивне.
— И я за тебя!
Больше всего черточек появляется на доске против имен Дивны и Станицы. Чича взволнован. Ему приятно слышать, как ученики восторженно приветствуют каждую новую черту рядом с именем Дивны. Но его огорчает, что почти все кандидаты, получившие много голосов, принадлежат к лагерю Станицы. Видали! Все на стороне Станицы!
Станица, которая всегда разговаривала с учителями как равная с равными, радостно говорит Чиче:
— Глас народа! Не сердитесь!
— Глас народа! Видали! — вскидывается Чича, но тут же успокаивается, услышав, что Дивна отказывается быть в правлении Общества.
— С места не говорить! — кричит Стоян.
Чичу обычно утомляла эта, как он выражался, игра в жизнь, он боялся, что это плохо кончится, боялся, как бы ребята не стали хуже заниматься, увлекшись политикой, как бы не перессорились между собой, и при первой возможности сбегал с заседаний Литературного общества, как школьник с урока. Сейчас он хотел дождаться конца, чтобы узнать, чем будет заниматься в правлении Дивна, хотя вообще был недоволен тем, что ее выбрали. Не желая показывать свое волнение, он время от времени бросал какие-то ребяческие реплики, которые вгоняли в краску Дивну, особенно когда она замечала снисходительные улыбки товарищей. Они заставляли ее взглянуть на отца иначе, чем дома, когда они были вдвоем. Посмотрев на него как бы со стороны, она сразу увидела, что костюм на нем плохо отглажен и что он опять пришел без галстука, хотя несколько минут назад она ничего этого не видела. Как это часто бывает с людьми, которые не обращают внимания на мелочи, Чича ходил вечно измятый и выпачканный, кое-как застегнутый. Подобно всем людям, погруженным в себя, он не замечал ни оторванных пуговиц, ни потертых рукавов, ни стоптанных каблуков. Он вспоминал о них только тогда, когда видел укоризненный взгляд Дивны, — ведь она так много возится с глажкой и починкой, все-таки заботы, которые легли на ее плечи после смерти матери, ей не по возрасту. «Подумаешь, — тут же утешал он себя, — не обязательно же я должен выглядеть, как парикмахер Пера».
— Папа, может, ты пойдешь домой, — помогла ему Дивна — она видела, что отцу не терпится уйти. — Теперь я буду не только твоим секретарем, но и секретарем Общества.
— Ну, если у тебя к этому способности...
— Да, папа. Это и по тебе видно, — с улыбкой прервала она отца, прощаясь.
Станица, новый председатель Общества, тоже подошла к Чиче и, как всегда, просто сказала:
— Господин учитель, идите домой, вы устали. Главное сделано. Лучше погуляйте, смотрите, как на улице хорошо!
Чиче всегда нравилось, что Станица ведет себя просто, по-домашнему, что она никогда и ни перед кем не заискивает. Ему приятно было в классе видеть порой отсутствующее, чем-то озабоченное лицо девочки. Ей он прощал даже то, что он называл вмешательством в политику. «Когда умный человек, — рассуждал он, — вмешивается в политику, значит, у него есть на то серьезные основания и ничего плохого из этого получиться не может. Да и с этими чертовыми болгарами тоже не стоит больше ссориться».
— Ну раз вы обе меня гоните, я пойду.
— А вас, господин учитель, и надо было бы иногда прогонять из школы. Пускай молодые потрудятся, — сказала Станица, теплым взглядом провожая его до двери.
Станица относилась к старости так, как относятся к ней в народе. Да и мера старости у нее была та же. Каждый, кому было за сорок, представлялся ей старым, и она невольно выказывала ему уважение. А к Дивне она испытывала особую нежность, видимо, под влиянием своей матери, которая говорила: без отца — полсироты, а без матери и вся сирота.
Слова Станицы о том, что иногда его надо было бы прогонять из школы — пусть, мол, трудятся молодые, напомнили Чиче о приходе молодого учителя, которому в числе прочих передадут и седьмой класс, где учатся Станица и Дивна. И ему вдруг стало обидно — он словно забыл, как давно ему хотелось избавиться от части своих уроков.
Когда Чича ушел, Станицу опять окружили ученики со своими работами. В сторонке задумчиво сидел за партой Никола. Он недавно отдал Станице рассказ, в котором высмеивались словообразования, искусственно создаваемые хорватами. Она спокойно подошла к нему, зная, что он этого ожидает, и положила ему руку на плечо.
— Послушай...
По какой-то особой мягкости ее голоса Никола понял, что она не приняла его рассказ, и, обидевшись, быстро спросил:
— Не нравится?
— Не в этом дело. Мне, если хочешь знать, даже нравится, но опять шовинизм и преувеличения. В детстве я жила в тех краях и никогда не слышала, чтобы велосипед называли бегунком, да еще надутым.
— Чича читал, и ему понравилось.
— Что же, это понятно, Чича не любит провинциализмов, не любит архаизмов, не любит новообразований. Ну ладно, раз Чиче нравится, мы прочтем на заседании Общества и, если все примут хорошо, пошлем в Белград.
Думая вернуть Николе рассказ, Станица держала его в руках. Никола сердито выхватил у нее тетрадку с рассказом и молча ушел, не обернувшись на ее зов.
— Разозлился, велика беда! — утешал ее Момчило по дороге домой. — И он бы не принял твой рассказ, напиши ты о положении рабочих.
— Что это я хотел сказать? — возгласил Лаза. — А, вот что... Ты не умеешь смешить, смотри, как это делается. — Лаза встал в позу отца Ольги Попович — грудь колесом и, имитируя его излюбленную тему, выпалил одним духом: «Стыд и позор. Сербы в нашем государстве самый угнетенный элемент. В своем родном Белграде они лишены прав, которыми обладают все прочие. Вчера выгнали с работы старого чиновника, а его место отдали какому-то мо-ло-ко-со-су, мо-ло-ко-со-су из Словении! Стыд и позор. А в Словении сербов преследуют и издеваются над ними. И людям приходится оттуда бежать. Так-то, батенька мой. Прочитай, Никола, свой рассказ! Подняли шум, что мы печь называем фуруна, а плиту шпорет [Фуруна, шпорет — заимствованные слова из турецкого и немецкого языков.] А против своего надутого бегунка небось не возражают».
— Как мы встретим нового учителя? — неожиданно спросила Станица. Этот вопрос застал всех врасплох, как бывает, когда углубишься в книгу под крышкой парты, а учитель вдруг вызывает к доске продолжать решение задачи. — Осрамимся мы перед ним, ужас!
Ребята посерьезнели. Надо будет все повторить, хотя бы ради Чичи, чтобы не подвести его.
— Ведь мы ни строчки из дубровницкой поэзии не знаем, — вздохнул Чедомир, и веснушки на его лице опять покраснели.
— «Блаженны час и миг, когда я в первый раз всю красоту постиг твоих лучистых глаз...» [Строки из стихотворения дубровницкого поэта Шишко Менчетича (1457—1527).] — прочел Лаза, и все, словно сговорившись, взглянули на Эмилию.
— А нам, правда, придется постоять за честь нашего Чичи, — задумчиво заметил Момчило. — Новые учителя всегда важничают и ищут, на чем бы подловить своего предшественника. Дивны здесь нет, и сейчас можно сказать, что Чичу не трудно подловить.
Они вдруг забыли свое недовольство Чичей, то ли потому, что их немного пугал приход нового учителя, то ли потому, что перед разлукой вспоминалось только хорошее.
— Видали! — встрепенулся Лаза. — Выходит, ученики не такие уж скверные! Выходит, что иногда они даже умнее учителей!
— Особенно ты, — мягко поддразнил его кто-то.
Не сговариваясь, ребята направились к дому Станицы. Нагретая трава и крапива вдоль заборов испускали пряный аромат, он будил в них неясные желания: совершить что-нибудь героическое и прославиться, или отдать за кого-нибудь жизнь, или целиком посвятить себя какому-нибудь делу, или просто посмеяться и поиграть. Все обрадовались, когда оказалось, что у Станицы дома никого нет. Ребята почувствовали себя словно в покинутом королевстве, где можно проявить свои способности, испытать свои силы. С чего только начать? Натаскать из колодца воды в посеревшее деревянное корыто, похожее на древние челны, что выставлены в этнографических музеях? И вот уже вода переливается через край корыта, из которого Станица поит корову. Ну и пусть переливается, пусть хоть раз хорошенько напьется трава у дома. Потом друзья обнаружили в сарае банку коричневой масляной краски.
— Станица, надо что-нибудь покрасить?
Как назло, все было выкрашено. Не найдя ничего в доме, они наткнулись на деревянную скамеечку под вишней. Надо и ее покрасить, будет меньше портиться от дождя. Станица просила только поторопиться, чтобы все сделать до прихода мамы. Тогда ей придется примириться, и все. А если еще починить крышу сарая? За домом лежит новая черепица, как раз хватит, лестница тоже есть. Тут и дела-то всего на полчаса, ведь их четверо мужчин: Слободан, Лаза, Момчило и Туча. Да, это было бы великолепно, но Станица испугалась, как бы мать не застала их на крыше. Кто-то из ребят опять вдруг вспомнил о новом учителе и спросил:
— И как только он будет жить в нашем городишке, с нашими мертвыми, как в Помпее, улицами? Правда, вот такими я и представляю себе улицы Помпеи.
Между тем по всем признакам приближалось время воскресного обеда: на дворах кудахтали куры, мычали пригнанные с пастбища коровы, звенела посуда, пахло чесночной подливкой, матери звали ребятишек, чтобы послать их за пивом или содовой водой, тени ползли вверх по стволам деревьев и прятались подальше в гущу ветвей, откуда они утром спустились; зажмурились вьюнки, люди закрыли ставни на солнечной стороне, во дворах цыган пели скрипки, извозчики потянулись на вокзал к белградскому поезду, который прибывал ровно в час.
Все это напомнило друзьям, что пора домой. На прощанье они еще приколотили две доски к хлеву и перекатили два больших камня из сада к забору, где после дождя остались промоины. Спросив друг друга об уроках на завтра, договорившись обменяться словами к французским текстам и задачами по математике, они пошли по домам. Им казалось, что их несли крылья, а в сердцах ключом била радость.
МЕСТЬ ЖАНЕТТЫ
В эти первые осенние, еще теплые дни ребята приходили в школу гораздо раньше, чем зимой.
— Как хорошо сегодня на дворе! — восхищались старшеклассницы, глядя на желтые и красные деревья, словно расцветшие в сиянии солнечного дня.
И девочки из младших классов тоже любовались красками осени, прохаживаясь вдоль ограды, куда ветер уже намел красноватые сугробы. Только мальчишки оставались равнодушными и к грудам листьев, и к ароматам осени, и к просторам неба, где догоняли друг друга еще более проказливые, чем они, веселые белые облака, на которые поминутно мечтательно поглядывали девочки.
Мальчишки бегали, прыгали, играли в чижика и чехарду, карабкались на деревья, кричали во все горло. Но среди всего этого гама и шума чаще всего можно было услышать разговоры об учителях. Ладно скроенный паренек в коротких брючках громко говорил товарищу:
— Физкультурник — это сила! Ругается почище моего отца. Я слышал вчера, как он сказал в учительской: «Вот сукины дети!» Я вошел за циркулем. Он-то меня и не видел, а Ясика испугалась, в бок его толкает.
Двое малышей отошли к самому забору, чтобы им никто не мешал, и, оглядываясь, не слышит ли их кто-нибудь из ябед, обсуждали учителей, которые курят тайком от ребят.
— Знаешь, они как восьмиклассники, стоит ученику войти в учительскую, прячут руки за спину. Мой папа говорит, это чтобы не показывать нам дурной пример.
Немного погодя первоклашки отошли еще дальше, за сарай, и, разделив пополам найденную во дворе сигарету, закурили, кашляя, моргая и уверяя друг друга, что курить — великолепно.
Несколько ребят настороженно прислушивались к разговору Тучи с двумя шестиклассниками. Этот парень, выглядевший всегда таинственно и мрачно, слыл в школе либералом.
В противоположность своим школьным единомышленникам, которые открыто выражали свои взгляды и с юношеской страстностью их защищали, Туча никогда не вступал в споры, но о чем бы он ни начал говорить своим глухим тихим голосом, казалось, что он по меньшей мере готовит заговор или вербует сторонников, хотя речь могла идти о самых обыденных вещах.
— Погляди-ка на Тучу, видал, как обрабатывает. Давай подойдем, вроде нам надо что-то спросить. Увидишь, как он смутится.
— Такие не смущаются.
— Еще как смутится и сразу оборвет разговор. Мне Аца рассказывал — вон тот маленький, чернявый, — как Туча ему однажды говорил, что все наши министры негодяи, что у всех у них автомобили на народные деньги куплены, что все они воруют, что крестьяне в стране угнетены, что сербы притесняют хорватов, будто он сам не серб.
Когда они подошли ближе, около Тучи стояло уже человек десять старшеклассников, все они были необычайно возбуждены. Ребятам не хотелось идти на занятия: как можно спокойно сидеть за партой и учиться, когда близкая славянская страна подверглась нападению, когда люди терпят насилия! И все проявляли подчеркнутое внимание к единственному еврею в школе, шестикласснику Иосифу, с которым Туча утром во дворе заговорил первым. Здесь были и левые и националисты, но сегодня они испытывали одинаковые чувства. И даже те, кто только что с осуждением наблюдал за угрюмым восьмиклассником, сейчас разделяли его возмущение и дружелюбно заговаривали с ним.
Двор был уже полон. Через десять минут зазвенит звонок, и ребята старались не потерять ни секунды: закончить игру, разговор, доучить урок или просто насладиться бездельем. Подумаешь, учителя тоже не любят звонок на урок, рассуждал один пятиклассник, ему об этом говорил его отец, он когда-то был учителем, а потом переменил профессию.
Сквозь решетку чугунной ограды школьники увидели Ольгу Попович, которая вместе со своим отцом пересекала улицу. Попович был похож на пронырливого адвоката, и шел он так, словно переходил реку по камням.
— Сейчас папа все уладит, — выразил Лаза любимыми словами Зоры мнение учеников об отношениях Поповича и директора, отца и дочери, государства и школы.
Если Попович провожает Ольгу до гимназии и пересекает улицу, словно переходит по камням реку, это означает, что потребовалось упрочить положение дочери. На первом же уроке в класс войдет школьный служитель, попросит журнал и выйдет, крепко сжимая его в руках, чтобы не разлетелись отметки. Всем отлично известно, зачем он берет журнал. Так случилось и сегодня. У физика из-за этого пропал урок — ученики были страшно невнимательны. Физик решил, что виной тут погожий осенний день, что ребят тянет на волю или размагничивает теплое солнышко. Что поделаешь, у природы свои законы! Надо примириться.
— Видно, у солнца есть свойства, еще не исследованные физикой, — сказал он в конце урока,— ничем иным я не могу объяснить вашу рассеянность. Распахните окна настежь и дышите глубже!
Ольга взволнованно сжимала руку Зоры. Она слышала за своей спиной шушуканье, кто-то прошептал ее голосом: «Папа, пойди в школу, пусть мне исправят двойки по математике и французскому». Ну и ладно, подумаешь какое дело, лишь бы папа убедил директора, что француженка к ней придирается, математика уговорил не спрашивать ее еще десять дней и подтвердил, что она не ходила на танцы без мамы.
— Что, даже открытые окна не помогают? — начал было учитель, но тут раздался звонок, и его голос потонул в гаме и шуме.
Зора и Ольга выбежали из класса следом за учителем и помчались по коридору к кабинету директора взглянуть, там ли еще Попович.
— Не волнуйся, — шептала Зора, — папа наверняка все исправил.
Остальные ребята окружили Лазу, который немедленно начал представление.
— Мой папа важнее директора. Директор боится моего папу и всегда просит, чтобы папа похлопотал за него в Белграде. Мой папа получил от общины участок для расширения школьного двора, вот директор и спрашивает папу, может ли он что-нибудь для папы сделать...
— Ух, ну и память у тебя! Это Ольга в пятницу так трещала в классе. Здорово! — галдели ученики.
— У нее, господин директор, произношение лучше, чем у французов. Вы как-нибудь пойдите на урок и послушайте, какие у нее носовые! Семи лет она уже болтала по-французски. Я не спорю, может быть, девочка иногда чего-нибудь и не знает, в прошлом году она долго болела, но разве каждый раз надо ставить двойку! Ну ладно, я готов согласиться и с двойкой, но француженка грозит, что больше ее не вызовет... Да, чтобы не забыть, ваше дело на мази...
— Попович всегда умасливает. Он сто раз говорил маме, что дело на мази, а сам и пальцем не шевельнул, — воскликнула с негодованием Милица.
— А что касается математики, — продолжал Лаза, — я ручаюсь за дочь. Ольга вся в меня, а я по математике шел первым в классе.
Вокруг Лазы образовалась пирамида — ребята залезли на парты и, держась за плечи товарищей, наслаждались игрой Лазы. Спектакль пришлось прервать, так как в класс вошли Ольга и Зора и прозвенел звонок на второй урок.
Визит Поповича к директору взбудоражил не только учеников, учителя тоже были обеспокоены. После подобных визитов директор обычно начинал интересоваться отметками Ольги, выражал удивление по поводу ее двоек и троек, просил вызвать ее или, наоборот, не спрашивать некоторое время. Это повелось особенно в старших классах. Учителя сопротивлялись, говорили, что Попович не бог, хотя и депутат, и все же в конце концов вызывали Ольгу и исправляли ей отметку, после чего приходилось вызывать других учеников, подобных ей, и исправлять другие двойки, подобные ее. А это была немалая работа.
Вот и сегодня на большой перемене директор появился в учительской с таким видом, будто он что-то забыл здесь и никак не может вспомнить что.
— Скажите, каким образом дочь Поповича получила у вас неудовлетворительно? — обратился он наконец к Жанетте.
— Очень просто, как все избалованные дочки, — бросила она через плечо.
— Не понимаю, как девочка, которая так долго изучает иностранный язык, может докатиться до двойки!
Жанетта ничего на это не ответила. Она прекрасно понимала, что недоумение директора — это всего лишь замаскированная просьба быть снисходительнее к девочке. Она с горечью думала о том, что школа, наверное, никогда не избавится от этого бедствия — от натянутых троек и от родителей, которые проявляют беспокойство о своих детях, когда те начинают хватать двойки. Чувствуя, что после Жанетты очередь дойдет до него, математик сам вмешался в разговор:
— Ей-богу, господин директор, если первые четыре года девочка как-то занималась и что-то усваивала, то следующие четыре она только забывала — точь-в-точь как в той притче о семи тучных и семи тощих коровах.
Учитель закона божия засмеялся при этом сравнении, а бедняга директор стал говорить, что девочка долго болела.
— И выболела тройки! — ядовито заметил кто-то.
Все вздохнули, подумав о том, как прекрасно было бы призвание учителя, если бы не приходилось измерять цифрами то, что с большим трудом поддается такому измерению. Сколько бывает переживаний из-за того, что выводишь переводной балл тем, у кого знания удержатся не дольше завтрашнего дня, и ставишь двойку тому, кто не знал урока случайно; хочешь не хочешь, но быть до конца справедливым нет никакой возможности! Сколько раз чуть не плачешь над двойкой, которая казалась вполне справедливой, и сожалеешь о пятерке, заслуженной формально!
У Жанетты на третьем уроке было «окно», и она осталась в учительской проверять тетради. Даже если бы директор ее не просил, она все равно была бы вынуждена исправить Ольге оценку. Есть такая порода учеников: ни глупые, ни умные, учатся от случая к случаю. Пять раз вызовешь — не знает, ну в досаде и дашь себе слово не спрашивать в шестой раз, не тратить время на бессовестных лентяев, когда его можно использовать для занятий со способными и прилежными ребятами, которые так и рвутся показать свои знания, но на которых обычно не хватает времени. Один восьмиклассник, которому она редко могла уделить внимание, как-то раздраженно спросил Жанетту: «Неужели школа существует только для троечников?»
Оставшись одна в учительской, Жанетта ощутила в себе смелое желание отомстить директору. Если уж она должна подарить Ольге полбалла, то она порадует весь класс, все классы, где она преподает. Жанетта вынула тетради с письменными работами пятого, шестого и седьмого классов и все четверки с плюсами или пятерки с минусами с легкой душой переправила на круглые пятерки, а тройки с плюсами — на четверки. Потом отобрала работы учеников, у которых оценка колебалась между двойкой и тройкой. Родители этих ребят не бегали в школу протестовать или просить, у них не было ни репетиторов, ни отдельных комнат, ни даже уголков или столов, где они могли бы заниматься, не было свободного времени, когда бы родители, измученные заботами и работой, не звали бы их на помощь, отрывая от уроков домашними делами. Все эти нетвердые оценки она тоже переправила на тройки.
Особенно щедра она была к Ольгиному седьмому классу. «Неужто я допущу, чтоб у рыжего умницы Чедо была такая же оценка, как у Ольги, — думала она, листая его тетрадь. — Если математик, который так ценит аккуратность, прощает ему кляксы и помарки, почему бы и мне не поступить так же, тем более что мальчик и во французском проявляет ту же логику, что и в математике». Она почти с отвращением взглянула на четкие, аккуратные строчки в Ольгиной тетради и со злорадством, которого никогда раньше не подозревала в себе, исправила Чедомиру последнюю оценку с тройки на четверку. И в тетради Ранко, сына протоиерея, она перечеркнула четверку с плюсом и, стыдясь своей прежней мелочной придирчивости, поставила большую круглую пятерку.
Вспомним, как на днях из-за минусов плакали отличницы Лиляна и Любица, она нашла их тетради и стерла черточки, которые мутят чистую радость ребят. А потом, с озорством подумав: «Смерть минусам!» — стерла минусы во всех остальных тетрадях.
Теперь у нее на сердце стало легко и приятно. Учитель редко отваживается на такой подвиг. Всегда дрожишь, колеблешься, мучаешься угрызениями совести, не завысил ли, не занизил ли оценку. В час между вторым и четвертым уроком Жанетта отомстила за все муки, которые она претерпела, исправляя тетради слабых учеников и отыскивая в них хоть крупицы знаний и навыков, приобретенных за годы учения в школе.
Только теперь, казалось ей, она поняла непреклонность старого учителя, с которой тот, сидя однажды рядом с ней на скамье в парке и услышав, что она собирается посвятить себя школе, делал ей внушение:
— Если ты не умеешь принимать решения мгновенно, как солдат, не берись за это дело! Учитель должен больше доверять первому впечатлению, чем последующему анализу, который потом может замутить и поколебать это впечатление.
Она спорила с ним, пыталась убедить его, что надо семь раз отмерить и хорошенько подумать, прежде чем вынести решение. Но старик не слушал, продолжая развивать свою мысль:
— Когда я награждал ученика, я награждал от всего сердца, а когда наказывал — наказывал без колебаний. Дети не любят неуверенности.
— Мне кажется, то, что вы называете неуверенностью, простая добросовестность. — Уже тогда в ней пробуждалась теперешняя Жанетта.
— Кроме того, у тебя должна быть хорошая память, — продолжал старик свою проповедь, не слушая ее, — и если ты однажды завысила отметку, в следующий раз сбрось балл и установи равновесие...
Жанетта, напевая, положила тетради в шкаф. С ее плеч будто свалилась огромная тяжесть.
К тому же во дворе сияло солнце, теплый ветер принес на стол золотистые листья, и Жанетта, наверное, в первый раз с тех пор, как учительницей вошла под школьный кров, почувствовала себя так же свободно, как чувствуют себя те, чья профессия не связана так тесно с судьбами людей.
Завтра она снова будет дрожать, мерить на граммы, носить в себе совесть, как болезнь; но хоть раз она узнала, как легко живется тем, от кого не требуется такой справедливости и такого неусыпного внимания, какие необходимы в работе учителя.
Неожиданно, перед самым звонком, директор вошел в учительскую в сопровождении двух новых учителей. Жанетта мгновенно отметила ярко накрашенные губы молоденькой учительницы и отдала должное ее подтянутости, ее манере одеваться, не принятой среди школьных учительниц. Сразу же поняла она и то, что новички знакомы и что девушка явно не безразлична молодому человеку. Ее врожденное любопытство взыграло, как неперебродившее вино: были они знакомы раньше или встретились только сейчас у директора, а если только сейчас, то каким образом девушка уже успела обратить на себя внимание молодого учителя? Это открытие и хорошее настроение, овладевшее ею еще раньше, побудили Жанетту встретить новых коллег с чисто французской, как она полагала, любезностью. Ей было приятно, что она первая после директора познакомилась с новыми учителями и могла представить их коллегам, которые один за другим приходили с уроков.
О ЧЕМ МЕЧТАЕТ МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ
Ненад Яковлевич, новый учитель, после школы пошел в городской парк. С реки тянуло свежестью и почти деревенскими запахами, хотя за рекой виднелись фабричные трубы. Он подошел к самому берегу, чтобы взглянуть на сине-зеленую Мораву, которая то и дело останавливала свой бег, шаловливо вертелась на одном месте, с любопытством заглядывала под размытый берег и выносила оттуда то горсть камешков, то сломанную ветку, то детский кораблик, потерпевший кораблекрушение. Кое-где в ямках под нависшим берегом мирно поблескивало озерцо в ожидании, когда река заберет его отсюда и снова понесет туда, куда с незапамятных времен несет она свои воды. Ниже по течению, по пояс в тине, стояли серые вербы, опутанные мертвыми водорослями, и по ним было видно, как иногда высоко поднимается ленивая с виду и такая дурашливая Морава.
На мосту стоял мальчик и плевал в реку, с любопытством наблюдая за ее поведением. Река, видно, не обращала внимания на то, что ее дразнят, и он сердито наклонился за камешками, собираясь обстрелять ее. Но тут он увидел незнакомого человека, и прелесть игры сразу пропала. Мальчик, очевидно, был из тех, кто любит играть в одиночестве, и теряется, если его кто-нибудь увидит.
Яковлевич оставил в покое мальчика и реку и пошел по тропинке, что вилась в чаще кустарников и деревьев. Какой-то знаток человеческих душ огородил газон проволокой, укрепленной на низких колышках, но, несмотря на это выразительное предупреждение, горожане срезали углы газона и протоптали свои узкие тропинки. Тропинки разбегались в разные стороны — к реке, к улицам. Многие деревья напоминали облинявших, замученных зверей в зверинце: у одного нет гривы, у другого — лапы, третье — густо запорошено пылью, словно для того, чтобы придать завершенность картине провинциального парка. И лишь нескольким хвойным деревьям удалось сохранить чистоту и свежесть. Туи радостно протягивали к солнцу свои плоские лапки, сосны бодро топорщили голубоватые иглы. Траву давно не косили, и на утреннем ветерке стебли обнимались и томно склоняли головки друг другу на плечо.
Яковлевич посидел немного на серой некрашеной скамейке, думая о том, что ему неплохо будет в этом городе, если ученики — они наверняка живут вон в тех увитых диким виноградом домиках за парком — полюбят то, что любит он, если он освободит их от предрассудков и предубеждений, если поймет юношеское биение их мыслей и страстей, если удовлетворит их любознательность, жажду знаний, если откроет перед ними горизонты, если из этого маленького равнинного городка, не обозначенного на карте Европы, поможет им увидеть весь мир.
Вот бы хорошо, если бы в том доме, укрывшемся за старой, щедро осыпанной плодами яблоней, жил одаренный поэт, который и сам еще не подозревает об этом, в котором он разбудит талант, за которого он станет заступаться перед учителем математики, будет уговаривать его не сердиться, если мальчик плохо решит задачу, если он никак не научится писать цифры аккуратно одну под другой, будет убеждать его, что настоящий человек может выйти из сорванца, который стихи любит больше, чем математику.
Вот бы хорошо, если бы в этом большом дворе, заросшем камнеломкой, с одиноким, как в степи, колодцем посредине, у которого развешивает простыни женщина с умными глазами, если бы в этом дворе жил одаренный математик, юноша, который не любит лишних слов, не любит пространно выражать свои мысли и чувства. Он поймет его и не станет корить за скудость описаний, за скупость и неуклюжесть образов, и, когда дело дойдет до выпускных экзаменов, юноша получит награду, на которую ему дает право его одаренность.
Вот бы хорошо, если бы ему удалось понять и смягчить необузданные порывы мальчишек и девчонок, живущих за этими порогами, на которых греются в лучах солнышка кошки и с которых его встречают и провожают лаем дворняги. Никогда и ничем он не обидит ребят; ведь он знает, как они честолюбивы, знает, что в эту пору они считают себя самыми умными и самыми справедливыми. Вот бы хорошо, если бы наказание для них стало знаком его прощения, а прощение они воспринимали бы как самое тяжкое наказание.
Вот бы хорошо, если бы новая учительница, Вера Мишич, которую он помнит еще с одной студенческой экскурсии, жила вон в том доме с высоким каменным цоколем, с крытым жестью крылечком и двором, обнесенным черной железной решеткой, а он поселится в этом вот маленьком домишке под черепичной крышей, потонувшем в подсолнухах и огороженном старым дощатым забором. Он прекрасно заживет в этом городе, стоит только Вере Мишич каждый день при встрече с ним смущаться так, как она смутилась сегодня утром в кабинете директора, стоит ему убедиться, что она тоже помнит студенческую экскурсию по монастырям, возвращение лунной ночью, поезд, что и для нее та ночь слилась со сказкой, что и ей казалось, будто она едет по земле чудес, что и она заметила, как месяц все вокруг украсил серебристым ореолом и сдвинул с привычных мест — поднял дома с фундаментов, перенес реку в другое русло, церковную колокольню подвесил в воздухе, а горы превратил в синие тени.
Он прекрасно заживет в этом городе, стоит ему только убедиться, что тогда, в поезде, девушка спала тем сном, когда все видишь как наяву, а проснуться не можешь, что и ей колеса пели песню о бескрайних дорогах, о чудесах, рожденных светом луны, что и она слышала стрекот с полей, тяжелое дыхание паровоза — казалось, он тянул за собой всю эту ночь. Он прекрасно заживет в этом городе, стоит ему только убедиться, что тогда девушка всю ночь смотрела на него из-под ресниц, что она и теперь спит тем сном, когда все видишь и все слышишь, что ей тоже пришло в голову: видно, не простая случайность, что они вместе плыли сквозь дивную лунную ночь, а потом очутились в одном городе и в одной школе.
«Заря!» — тихо сказал он в то утро в вагоне, глядя на ее опущенные ресницы, потому что чувствовал, что она спит тем сном, когда все слышишь.
И она встала и подошла к окну.
Он прекрасно заживет в этом городе, если завтра, когда он скажет: «Звонок!» — она встанет и возьмет журнал, хотя до этого, казалось, слушала, о чем говорят другие.
ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
У каждого класса свое лицо. Один веселый, другой угрюмый, третий мятежный. В одном все прилежно работают, в другом поселяется лень. И это зависит не только от ребят, но и еще бог знает от чего, — может быть, от того, в какой они комнате занимаются, на каком этаже, кто им преподает.
Все учителя не любили шестой класс. Здесь каждая парта — засада. Тут задавали тон мальчишки, которые всем своим видом словно говорят: «А ну-ка, покажи, что ты знаешь!» Здесь почти на каждом уроке кто-нибудь вставал и, состроив невинную рожицу, спрашивал, в котором году умер или родился тот или иной писатель, или папа, или знаменитый полководец, когда началось то или иное движение, как сказать по-французски крапива, когда Антоний влюбился в Клеопатру.
Восьмой класс, где училась Эмилия, наоборот, все любили. Там было немало отличников, но ни один из них не считал это какой-то своей особенной заслугой, позволяющей ему сесть учителю на шею. А у слабых учеников хватало ума и достоинства не вымогать у учителей хорошие отметки.
Два пятых класса были похожи друг на друга — одинаково влюблялись в учеников и учениц старших классов, в киноактрис и киноактеров, в молодого школьного доктора, в певицу из Гранд-отеля, в Эмилию, одинаково восхищались дерзостью Николы и голосом Дивны.
Один из первых классов был такой плаксивый, точно ребятишек отбирали в него именно по этому признаку. Скажешь девочке, чтобы не оборачивалась, или мальчику, что вызовешь отца,— плачут, пропадет тетрадка или резинка — рыдают во весь голос.
И если в восьмом политикой интересовалась лишь самая мягкая на вид Эмилия, то в седьмом, где учились Дивна и Станица, все были политики и борцы; даже те, кто ни во что не вмешивался, боролись за то, чтобы ученики стояли в стороне от политики и занимались своим делом, то есть учились. Но все, к какому бы лагерю они ни принадлежали, разделяли убеждение, что нет большего греха, чем предать товарища. В этом классе совершенно открыто проявляли симпатию к одному учителю и неприязнь к другому.
Чича, знакомя Яковлевича с классами, которые он ему передавал, чувствовал себя ответственным не только за свои собственные упущения, но и за ребячьи заговоры и подвохи, за их рассеянность и лень, с которыми столкнется новый учитель.
— Вот таков уж этот шестой! — говорил он. — Ничему не удивляйтесь и с первого дня твердо держитесь правила: если они вас, скажем, спросят, какую прическу носил Гундулич [Гундулич Иван (1588—1638) — великий дубровницкий поэт.], вы тут же задайте всему классу написать к следующему уроку, что происходило в мире в десятом году до рождества Христова. Когда вы накажете весь класс, ребята сами утихомирят зачинщиков.
— Думаю, до этого дело не дойдет.
Чича даже обиделся:
— Видали, не дойдет! Я в школе состарился, и я знаю, что такое ученики, так что вы мне лучше не говорите: не дойдет!
Однако новый учитель быстро сближался с ребятами. Уже в первые дни с классами, где он получил уроки, у него сложились теплые, дружеские отношения. Во втором и в третьем классах и девочки и мальчики встретили его, крепко скрестив руки на груди, словно боялись, как бы он не отнял у них то, что они там спрятали. Подбородки вздернуты, точно у солдат в строю. Дежурные одним духом выпаливали имена отсутствующих. Новый учитель быстро запоминал лица. На одной из парт ему бросилась в глаза девчушка с маленькой, как репка, головкой, с круглыми щеками, готовыми расплыться в улыбке, на другой — важно восседал мальчонка с прической, как у взрослого. Прямо перед ним сидела девочка, в лице ее было что-то японское, а все оттого, что косички ей заплели туго-натуго и они натягивали волосы у лба и поднимали кончики бровей к вискам.
В конце первого урока на последней парте началось какое-то движение. Мальчик, с которым он познакомился еще в коридоре, встал и сказал добродушно:
— А я в этом классе.
Мальчуган, очевидно, был уверен: новому учителю будет приятно видеть его именно в этом классе, и, конечно, ему хотелось показать всем, что он уже знаком с новым учителем.
— Ты не мог бы себе выбрать лучший класс...
Учитель дружески улыбнулся, и от этой улыбки напряжение спало, послышались тихие вздохи облегчения. Руки, скрещенные на груди, опускались, но дети еще не сводили с него глаз.
Но они уже были перед ним, словно открытая книга, и он знал, кто из них будет опорой, кому он будет радоваться, приходя на урок. Он подумал, что природа не выбирает, кого и где одарить умом и талантом; ум и талант забредают в самые заброшенные села, отличают детей, которые живут в провинции, посещают семьи, где жизнь проходит в невежестве и нищете, пробуждая надежды в сердце матери и учителя.
— Достаньте книги для чтения! — сказал он в третьем классе и почувствовал, что дети разочарованы; они явно ожидали от него чего-то особенного, чего не делали учителя до него. Он упрекнул себя, что слишком быстро вернул их к действительности и напомнил им, что они в школе. — Давайте прочтем стихотворение «Осень».
— Мы и с Чичей его читали.
— Вы-то читали, а я не читал с тех пор, как сам учился в третьем классе.
Почти все поверили этому и уже усердно искали нужную страницу. Только какой-то долговязый паренек, на вид постарше других, спросил:
— Разве и тогда были такие же хрестоматии?
Ребята замерли: в самом деле, неужели и тогда были точно такие же книги?
— Не такой уж я старый! — как ни в чем не бывало улыбнулся Яковлевич, будто не замечая того, что мальчик заставил весь класс усомниться в его словах.
Все доброжелательно засмеялись, двенадцатилетним ребятам он в свои двадцать семь лет все-таки казался довольно старым, а высокий мальчик после неудачного вопроса сел, опустив голову.
В младших классах учеников больше всего забавляло произношение нового учителя. Он как-то по-особому ставил в словах ударения, не так, как это делали они и их домашние, да и все в городе, а гласные он растягивал, поэтому казалось, что он чуть напевает. Уже на первом уроке более музыкальные девочки начали перенимать его манеру чтения, что вызывало удивление и ревность других. Один болтунишка признался, что в школе он, пожалуй, согласился бы так говорить, но в других местах постеснялся бы. Чича был их земляком, и хотя он говорил правильно, гласные у него не были такими долгими; речь других учителей тоже приобрела черты местного произношения. Кроме того, к ней уже привыкли, и она не обращала на себя внимания.
После урока каждый класс провожал его до учительской, по дороге засыпая самыми разнообразными вопросами.
— Вы женаты? — поинтересовался еще в первый день один мальчонка.
Он был такой маленький, глаза у него смотрели так ясно, и улыбался он так наивно, что учитель взял его под мышки, поднял вверх и ответил совсем тихо:
— Еще нет!
Тогда все разбежались, передавая новость один другому. Особенно старались девочки:
— Не женат, не женат!
И в седьмом классе, где учились Дивна и Станица, он сразу почувствовал себя легко и свободно: у одного из ребят в живых карих глазах засиял свет, другой гордо поднял голову, лицо третьего просветлело, блеснуло несколько дружелюбных улыбок. За партой у стены он увидел мальчика, лицо которого напомнило ему лицо женщины, развешивавшей простыни во дворе, — тот же задумчивый, обращенный в себя взгляд, те же красивые волосы и глаза. Рядом сидел толстощекий румяный парнишка с добродушным и в то же время озорным лицом. И так по порядку: семь зеленых парт, за каждой трое мальчишек, и у окна столько же парт, за которыми сидят девочки. Среди них внимание его сразу привлекла Станица, скуластая, как все горцы, с высоким лбом и тонким, резко очерченным лицом. Она выглядела старше остальных, было видно, что девушка знакома с жизнью и людьми не только по учебникам.
В этом классе тоже все были взволнованы и тоже ожидали от него чего-то совершенно нового. Ребята о чем-то переговаривались взглядами. И, прежде чем Яковлевич успел что-либо сделать или сказать, встал паренек в суконных штанах и в джемпере из домашней шерсти, выкрашенной листьями айвы. Он недавно подстригся, на лоб падал каштановый чуб. Держался он заносчиво. Оглядываясь на парту за своей спиной, где, вероятно, сидело подкрепление, он спросил:
— А вы разрешаете обо всем спрашивать вас, господин учитель?
— На уроках только о том, что имеет к ним отношение...
Учитель еще не закончил фразы, как паренек (это был Стоян) победоносно посмотрел на ребят, сидевших возле задумчивого Слободана и толстощекого Лазы.
— Но на перемене вы можете спрашивать меня о чем угодно, как любого другого человека, даже еще свободнее и с большим правом, — закончил он фразу и заметил, что теперь ликуют ребята, сидящие около Слободана.
— А могут ученики и учителя быть товарищами? — спросил Никола, по-солдатски вскакивая из-за парты.
Все напряженно ожидали ответа учителя и жадно смотрели ему в глаза, а когда он ответил, что могут, снова ликовала группа возле юноши с синими задумчивыми глазами. Вопросы сыпались до самого конца урока, и он отвечал. Дивна печально и ревниво думала о том, что ее отцу не отваживались задавать столько вопросов, а если и отваживались, то отец говорил, что они, наверное, хотят увильнуть от урока. Она еще больше опечалилась, заметив, что новый учитель нравится и тем ребятам, которые уверяли, будто между учениками и учителем не может быть дружбы. Она и сама решилась спросить о том, о чем никогда не посмела бы спросить отца. И остальные задавали необычные, давно наболевшие вопросы, которые зачастую были совершенно не связаны ни со школой, ни с литературой.
А учитель ходил между партами, заглядывал ребятам в глаза, ненароком бросал взгляд то в одну, то в другую тетрадку, подмечал кое-что, не имеющее отношение к учению. Перед длиннолицей, черноволосой Милицей лежал листок бумаги, на нем пять-шесть раз повторялся профиль, показавшийся ему знакомым. Девочка, покраснев, сразу убрала листок. «Маленькая любовная тайна, — подумал он, — наверное, неведомая даже тому, кого она касается». А когда он снова подошел к доске и взгляд его упал на Николу, он не мог удержаться от улыбки, настолько удачно были схвачены в рисунке Милицы тонкий нос Николы, линия его лба и затылка. И сколько же таких тайн только в одном этом классе, сколько завязей будущих больших страстей! Сколько извилинок в мозгу, в которых через несколько лет родятся глубокие мысли! Сколько царапин в сердцах! Ему показалось, что он попал в молодой буйный человеческий питомник; характер деревьев уже можно угадать по листьям и стволу, но полностью он проявится только тогда, когда они расцветут, войдут в полную силу, когда они станут приносить плоды.
После урока семиклассники, как и малыши, окружили учителя. Станица, державшаяся со всеми учителями свободно и дружески, подошла вместе с другими ребятами и спросила:
— Вы довольны квартирой, господин учитель? Если вам что-нибудь понадобится, мы с ребятами сделаем. А если что-нибудь по хозяйству, моя мама поможет.
Станица могла предложить услуги каждому преподавателю, и ни он, ни ученики никогда не подумали бы, что она подлизывается. Ученье давалось ей легко, — она умела и думать и запоминать, а что касается истории или литературы, то здесь у нее были уже и свои взгляды. И все же кое-кто позавидовал свободе, с которой она разговаривала с новым учителем, а кое-кто пожалел, что у него самого не хватило на это смелости. Ольга Попович чуть не оттолкнула ее локтем и сказала:
— И моя мама вам поможет, если что-нибудь нужно! — И, обернувшись к Зоре, прибавила тише, но так, чтобы он мог услышать: — Какой душка!
— А моя мама уже помогла ему: нашла квартиру, — пропел Ольгиным голосом Никола, когда учитель отошел, и острое лицо юноши сделалось еще острее.
Ученики шли по коридору возбужденные, как после контрольной или после раздачи табелей, и тихо, чтобы не слышала Дивна, делились впечатлениями. Для них этот день был особенный; с новым учителем, думалось им, в школе станет интереснее и радостней. Более любознательные, те, кто жаждал широты, ожидали, что он откроет перед ними неведомые раньше горизонты красоты и мысли, а более пассивные, у которых не было особой тяги к знаниям, надеялись, что приход нового учителя принесет им практическую пользу, освободит от поручения, данного старым учителем, поможет исправить отметку. Каждому хотелось высказать суждение о новом учителе; одним он казался добрым, другим — строгим, третьим — остроумным, четвертым — серьезным; пророчили, что он будет им другом и защитником; пытались угадать его политические убеждения.
— Он примет нашу сторону, — победоносно шептала Ольга Зоре и Анке.
— Дуреха, откуда ты взяла! — вспыхнул чем-то расстроенный Никола.
— По костюму видно, коммунисты так не одеваются.
— Верный признак, ничего не скажешь! — с издевкой заметил юноша.
Лиляну и ее ближайшую подружку, дочь врача, Любицу, не занимало, на чьей стороне будет Яковлевич. По их мнению, учитель, как король в государстве, обязан быть вне партий. Конечно, как у каждого человека, у него есть свои симпатии, но учеников это не должно касаться, и девочки были уверены, что новый учитель свои убеждения будет держать при себе. Но, уже приписывая ему эту особенность, они считали его скорее подобным себе, чем тем из своих товарищей, которые стремились навязать свои мысли и чувства другим. Окруженные кучкой своих сторонниц, подруги пошли по коридору, не вступая в разговоры с остальными. «У кого есть в голове знания, тот хозяин мира, без него не обойдутся ни правые, ни левые, ни король, ни президент», — думали они. А у них были знания, и поэтому они были спокойны.
— Надо хорошо учиться, и тогда все равно, кто учитель, — сказала Лиляна, а Любица добавила, что для нее и Чича был хорош и вообще в каждом учителе есть что-то хорошее.
Из третьего класса, расположенного в конце коридора, вышла новая учительница географии и удивилась, увидев Яковлевича, дружелюбно разговаривавшего с двумя старшеклассниками.
— Знаете, этот высокий мальчик говорит, что здесь неплохая рыбалка и прекрасные луга у реки, — сказал он, подходя к ней, — обещал показать места.
— Мне кажется, что с учениками не следует иметь никаких отношений за стенами школы. Не хватало еще, чтобы мы пошли с ними на рыбалку!
— Милый мой свежеиспеченный педагог, к ученикам надо относиться так же, как к другим людям, коллегам или друзьям, это во-первых. А во-вторых, я ведь не сказал, что мы пойдем с ними на рыбалку, просто они покажут нам хорошие места.
Девушка с сомнением покачала головой и отказалась спуститься вместе с ребятами во двор. Увидев, как это огорчило Ненада, она согласилась подойти к окну, чтобы оттуда посмотреть, что делается на посыпанном гравием дворе. Яковлевич быстро нашел взглядом знакомых ребят, которых он уже видел на уроках. Вот разговаривают серьезный восьмиклассник и девушка; вот прыгает мальчуган, который спрашивал, женат ли учитель; а там — шестиклассник, неравнодушный к датам; вон добродушный румяный паренек, он, видно, ухаживает за восьмиклассницей Эмилией. Ее имя учитель сразу запомнил, девушка привлекла его внимание каким-то особым сплавом мягкости и решительности.
Снизу среди криков малышей: «Лови, не давай! Держи карман шире, растяпа!» — послышалось звонкое: «Мара любит Перу! Мара любит Перу!» Девчонка, разозленная, словно оса, колотила по спине мальчишку. Вдруг из шума вырвался ясный юношеский голос:
— Лаза любит Эмилию!
Круглощекий Лаза погнался за насмешником и растянулся во весь рост.
— Эмилия, неси скорей бинты, из-за тебя человек чуть не погиб!
Но тут ребята увидели стоящих у окна учителей и стали махать им. Девушка вздрогнула и отступила в глубину комнаты, упрекая Яковлевича, что это он спровоцировал ребят на такую вольность. А он, не слушая ее, шутливо заметил: да, они поступили весьма разумно, отойдя от окна, иначе ученики начали бы кричать: «Учитель сербского любит учительницу географии». И Вера снова превратилась в девушку, спящую сном, в котором все видишь и все слышишь.
ПЛАН ЗОРЫ
Дивна молча и ревниво наблюдала, в какое возбуждение приходят ребята перед уроками нового учителя. Раньше такого не бывало даже перед контрольной. Когда вчера вечером отец спросил ее, понравился ли им Яковлевич, она ни словом не обмолвилась о волнении, которое охватывало перед началом его урока и хороших и плохих учеников, и сказала только, что похоже, он будет добрым; на это Чича тут же пообещал посоветовать своему преемнику не давать им слишком много воли. Дивна скрыла от отца, что ребятам нравится, как одет новый учитель, нравится, что он всегда выбрит, утаила она и то, что произношение у него не такое, как у них: Чича, который сам был родом из Восточной Сербии, как и все, переносил ударение к концу слова. Она промолчала, что новый учитель во время урока стоит или ходит между рядами, и это тоже ученикам нравится, что ему без крика удается быть строже, чем Чича, что он больше внимания уделяет произведениям писателя, чем его биографии, что урок проводит словно беседу.
У Дивны было такое впечатление, будто теперь ученики ходят в школу принарядившись, девочки на халатики надевают кружевные воротнички, из кармашков выглядывают платочки, мальчишки словно каждый день стригутся, кое-кто первый раз в жизни повязал галстук. Момчило выбросил из карманов камни, Лаза заботится о своих ногтях, ребята из деревни, раньше носившие опанки [Опанки — национальная кожаная обувь типа постолов (сербо-хорв.).], стали приходить в ботинках. Ольга, дежурившая последнюю неделю, вообще сняла школьный халатик и встречает Яковлевича, стоя у доски, хотя он, когда его назначили к ним классным наставником, сказал, чтобы все, в том числе и дежурные, сидели на своих местах и чтобы все носили школьную форму.
Первые уроки новый учитель знакомился с учениками. Он рассказывал о поэзии, и ребятам представлялось, что они не на уроке, а на заседании Литературного общества. Они с готовностью поднимали руки, всем хотелось прочесть какое-нибудь стихотворение Якшича [Джюра Якшич (1832—1878) — известный сербский поэт.]. До сих пор уроки литературы, казалось им, вовсе не оправдывали свое название, хотя Чича тоже советовал побольше читать и радовался, если кто-нибудь знал стихотворение наизусть. Но Яковлевич умел слушать их чтение с особым удовольствием, словно на концерте; некоторые стихи требовал повторить, делал вид, будто какое-то стихотворение забыл, а они ему напомнили.
Девочки торжествовали. Они знали гораздо больше стихов, чем мальчишки, и лучше читали их. Даже те, что учились похуже, часто поднимали руку и производили впечатление хороших учениц. И лишь несколько человек, среди них Дивна, Любица, Станица и Лиляна, не рвались показать свои таланты, милостиво уступая дорогу тем, которые только в этом и могли себя проявить.
— Что-то наша звезда декламации, Лиляна, молчит, — заметил Лаза вполголоса, — видно, хочет остаться на закуску.
Яковлевич вопросительно взглянул в сторону девочек, и Лиляна встала довольная, что Лаза помог ей. Она попросила разрешения прочесть «Голубую гробницу» [Стихотворение «Голубая гробница» сербского поэта Милутина Боича (1892—1917) посвящено гибели многих тысяч сербских солдат во время первой мировой войны.]. Мальчики обычно смеялись, когда, читая или декламируя, девочки давали волю чувствам, но сейчас и содержание стихотворения, и проникновенное чтение Лиляны захватило даже их; время от времени они поглядывали на учителя, словно говоря: «Видите, какой талант у нас в классе!» Когда Лиляна кончила, один из мальчиков приподнялся и сказал, вероятно желая объяснить, почему Лиляна так хорошо прочла это стихотворение, а может, и для того, чтобы несколько умалить ее успех:
— У нее отец полковник, он каждый вечер заставляет ее читать это стихотворение, он в той войне участвовал.
Кто засмеялся, кто назвал его болтуном, но после этого замечания все почувствовали себя еще свободнее, так как увидели, что все их слова и поступки воспринимались учителем как вполне естественные. И наперебой стали называть хороших чтецов. Когда трижды выкрикнули имя Любицы и учитель опять окинул взглядом парты, пытаясь угадать ее среди двадцати учениц, поднялась крепкая, жизнерадостная девушка, в черном халатике с ослепительно белым накрахмаленным воротничком. Заявив, что она знает больше стихов Дучича [Йован Дучич (1871—1943) — известный сербский поэт.], чем Якшича, которого они должны были начать изучать и которого поэтому Яковлевич прежде всего и хотел слышать, она прочла мало соответствующее ее весеннему виду стихотворение Дучича «Ива».
— Любица всегда выбирает изысканных поэтов, — объяснил Лаза, который вел себя уже совсем как на заседании Литературного общества.
Ольга Попович сидела с надутым видом, она чувствовала себя совершенно несчастной: ей нечем было похвалиться, приходилось сконфуженно молчать, к тому же новый учитель даже не замечал ее нарядного платья. Зора, которая во всем ей подражала, тоже сидела с надутой и обиженной физиономией, хотя на самом деле сгорала от желания поднять руку и выложить хотя бы то немногое, что она знала, тем более что подбадривающий взгляд учителя несколько раз падал и на нее.
Находясь под сильным влиянием Ольги, да еще и ослепленная могуществом, которое приписывали в городе Поповичу, Зора первые дни тоже пыталась влюбиться в нового учителя. Но она была менее зрелой и более простодушной, чем подруга, и в конце концов удовлетворилась ролью наперсницы, утешая Ольгу, когда та жаловалась, что учитель больше любит Дивну, Станицу, Елену и даже Анку. С тех пор как появился Яковлевич и Ольга призналась подруге, что влюблена в него, девушки так сблизились, что почти не расставались, целые дни бегали друг к другу, а матерей обманывали, говоря им, что они вместе делают уроки. После звонка Зора вместо Ольги выглядывала в коридор — посмотреть, не идет ли учитель; делала она это якобы для того, чтобы ребята не заметили Ольгиной влюбленности; на самом же деле Ольге ужасно хотелось, чтобы класс всерьез поверил в ее любовь; если она не могла блеснуть в чтении стихов, так, может быть, хоть это возвысит ее в глазах ребят. Глядя, как она шепчется с Зорой, прижимая к сердцу пухлую ладошку, Никола с издевкой говорил:
— И чего ломаешься, притвора! Разве ты знаешь, что такое любовь?
— Ах, он душка!
— А когда спрашивает тебя стихи, тоже душка?
Подружки убегали в глубь двора. Ольга опять прикладывала ладошку к сердцу и затягивала белый ремешок на новехоньком черном атласном халатике, а Зора точно так же затягивала свой простенький ремешок и тоже прикладывала руку к сердцу, только у нее это получалось еще более неестественно, чем у Ольги.
— Я ужасно влюблена, — в десятый раз повторяла Ольга, ожидая, что Зора будет восхищаться силой ее чувства.
Но Зора гораздо больше восхищалась теми привилегиями, которыми Ольга пользовалась в школе и к которым она относила и ее влюбленность. Тем не менее она утешала ее, утверждая, что молодой учитель ни на кого не смотрит, даже на Станицу, что Станица всегда плохо одета и у нее большие мужские руки. Правда, избалованной Ольге не угодишь: на каждое слово Зоры она капризно топала ножкой.
— Но она хорошо учится! Ух, с тех пор как пришел Яковлевич, я ненавижу ее за то, что она знает много стихов!
И Зора беспомощно умолкала. Станица действительно хорошо учится, а какая она красивая, когда читает стихи! Но этого Зора никогда бы не сказала Ольге. И однажды, снова попав в безвыходное положение, Зора набрела на счастливую мысль. Все в городе, в том числе и отец Зоры, говорили, что Ольгин отец всемогущ. Ведь вот заставил же он всех учителей смотреть сквозь пальцы на то, что Ольга, не болея, пропускает уроки и в это время ходит на танцы; добивается же он того, что дочь вызывают в самом конце четверти, когда уже никого не спрашивают.
— Знаешь что! — воскликнула Зора радостно. — Скажи папе, что тебе не дается сербский, пусть он возьмет тебе нового учителя в репетиторы. Твой папа это устроит.
Ольга сначала было оживилась, но тут же ее взяло сомнение, возьмется ли учитель за репетиторство. Однако Зора уверяла ее, что возьмется — ведь учителя бедные, и с жаром расписывала подруге, как здорово будет, когда он станет приходить к ним домой. Дома она может одеваться, как ей захочется, и учитель обязательно влюбится в нее. При этом Зора все время держала руку на сердце, полагая, что от этого ее слова звучат убедительнее.
Так они дошли до Ольгиного дома, то держась за руки, то прижимая их к груди. На прощание Зора посоветовала ей хорошенько поплакать, когда она станет упрашивать отца, но об этом Ольге можно было и не напоминать, она всегда так поступала, когда ей надо было разжалобить отца.
РЕПЕТИТОР
Предложение Зоры, подстегнув воображение Ольги, еще больше разожгло в ней тщеславие. Ольга принялась строить планы. Она даже легла пораньше, чтобы на свободе хорошенько поразмыслить. Ольга уже, казалось, видела Яковлевича в своем доме. Заниматься они станут в гостиной. Мама побудет с ними несколько минут и уйдет, чтобы не мешать, а к концу урока принесет кофе и варенье на большом серебряном подносе, который они купили у русских эмигрантов. И мама, конечно, расскажет, что этот поднос принадлежал одному великому князю, мама знает даже его имя. Ольге вдруг представилось, что этот князь приходится ей дядей и что это возвысит ее в глазах учителя.
Старинные стенные часы, тоже купленные у русских эмигрантов, пробили двенадцать, а она еще не спала. И часы принадлежали, по словам папы, какому-то важному-преважному семейству, и девушка думала, что, благодаря этим часам, мама, папа и она сама породнились с тем семейством. Подобно своему папе, она верила, что деньги все могут. И почему бы, в таком случае, нескольким тысячам, отданным за драгоценные часы, не породнить их семью с прежними владельцами? Да, а вдруг Яковлевич спросит: «А где у тебя книжный шкаф? Покажи, какие у тебя есть поэты!»
Этот вопрос возмутил ее, но она знала, что учитель непременно его задаст. Впрочем, папа это быстро уладит. Она завтра же скажет, чтобы он купил русских писателей в голубых обложках. Так красиво, когда в шкафу стоят книги в одинаковых переплетах. Потом пусть он еще купит какие-нибудь красивые книги. Иностранные романы, правда, красивее, но раньше надо купить переплетенных в красную кожу сербских писателей, потому что старые, без переплетов, которые у них есть, не имеют никакого вида. А серия «Литературной задруги» у них, к счастью, есть, и в ней несколько сборников стихов. Придется немало потратить времени, чтобы подчеркнуть в них строки, которые ей якобы понравились. Да, это будет работка!
А мама пусть уберет из горки весь хрусталь и поставит туда книги. Слишком дорого обойдется покупать сейчас и новый шкаф. Господин учитель только спросит, есть ли у них Ракич [Милан Ракич (1876—1938) — известный сербский поэт.] или Змай [Йован Йованович-Змай — известный сербский поэт (1833—1904).], она подойдет к горке и вытащит их. Мама, конечно, найдет повод на первом же уроке рассказать, будто у них столько книг, что приходится держать их даже в горке, и что дочь скоро разорит их — столько она тратит денег на стихи и романы. И Станица лопнет от зависти, когда Ольга скажет ей:
— Вчера я с Яковлевичем читала Якшича. Сначала читает господин учитель, а потом я. И уже на втором уроке он мне сказал, что если так и дальше дело пойдет, то пятерка мне обеспечена.
Стенные часы пробили час. Какой красивый бой у этих старинных часов! Как только часы пробьют конец урока, она скажет Яковлевичу:
— Господин учитель, прошел час!
И он ответит:
— А я и не заметил. Как быстро пролетело время!
Ох, и удивятся ребята, когда она им расскажет! Каждую перемену они будут собираться вокруг нее, чтобы узнать, как у них с учителем прошел урок.
Через несколько дней к концу урока заглянет папа и спросит:
— Ну, как тут моя баловница?
И не успеет учитель ответить, как папа расскажет ему то, что рассказывает всем: как она еще совсем маленькой учила французский язык и как произносила носовые звуки лучше учительницы.
— У нее, вы знаете, ни «ен», ни «ан», а «он», — скажет папа. — А носовые во французском, как вы знаете, самая важная вещь. И что еще удивительно, — прибавит папа, он это тоже всем говорит, — у нее одновременно способности и к языкам и к математике, к настоящей, конечно. Вот только в алгебре она немного спотыкается, потому что алгебра вся состоит из символов, говоришь 2а плюс 3в, а имеешь в виду два яблока и три груши, тут Ольга не сразу соображает, она вся в меня, реалистка.
И хотя Ольга одобряла все, что делал отец, ей всегда было стыдно, когда он говорил это другим; но господину учителю пусть скажет. Яковлевич улыбнется и подумает, что отец ее перехваливает, пусть, это даже неплохо. Только бы он никогда не пришел на урок французского или математики. Вдруг Жанетта как раз и набросится на нее:
— Что случилось с твоими хвалеными носовыми после шести лет занятий! Это тебе не сербское «ен» в слове «хрен»! Немногим же мы можем похвастаться перед классным наставником!
Господин учитель улыбнется, вспомнив, что ему рассказывал папа, а ребята будут готовы испепелить ее за то, что она позорит класс и Жанетту, которая приходила в совершенное отчаяние даже тогда, когда они плохо отвечали при Чиче.
Когда на русских стенных часах пробило два, Ольга представила себе, как Яковлевич стоит посреди класса и говорит ей:
— Вы выбрали очень удачное стихотворение... Хватит Якшича-патриота, пора познакомиться теперь и с Якшичем-лириком.
Так мешались в полусне ученическое честолюбие и неясные девичьи стремления. Из соседней комнаты доносился храп, он заглушал даже тиканье часов, которое после полуночи кажется пугающе громким. В этом неудержимом храпе Ольга видела проявление отцовского всесилия и властолюбия, равнодушия ко всему, кроме собственного глубокого сна, ее возмущало, как отец может спать, когда она от забот потеряла сон.
Наутро исчезли ночная самоуверенность и надежда на то, что Яковлевич согласится стать ее репетитором. Ольга не выспалась и, поняв, что ей грозит двойка, если она не познакомится поближе с поэтами, непритворно расплакалась. Видя, как она рыдает, положив голову на стол, Попович подошел, поднял ее подбородок указательным пальцем правой руки и вопросительно взглянул на нее.
— Новый учитель поставит мне двойку.
— Ну конечно, как новый преподаватель, так методы новые и оценки новые!
Она поняла, что отец уже на ее стороне. Когда в первый день дочь пришла из школы и рассказала, как ребята засыпали вопросами нового учителя и как он им отвечал, Поповичу педагог сразу не понравился и показался подозрительным. Он почувствовал, что учитель враждебно относится к тому, что было дорого ему, Поповичу. Очень хорошо, что он добрый и не применяет старинных наказаний, которые любят некоторые преподаватели, но считать, будто между учениками и учителем могут быть товарищеские отношения, нет, это не годится.
— И вообще он любит, чтоб больше читали, а не зубрили, — жаловалась Ольга.
— Ну, это детка, по крайней мере, не трудно. Если бы у меня было время, я не желал бы ничего другого.
Потом, вспомнив, что она говорила ему раньше, Попович подумал: «Вот и верь детям —прежде она жаловалась на Чичу: ему, мол, главное, вызубрить урок».
— Но он требует не просто читать, а еще и разбирать прочитанное, — продолжала Ольга.
Думая о том, что она жаловалась и на Чичу, Попович сказал нетерпеливо и сердито:
— Теперь уж, детка, я и не знаю, как нам быть!
Испугавшись, что отец прекратит на этом разговор, она подбежала к нему и, уткнувшись головой ему в плечо, попросила:
— Папочка, уговори нового учителя заниматься со мной, он лучше всех знает свои требования.
Попович разжалобился, увидев, какая дочка бледная, заплаканная и томная, залюбовался ее пухлыми ладошками, которые так походили на его собственные ладони, ее хрупкой фигуркой и пообещал, правда только для того, чтобы успокоить ее, поговорить с учителем.
— А когда, папочка?
— Такие вещи, детка, одним махом не делаются. Дня через два. — Он опять раздраженно повысил голос.
Когда отец ушел, Ольга, совершенно счастливая, взяла стихотворения Джюры Якшича и стала читать вслух: «Падайте, братья, в крови плывите! Села оставьте, жгите костер! И детей в него побросайте! Рабство тряхните и смойте позор!» «Вот это да, — думала она, — а отец читал когда-нибудь Якшича? Вряд ли. Он предпочел бы, чтобы я лучше получила двойку, чем восхищалась таким поэтом». Она вполне была согласна с отцом, когда он однажды сказал, что погибать глупо, что народы, которые идут иной раз и на унижение, чтобы сохранить жизнь, умнее безумных сербов — так Попович всегда называл своих соотечественников. Если бы только отец увидел эту строчку: «И детей в него побросайте!» — плохо бы пришлось Джюре. Отец согласился бы на какое угодно рабство, только бы меня, сохрани боже, не бросать в огонь. Чича, помнится, как-то рассказывал, будто власти преследовали Джюру Якшича — а как же иначе, раз он писал такие стихи в то время, когда правительству, может быть, вовсе и не хотелось воевать. При одной мысли о правительстве Ольга разволновалась, совсем как ее отец; правительство охраняло такую жизнь, какую любили и она и отец. И подумать только, кому угрожал этот Якшич! Девочка почувствовала к поэту неприязнь, словно он был политическим противником отца. «Может, ты дойдешь до этих кряжей, до твердыни этой, даже ступишь здесь ногой поганой, но дерзнешь ли дальше?» — прочла она и опять вспомнила слова отца, что глупо поступают поляки, дразня такую великую державу, как Германия. И если уж надо выучить какое-нибудь стихотворение Якшича, она выучит вот это: «Сквозь гибких веток переплетенье...» — и посмотрим, что скажет на это господин учитель. Здесь нет никакой политики, никаких угроз. Пусть Станица любит «Родину», она, Ольга, назло ей будет любить именно это стихотворение и другие любовные стихи, это гораздо больше пристало девушке.
«СВЕТ»
«Свет!», «Свет!» — кричали семиклассники и восьмиклассники, вбегая с пачками журналов в класс, где происходили заседания Литературного общества, за ними мчались радостно галдящие ученики младших классов.
Для них было особым удовольствием смотреть, как распаковывают почту, но старшие ребята их не пустили. Мальчишки остались в коридоре, дожидаясь, пока журнал начнут раздавать подписчикам, и время от времени нетерпеливо барабанили в дверь. Здесь тоже установилась своеобразная иерархия.
— Давай отсюда, карапуз, мы из пятого!
— Подумаешь! А я из третьего! Если вам тесно, гоните первоклашек. Эй, вы, там, выходите. Я тоже подписывался.
Но из комнаты не доносилось ни звука, и поэт-пятиклассник опять заколотил в дверь и крикнул:
— Успеете свое прочитать. Может быть, кого-нибудь и с этой стороны напечатали.
В глубине коридора показался Никола. Ему было неудобно кидаться сломя голову за номером и тем самым показывать, как ему не терпится узнать судьбу своего рассказа, поэтому он только, проходя мимо класса, подзадорил младших:
— Навались, народ! Кричите: «Долой диктатуру Литературного общества!»
Но мальчишки не собирались отстаивать чужие интересы. Пусть этот семиклассник, если ему надо, кричит, что хочет, а им надо, чтобы поживей открыли дверь и раздали журнал. Поэт из пятого класса, новоиспеченный член Литературного общества, надеялся увидеть в журнале свое стихотворение. Ведь Станица похвалила и язык, и тему его стихов, а она не очень-то снисходительна. Он собственными ушами слышал, как она сказала одной семикласснице, что ее стихи никуда не годятся, а парню, который сейчас прошел мимо, сказала, что он шовинист и что «Свет» не возьмет его рассказ.
— Ура! Идут! — завопили первоклашки. Они хоть и не понимали еще, что такое «Свет» и Литературное общество, но охотно изображали шумную толпу.
Из класса выбежали восьмиклассники и семиклассники, держа журналы над головой, словно боялись, что их у них отнимут. У Станицы было еще семь номеров, и она пошла разносить их по классам. Маленький пятиклассник побежал за ней и попросил свой номер. Орава карапузов тоже чего-то требовала, но чего — они и сами не знали.
— Твое стихотворение напечатано, — обрадовала Станица пятиклассника, протягивая ему номер.
— Держись, не упади в обморок! — кричали ему товарищи, вырывая у него журнал.
Никола тоже взял свой номер и, не заглянув в него, сунул в парту. Разочароваться всегда успеешь, по лицу Станицы он понял, что рассказ не опубликован; его грызло сожаление: зачем он настоял на том, чтобы рассказ послали в Белград, ведь теперь Станица может сказать: «Вот, не только я считаю, что ты шовинист, главная редакция тоже не принимает такие вещи». Все-таки в середине урока он заглянул под партой в оглавление. Конечно, его имени нет. Понятно, будь в Белграде другие люди, они не назначили бы Станицу своим уполномоченным и не поручили бы ей отбирать работы. В нем вспыхнула непреодолимая ненависть к Станице, и не столько потому, что она не захотела принять его рассказ, сколько потому, что она была уверена — и другие его не возьмут.
И не один Никола, все, кто получил журнал и мечтал быть там напечатанным, не слушали урока, а занимались тем, что разрезали листы и читали под партой. И раньше, до прихода Яковлевича, тоже так бывало; в школе всегда больше ценили поэтов, чем отличников и заводил. Но с появлением нового учителя, после того как он оживил работу Литературного общества, а на уроках особенно много внимания стал уделять поэзии, желающих попробовать свои силы в «Свете», или на заседаниях Общества стало гораздо больше. И когда какой-нибудь класс вдруг получал больше двоек, чем обычно, учителя шутили, что это случилось потому, что теперь уже никто не решает задачи и не учит естествознания, все пишут стихи. Шизик и математик говорили, что им придется основать Общество точных наук, и Яковлевич принял эту мысль с энтузиазмом:
— Может быть, вы и в самом деле откроете новую знаменитость в физике!
— Что значит молодость! — иронически заметил учитель истории. — Неужели вы полагаете, что такое общество можно организовать и оно может помочь, скажем, изучению математики?
Историк не любил ученических обществ. Он всегда опасался, что подлинные цели подобных обществ не совпадают с провозглашенными. Пока он никому еще ничего не говорил (удерживала врожденная осторожность), но был убежден, что новый учитель, поддерживая Литературное общество, в какой-то мере подстрекает учеников на всевозможные выходки, особенно в своем классе, где много ребят активно работает в Обществе. Это мнение особенно укрепилось в нем после того, как Яковлевич слишком мягко, на его взгляд, наказывал учеников, хотя в тех же случаях другой, более старый и опытный педагог, может быть, даже потребовал бы исключения из школы.
Ученики продолжали шуршать под партами, когда Вера, а это было на ее уроке, начала рассказывать о валашских поселениях в Гомоле, но, спохватившись, что надо привлечь к работе весь класс, принялась вызывать одного ученика за другим. Она еще мало кого знала по фамилиям, и поэтому пострадали те, чьи имена она запомнила, среди них оказался и Никола.
— Скажите, Никола, кто писал о гомольских валахах?
Никола, поглощенный собственными мыслями и делами, поднялся с полной растерянностью на лице.
— Он сейчас знает только о том, кто писал о сербе, который попросил в Загребе хлеба, а не круха [Имеются в виду диалектальные различия в сербо-хорватском языке. Хорваты называют хлеб крухом (у сербов — хлеб).], — заметил Лаза.
Весь класс засмеялся, а Вера, всегда считавшая, что смеются над ней, сразу насторожилась и углубилась в журнал, будто хотела кого-то вызвать или что-то записать.
— Хорошие же вы сербы! — зашипел на товарищей Никола.
— А что? Может быть, ты себя считаешь их единственным представителем? — пробурчал огненно-рыжий Чедомир. — Слишком высоко себя ставишь!
Вера заволновалась. Не в силах разобраться, над чем смеются ученики и о чем спорят, она решила начать опрос. «Лучшее средство успокоить учеников», — подумала она.
Вызвать Станицу? Нет, ее нельзя. Всегда внимательная, на сей раз Станица с отсутствующим видом разглядывает под партой какой-то журнал. Станице было неприятно, что Никола, обидевшись из-за рассказа, не смотрит на нее. А ведь еще два года назад они дружили, вместе решали задачи, ценили друг в друге ум и способности. Но сейчас политика и литература, и особенно литература, кажется, поссорят их. И не один Никола стал держаться враждебно. Ольга до последнего времени тоже льнула к Станице, заискивала перед ней, может быть, даже любила ее. Но, с тех пор как и ей пришло в голову писать стихи — Никола считает их хорошими и утверждает, что Станице они не нравятся только потому, что они патриотичны, — Ольга тоже держится по отношению к Станице враждебно. По крайней мере, Станица приписывала перемену в их настроении только этому. И разве втолкуешь упрямому и болезненно самолюбивому Николе, что ей тоже неприятно, что его рассказ не напечатали. Разве докажешь ему, что и ей не по душе поступок загребского пекаря, который не захотел продать хлеб сербу потому, что он попросил хлеба, а не круха. Разве, поверит он, что его рассказ и стихотворение Ольги она не хотела принимать по совершенно разным причинам?
В других классах за время урока тоже прочли «Свет» и на перемене Станицу, словно редактора какого-нибудь взрослого журнала, встретили обиженные взгляды, язвительные вопросы и упреки. Дети, которые постепенно превращались во взрослых людей, обладали в зародыше всеми достоинствами и недостатками взрослого мира: в них было и тщеславие, и мстительность, и пристрастность, и несправедливость, но в то же время и самоотверженность, и энтузиазм.
Как всегда после прихода «Света», на дворе и в коридорах все разговоры велись вокруг литературных дел. Авторское тщеславие и зависть оказывались более сильной причиной для раздоров, чем то, что в некоторых классах называли политикой. Начинающий литератор не терял спокойствия, если ему говорили, что кто-то лучше учится или у кого-то более передовые взгляды, но немедленно выходил из себя, когда слышал, что у кого-то более талантливые стихи, чем у него. Ольга болтала, будто Станица одну себя считает умной и талантливой, и с жаром уверяла, что стихотворение девочки из Ниша гораздо хуже того, которое Станица не приняла у нее. Никола тоже, конечно, думал, что напечатанные рассказы хуже его рассказа, но у него, по крайней мере, хватало и гордости и сообразительности никому об этом не говорить.
Тощий восьмиклассник разглагольствовал на весь двор, что стихи могут быть неграмотными, и все же их с большим правом можно назвать стихами, чем иные вполне грамотные вирши; его иронически настроенный собеседник, лучший математик класса, соглашался: все, мол, на свете бывает. Группа девочек агитировала за любовную лирику, уверяя, что стихи о кузнецах, напечатанные в последнем номере «Света», не имеют никакого отношения к поэзии. Их тут же посрамили восьмиклассники, сказав, что надо дочитать до конца, ведь это перевод знаменитого стихотворения Жупанчича [Отон Жупанчич (1878—1949) — крупнейший словенский поэт.]. Две четвероклассницы с таким жаром спорили из-за поэзии, что даже вызвали снисходительные усмешки старших ребят.
Стоян заметил плохое настроение Николы и, шагая рядом с ним по гравию школьного двора, говорил:
— Не понимаю, чего все так хотят печататься! Я вот ни строчки не написал и ничего, живу!
— Ты что, утешать вздумал? — запальчиво оборвал его Никола.
— Очень мне надо тебя утешать — что у тебя, мать умерла, что ли? — стараясь казаться равнодушным, ответил Стоян и заговорил о другом.
А через несколько дней у Станицы опять был полный портфель работ для Общества и для «Света». Никола снова дружелюбно смотрел на нее и держался мягко и смущенно. Он принес новый рассказ и стихи Ольги.
— Опять Ольга? И ты это серьезно?
— Что поделаешь, дружба из политических соображений. — Никола снова впал в язвительный тон.
— Слушай, давай на этот раз ты отберешь работы, а знать об этом будем только мы с тобой. Но ты дай слово, что будешь отбирать по совести, а я обещаю согласиться с твоим выбором.
Глаза Николы сверкнули озорной радостью: вот бы здорово, но тут же потемнели, и он подозрительно глянул на Станицу:
— А что потом? Если я пропущу свой рассказ, то тем самым только докажу свое тщеславие, а не пропущу — так это тоже тебе на руку. Нет, меня не проведешь.
И он обиженно отошел от Станицы.
ПАПА ВСЕ УЛАДИТ
Попович несколько дней выжидал и не ходил к новому учителю: черт побери этих девчонок, кто знает, что скрывается за слезами Ольги и ее настойчивыми просьбами. Его беспокоило и то, что о Яковлевиче ходили в городе разные толки; говорили, что он вводит всякие новшества, уроки в младших классах превращает в игру, а со старшими занимается так, будто они взрослее, чем на самом деле. Рассказывали, что на уроках он только говорит и читает стихи и при этом так много рассуждает о произведениях писателей, будто думает, что все ученики готовятся стать литераторами. Эка невидаль, ты вот заставь учеников выдолбить даты и биографии, тогда посмотрим, будут ли они тебя любить.
Приходя домой, Попович часто рассказывал:
— Чего только не говорят об этом твоем Яковлевиче! Будто ученики ходят к нему домой и будто он разгуливает с ними по улицам!
— Он, папа, совсем не похож на наших старых учителей. Он говорит, что к ученикам надо относиться так, будто ты им старший брат или отец. Один раз на перемене он играл с нами в мяч, а Никола ему сказал, что он неправильно играет, и он не рассердился. Папа, ты спрашивал его, будет он со мной заниматься?
— А ты слышала, что он в восьмом классе дал тему для сочинения: «Что бы я сделал в нашем городе, если бы был председателем общины». Это уже затраги...
— Папа, — снова прервала его Ольга, — ребятам это очень понравилось. Все написали, что прежде всего заасфальтировали бы улицы, потом купили бы лодки и организовали общество гребли. В парке всюду бы поставили новые скамейки. Построили бы еще одну начальную школу и вечернюю. Вместо извозчиков завели бы автомобили, а Эмилия еще написала, что она построила бы дома для цыган. Папа, так ты спросил господина учителя, будет он со мной заниматься?
Как-то за обедом Попович сказал недоуменно:
— Мне уездный начальник рассказал, что этот ваш Яковлевич вчера ворвался к ним в дом, чтобы, как он выразился, посмотреть, в каких условиях живет Зора. Я что-то не помню...
— Совсем он не врывался, — опять обиженно перебила отца Ольга, — он нам сказал, что он всех постепенно обойдет, а не только бедных. Папа, поговоришь ты с ним наконец?
Поповичу пришлось уступить. На следующий день, встретив в кафане Яковлевича, он подошел к нему. Начал он с комплиментов: ему, мол, дочь рассказывала, что учитель держится с учениками как старший товарищ, даже в мяч с ними играет. Затем он перешел к своей просьбе, не преминув подчеркнуть, что это, конечно, все останется между ними, а уж они с женой сумеют его отблагодарить. Но едва он закрыл рот, как тут же раскаялся. По лицу Яковлевича Попович понял, что ничего не выйдет, и пошел на попятный. Конечно, он хорошо знает, что закон запрещает давать частные уроки своим ученикам, он вовсе не хотел обидеть господина учителя, но дочка, знаете, совсем ему голову заморочила: попроси, папа, да попроси!
— Возьмите ей в репетиторы кого-нибудь из сильных гимназистов.
Нет, согласиться на то, чтобы взять дочке в репетиторы какого-то там мальчишку-одноклассника, Попович не может. Он не раз слышал, что бывает между молодыми девушками и легкомысленными репетиторами, даже в какой-то комедии Нушича [Бранислав Нушич (1864—1938) — известный сербский комедиограф.] про это видел. Поэтому он робко заметил: Ольга, мол, уверяет, будто ей в силах помочь только один он, господин Яковлевич, поскольку у него свои методы преподавания и свои требования.
— Чепуха! Вы можете со спокойной душой пригласить к ней Йокича, а если не хотите его, попросите Станицу Лазич или еще кого-нибудь, Ольга и сама знает хороших учеников.
Попович выскочил из кафаны в бешенстве. Как он мог послушаться сопливой девчонки! А теперь выходит, что этот молокосос дал ему урок: он, видите ли, не желает делать противозаконные вещи! И хуже всего то, что теперь он вынужден взять Станицу или Йокича, раз учитель рекомендовал их.
В доме поднялся переполох. Ольга не хотела и слышать о Станице. Слободан тоже не очень ее радовал, но, раз учитель назвал его сам, она считала, что тройка ей будет обеспечена. Во-первых, Яковлевич будет знать, что у нее есть репетитор, а во-вторых, она надеялась, что Слободан будет писать за нее домашние задания. Ольга, как и ее родители, считала, что репетитора берут для того, чтобы исправить плохие отметки, а не для того, чтобы получить знания.
На юношу возлагали такие же надежды, как на какое-нибудь с трудом добытое, редкое лекарство, которое должно спасти больного. Теперь-то придет конец двойкам в четверти и слезам, кончатся муки с домашними уроками, исчезнет проблема, как читать и толковать стихи. Кроме того, Попович и его жена придавали особое значение тому, что был приглашен именно тот ученик, которого первым рекомендовал учитель.
Сразу после обеда мать говорила:
— Ольга, готовь книги, сейчас урок.
Матери очень нравилось, что Слободан молчалив и сдержан, но все же, пока шел урок, она постоянно вертелась в соседней комнате. Делала она это, правда, ненавязчиво: то ей надо было убрать в шкафу, то она работала у окна, где якобы было светлее всего, то делала вид, что простудилась, а в этой комнате, объясняла она, теплее. Как только проходил час, она напоминала, что пора кончать, сама удивляясь своей совестливости: не мучить же им бедного юношу, боже сохрани! Но, наблюдая за ним, она завидовала: вот ведь, родился в бедности, а в голове у него куда больше ума, чем у ее дочери, которая росла в холе и неге. Матери становилось неловко, когда она видела, как Ольга болтает и кокетничает, а юноша строго внушает ей: время идет, надо заниматься.
— Ну, как, стоящий у тебя репетитор? — спросил Попович Ольгу после третьего урока.
— Хороший, только не хочет писать за меня домашние задания.
— Как это не хочет! — взорвался отец, который надеялся, что избавился наконец от этой заботы. — Пусть тогда хоть объясняет, как писать.
— Он объясняет, а я все равно не могу.
Попович зашагал по комнате. Он и без того вернулся домой не в духе и теперь снова вспыхнул:
— Что он там объясняет! Надо найти кого-нибудь постарше и поопытнее.
Эта угроза заставила Ольгу испуганно вздрогнуть. Пусть она еще и не исправила оценку, но выгода от занятий со Слободаном для нее была уже очевидна. Теперь она могла на уроке обернуться к нему и спросить дату или название книги, а после урока всегда был предлог проводить учителя и похвастаться, сколько она прошла со Слободаном, как они изучали идеи Доситея Обрадовича [Доситей Обрадович (1742—1811) — великий сербский просветитель.], а завтра, мол, будут разбирать стихи.
Но прежде чем Ольга успела что-то сказать отцу, вмешалась мать:
— Я слышу, что юноша все ей хорошо объясняет. Не менять же каждый день учителя.
Она тщеславно полагала, что гораздо лучше знает, о чем можно говорить ребенку, а о чем нельзя и чего следует ожидать от репетитора. Но через несколько минут девочка снова расплакалась:
— Как я пойду в школу, не сделав задания!
«И кто это придумал, чтобы девочки так долго учились в школе», — раздраженно думал Попович, которого разжалобили слезы дочери. В эту минуту он был особенно зол на Доситея Обрадовича. Подумать только! Монаху взбрело на ум бороться против монахов! Против церквей и колоколов! Это он первый выдумал учить девчонок!
— Не реви! — крикнул он наконец. — Не пойдешь завтра в школу, и все тут. Возьмем записку от врача, не в первый раз.
Раньше это сделало бы Ольгу совершенно счастливой, но сейчас такой выход ее не устраивал. Ей хотелось пойти в школу, хотелось увидеть Яковлевича, вздыхать, когда он будет проходить мимо ее парты, смотреть, как он разговаривает со Станицей, хотелось еще раз проверить, любезнее ли он с ней, чем с Анкой или Дивной. Хотелось встретить его перед уроком у дверей класса и с наигранным смущением убежать; хотелось проводить его по коридору до учительской пусть даже вместе с каким-нибудь второклассником; хотелось ждать его у ворот школы вместе с Зорой, чтобы взглянуть на него иначе, чем на уроке в присутствии товарищей. Хотелось сделать вид, что сердишься, когда Лаза на перемене приложит руку к сердцу и скажет, подражая ей: «Ах, какой душка!»
Поэтому Ольга быстро вскочила — нет, она сядет и хоть что-нибудь напишет, все же лучше, чем пропустить урок.
На следующий день она вернулась из школы надутая и оскорбленная: ни с того ни с сего дали контрольную, товарищи пишут, головы от тетрадей не поднимут, а на нее даже никто не оглянется, не спросит, знает ли она, что писать. Если бы четыре дня назад она не убежала с контрольной по французскому, то была бы на уроке, когда учитель рассказывал о Доситее, и хоть бы что-нибудь да вспомнила. Прав папа, какой же он монах, если он ругал монахов! Но ведь об этом не скажешь в школе. И как скучно он пишет! Любой иллюстрированный журнал интереснее, чем его «Путешествие». Слободан наверняка только делает вид, что ему нравится. И в других школах учителя и ученики притворяются, когда уверяют, что это прекрасно.
— Ты чего, дочка, нос повесила? — заглянул ей в глаза отец.
— Неожиданно устроили контрольную о Доситее; надо было написать, что мы думаем о «Путешествии».
— Что ж, это разумно. Опытный преподаватель. Так в чем дело, ты недовольна тем, что написала? Не огорчайся, в следующий раз будет лучше.
Нет, отец не заставит ее признаться. Он всегда так — прикинется, будто все понимает, а потом как начнет кричать: вот просидишь стул до дыр, тогда будет толк! Ой, если бы он знал, что было! Но Никола обязательно ему расскажет.
— Ты не знала, о чем писать?
— Знала, только об этом нельзя писать: мне книги этого Доситея ничуть не нравятся.
Попович, считая, что и он не лыком шит, важно заявил:
— Так тоже бывает, и тогда ученик должен написать, почему ему не нравится. Прямо так и выложить все начистоту! — повысил он голос.
Все-таки папа добрее и лучше всех, самое разумное — рассказать ему все. И она призналась, что сначала попросила учителя разрешить ей не писать работу, ведь она не была в школе, когда это проходили.
— Ну!
— Господин учитель велел мне тоже писать.
Тут Ольга вспомнила, как торопливо и деловито она строчила записки, прося помощи; как одни отвечали, чтобы она оставила их в покое, а другие закрывали рукой свою тетрадь; как она толкала Зору и шептала ей: «Убери руку!», как взглядом звала на помощь Слободана и как он прислал ей записку: «Так ты никогда не научишься работать!», как, наконец, Зора сжалилась над ней и убрала руку, шепнув, чтобы она быстрее смотрела, как, в конце концов, Никола, который закончил первый, с телеграфной краткостью написал ей основные факты и как через несколько мгновений учитель из-за ее спины спросил, кто бросил ей шпаргалку, и она ответила, что это ее собственный конспект. Ольга не могла поведать отцу обо всех своих унижениях, но главное рассказать пришлось.
— И?
— Слободан тоже не захотел бросить мне шпаргалку.
Отец, против ее ожиданий, не вспылил, и Ольга вынуждена была сказать, что записку ей передал Никола.
— Нашего поля ягода! — обрадовался Попович. — Ты бы сразу у него попросила.
Ольга не выдержала и зарыдала. Разве теперь она может сказать, что выдала Николу, когда учитель заявил, что конспект написан не ее рукой? Разве теперь она может сказать, что весь класс был против нее, что Слободан крикнул ей: «Лентяйка!», а Дивна назвала ее предательницей. Ведь она, Ольга, сказала не потому, что хотела подвести Николу, уж его-то она никогда бы не подвела, просто учитель обратился к ней мягко, назвал ее по имени и сказал, что гораздо больше виноват тот, кто передал ей шпаргалку. Как рассказать отцу, с каким презрением взглянул на нее Никола, объясняя учителю, что она не просила у него помощи, он сам, видя ее растерянность, хотел помочь ей несколькими фразами? Все презирали ее в эту минуту, а Николе сочувствовали. После урока в коридоре Никола даже не взглянул на нее, хотя она бежала за ним, пытаясь оправдаться, а Зора шла за ней следом и говорила: «Твой папа все уладит!» Нет, этого и папа не уладит, ему даже нельзя всего рассказать, по крайней мере сегодня, когда он так обрадовался, что Никола помог ей.
Но раскаивалась она недолго. Через день-два Ольга уже гадала, что сказал бы отец, если б знал обо всем, что произошло на уроке: он, верно, решил бы, что первый и главный виновник все-таки Слободан, потом Зора — почему она вовремя не убрала руку, затем Никола, — не сумел подделать ее почерк, и, наконец, Доситей — зачем он писал такие книги, которые невозможно удержать в памяти и полюбить?
ЕЩЕ ОДНО ЛИЦО НИКОЛЫ
Сквозь сон Никола слышал приятный звон посуды, стук и тихие шаги, из кухни тянуло влажным паром пшеницы, запахом ванили и горящих дров. Он любил эту предпраздничную суету, когда пыль, если не помогает тряпка, выковыривают иголкой, когда моют, чистят, скребут кастрюли. После такого решительного натиска весь дом сиял, блестел, словно даже чуть приподымался вверх на крыльях накрахмаленных занавесок, наполнялся озоном и запахом свежих пирогов. Никола заранее предвкушал, как новый учитель, если он, конечно, придет к ним, будет поражен порядком и праздничностью. Придет ли он? Может быть, он не ходит на славы? [Слава — традиционный праздник в честь святого покровителя семьи.] Может быть, ему этот праздник уже не доставляет той радости, какую испытываешь в детстве?
При всей трезвости и ироничности своего ума Никола глубоко чувствовал поэзию старинных праздников и обрядов. Он не мог без волнения смотреть на то, как в канун рождества клали в огонь бадняк [Бадняк — дубовое полено, которое с соблюдением известных обрядов сжигается в сочельник.], как умывались святой водой, зажигали лампады или опускали в тарелки с землей зерна пшеницы, и страдал при мысли, что все это однажды исчезнет, что не будет людей, которые защитят все эти дорогие для него вещи от хода истории и вечных перемен. Еще мальчик, он все же понимал, что защищает дело, осужденное на гибель, и, наверное, именно поэтому защищал его с такой страстью.
Придут ли Станица, Слободан, Лазо и Момчило? Может, не захотят или побоятся? Если они не придут, а учитель придет, вот будут грызть себя... И пусть грызут, это было бы великолепно! Эта мысль обрадовала его, он быстро вскочил и занялся наведением порядка на своей полке.
— Госпожа Ружа! — шутливо обратился он к Ясине, которую с шестого класса перестал звать мамой. — Мы наводим такой блеск, будто к нам пожалует сам министр просвещения.
— Министр не министр, а все коллеги придут. Яковлевича я тоже пригласила, хотя, мне кажется, ты с ним не очень ладишь.
Недавно сын рассказывал ей, что новый учитель держит в классе сторону левых и все думают, что он коммунист. Тогда ей стало жаль сына. Ей показалось, что ему обидно, что учитель не уделяет ему столько внимания, сколько другим ученикам. Она, правда, понимала, что у Николы хорошая голова, но не слишком-то приятный характер; вздорный, вспыльчивый. Преподавателям претило и его сербофильство, и то, что он крутился в Клубе сербской культуры, где велись разговоры, к которым он испытывал болезненный интерес и которые еще больше разжигали в нем шовинизм: о нетерпимости хорватов к сербом, о том, что хорватам милее Австрия, чем Югославия, о Болгарии и Македонии, о болгарском вероломстве.
Мать попыталась было образумить и успокоить его, говоря, что, если Яковлевич и в самом деле держит сторону левых, — стало быть, они в этом нуждаются, а что его, Николу, просто не от чего защищать.
— Ого, моя Ружа тоже записалась в левые! — сказал он и на этот раз, избегая называть ее мамой или Ясикой, что было бы проявлением нежности.
Шло время, и в комнате становилось все праздничнее и нарядней. Надо было еще только повесить занавески, и Никола нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ожидая, когда Ясика их выгладит. Он уже начистил медные колечки, с помощью которых прикреплялись занавески, и приготовил лестницу. Окинув восхищенным взглядом комнату, он спросил:
— Почему это каждый день у нас не бывает так нарядно и чисто?
— Почему? Потому, что надо ходить в школу, готовиться к урокам, сидеть на заседаниях...
— Моя жена не будет работать, хватит ей и дома.
Ясика едва сумела скрыть улыбку, удивление и ревность, которая вдруг вспыхнула в ней. «Моя жена». Эти слова он произнес впервые. Неужели он уже думает об этом? «Ну да, — ответила она себе. — Скоро семнадцать». И сказала как можно более непринужденным тоном:
— Ты думаешь, что одного жалованья будет достаточно на всю семью?
Нет, он не разрешит жене работать, настойчиво повторил он. Он станет трудиться день и ночь, но она пусть сидит дома, чтоб занавески всегда были чистые и накрахмаленные. А жена у него обязательно будет сербка, и непременно из Сербии...
— Может быть, даже из нашего пыльного городишка? Или из твоего класса? — пошутила она и на этот раз не смогла скрыть ревность, которая опять кольнула сердце.
Как знать, может быть, он уже и влюбился в какую-нибудь свою одноклассницу? Может быть, в Дивну? Или Зору? Может быть, в пустышку Ольгу! Или в докторову Любицу? А мать предпочла бы какую-нибудь девушку издалека, незнакомую, красивую, пусть даже своенравную, чтоб она командовала им.
— У вас все девочки красивые, — попыталась она что-нибудь выведать. — И хорошие. Ольга самая кокетливая...
— Самая кокетливая! — вспыхнул мальчик. — Самая легкомысленная и самая глупая! Я с ней никогда больше слова не скажу.
Она с тревогой подумала, что причиной тут, видно, ревность, и сказала:
— Вы же еще совсем недавно дружили и прекрасно ладили друг с другом. Смотри, чтоб сегодня ты встретил девочку как положено.
— Как же, посмеет она прийти! Наверное, и родителей уговорит не приходить, побоится сказать им, что она сделала.
И он взволнованно рассказал матери, как Ольга выдала его новому учителю.
— Видишь, как нехорошо ябедничать.
— Ты говоришь со мной, как с каким-нибудь первачком!
— Ой, чуть не сожгла занавеску! — воскликнула вдруг Ясика, снимая утюг с тюля, и разговор оборвался.
Однако Никола, вспомнив про Ольгу, со злорадством стал представлять себе, как он обо всем расскажет Поповичу. Ну и что ж из того, что праздник! Предать товарища из своего же лагеря, да еще после того, как он хотел ей помочь! Но, облегчив несколько душу, он решил все же промолчать. И если случится так, что Попович придет в одно время с Яковлевичем, Никола будет особенно с ним любезен, даже скажет ему, что Ольга, мол, хороший товарищ. Да, так и надо сделать, пусть учитель видит, что он умеет владеть собой, когда захочет. Впрочем, еще столько надо бы показать и рассказать Яковлевичу! Он навел бы Поповича на разговор о том сербе, который хотел купить в Загребе хлеба, чтоб послушать, что скажет учитель. Никола спросил бы у него, подходящая ли это тема для рассказа. Так и выяснится, кто он и что.
О чем только он не мечтал, каких только не вел разговоров, занимаясь уборкой. Он сказал Яковлевичу, что тот плохой психолог, если не видит, что, кроме Станицы и ее компании, есть и другие ребята, которые его любят. Он признался учителю, как ему хочется добиться его расположения, и рассказал, что ему иногда кажется, будто они думают одинаково. Исповедался он и в том, о чем никогда не говорил даже с матерью: как плохо, что нет отца, — не с кем поговорить о таких чисто мужских, делах, как, например, политика, сказать, что он не любит, когда в это дело лезут девчонки. Так же, мысленно, он разговаривал и с матерью, которая работала рядом. Он спрашивал ее: если бы приехал отец и захотел помириться, приняла бы она его, очень ли она любила отца и похож ли он на него? И когда она порой свысока смотрит на Николу, не потому ли это, что он напоминает ей отца? Потом он задавал ей разные, в сущности, совсем еще детские вопросы: что говорят о нем учителя, кто его хвалит, был ли когда-нибудь у нее разговор с Яковлевичем о нем? И правда ли, что Жанетта после каждой двойки плачет в учительской?
Канун праздника прошел для них обоих приятно. Они с удовольствием готовились к торжеству, стараясь избегать острых углов. Они даже дружески поддразнивали друг друга: то он с ужасом замечал оставленную пылинку, или каплю воды на свеженатертом полу, или криво стоящий стул; то она вдруг обнаруживала среди французских книг немецкую, и Никола в панике бежал к своей полке. Она знала: после праздников все это исчезнет, сын снова станет маленьким тираном, будет дерзить, прикрывать вспышки нежности грубостью, как это заведено у мальчишек. Поэтому она с такой радостью наблюдала за тем, как он, забыв о своем столь лелеемом мужском достоинстве, облизывает тарелки с остатками крема, как делал, когда был совсем маленьким, как он бегает в коротких прошлогодних брючках, как, советуясь о чем-нибудь, кладет ей на плечо руку, как составляет список ожидаемых гостей и как поздно вечером, перед самым сном, мелет зерно и между делом целые пригоршни отправляет в рот. Неужели это тот самый Никола, который утром заявил, что не разрешит своей жене работать, и в котором уже чувствуются задатки будущего политикана и спорщика? И она радовалась, что воспоминания о ней у него всегда будут связаны с этой предпраздничной суетой, и была мягка с ним, как в раннем детстве, когда она баловала его, не боясь испортить.
На следующий день рано утром они уже были готовы. Никола любовался матерью, надевшей темно-зеленое платье с большой золотой брошью. Ведь мама вовсе не такая старая, какой кажется в школе или за работой! Глаза у нее перестали часто моргать и руки спокойны.
— Госпожа Ружа, моя жена всегда будет нарядная.
— А как же вы будете отличать праздник от будней?
— У нас всегда будет праздник.
Никола то и дело поглядывал в окна, кто знает, может быть, Яковлевич придет в первой половине дня? То ему хотелось, чтоб учитель застал их дома, одних, то он вдруг сгорал от желания показать всем, что в гостях у них новый учитель. Между тем Яковлевич вместе с физиком и физкультурником пришел только к вечеру, когда было больше всего гостей. Попович с женой заметно оживились, увидев его. Мать Ольги ловко переменила место, подсела к учителю и стала засыпать его вопросами и комплиментами, стараясь при этом не упоминать об Ольге, чтобы уверить его в искренности своего расположения, безотносительно к тому, что он классный наставник ее дочери. Еще несколько матерей принялись состязаться с ней в выражении внимания новому учителю.
— Берегитесь матерей, господин учитель, — вмешался Попович, явно довольный, что его жена играет первую скрипку, — сейчас они вон какие любезные, а потом увидите, как они на вас набросятся: «Почему моей поставили двойку?» или «Когда мою вызовете?»
Яковлевич так же шутливо ответил, что ему это не угрожает, плохие оценки у него имеют только самые нерадивые, а среди девочек таких обычно не бывает. Поповича и его жену вдруг захлестнула волна неприязни к новому учителю: стало быть, их Ольга самая нерадивая, самая слабая — ведь у нее двойка, и притом, кажется, единственная в классе, и он обиняком дает им это понять. И все же они продолжали оставаться любезными, так как, по их убеждению, оценки зависели не только от знаний учеников, но в такой же мере и от дружбы родителей с учителями; кроме того, им не хотелось портить праздник другому преподавателю дочери.
«Как это такому гордецу удалось получить образование? — подумал Попович. — Наверняка ведь учился на стипендию».
Поповичу представлялось, будто все государственные стипендиаты чем-то обязаны и ему лично, и он попытался обходным путем выспросить у Яковлевича, получал ли тот стипендию.
Молодой человек, словно догадавшись, почему это его интересует, ответил, проницательно улыбаясь:
— Нет, я, как говорится, на своих хлебах жил.
И Яковлевичу живо вспомнились годы учения. Товарищ его — Сретен Савич из Валева — часто говорил ему: «Ты же не коммунист? Нет. Почему не попросишь стипендию? В конце концов даже коммунисты и те добиваются стипендии. Экзамены сдаешь вовремя? Вовремя. Ничем себя не скомпрометировал? Нет». А Яковлевичу было просто неудобно говорить тем, кто получал стипендию, что он не хочет чувствовать себя кому-то обязанным, хочет сохранить свободу. И те и другие сразу стали бы спрашивать: «Что это за свобода? Кто не определился организационно, не может быть свободным». Но ему мечталось с какой-то особой, своей свободе, он хотел знать, что в любой момент волен поступать так, как ему угодно, как диктует его совесть, что имеет возможность принять такое решение, которое ему покажется единственно верным.
Однако товарищи-коммунисты не могли сказать ему, как другим студентам, не сделавшим выбора, что он безразличный ко всему, черствый интеллигент и книжный червь, поскольку, он всегда был в гуще жизни. Яковлевич не раз присоединялся к выступлениям левых, когда ему казалось, что они правы, но, с другой стороны, не мог безучастно слушать тех из них, которые свысока относились к честным людям, придерживающимся других политических убеждений.
— Слушай, мечтатель, похоже, что ты склоняешься к коммунистам, — говорил ему в другой раз Сретен, — почему бы тебе не пойти к ним? С кем-нибудь ты должен быть, приятель, иначе тебя растопчут.
Яковлевич вспыхивал в ответ на такие слова:
— Почему вы думаете, что человек попадает в безвоздушное пространство, если он испытывает интерес не к политике, а к чему-то другому? И хотел бы я посмотреть, кто это будет меня топтать!
А другой его товарищ, тоже из Валева, однажды стал подшучивать над ним, говоря, что он похож на своего деда со стороны матери, который на сходках нередко соглашался с ораторами противоположных убеждений: распалится один, начнет кричать, что налоги непомерно большие, что крестьян, словно в средние века, обложили поборами, дед готов изничтожить правящую партию, которая не понимает, на ком держится государство. А стоит другому обрушиться на крестьян за то, что они-де не думают об общем благе, об интересах государства в целом и пекутся лишь о своей выгоде, дед, проникнувшись вдруг заботой о государстве, и с ним соглашался.
— А почему бы мне и не быть похожим на своего деда? — со смехом отвечал Яковлевич.
— «На своих хлебах», — между тем повторил Попович слова нового учителя, и все почувствовали, что Попович чем-то оскорблен, но чем именно, никто не понял.
Из соседней комнаты заглядывали дети и едва сдерживали смех при виде надутого лица депутата. Никола, обязанностью которого было занимать ребят, с трудом улавливал ход беседы в гостиной. Он только слышал, как Попович спросил нового учителя, не учился ли он в Загребе, а потом видел, что мать изо всех сил пытается замять и прекратить этот разговор. Она с чрезмерным усердием угощала пирожными и оживленно рассказывала, как ей повезло, — канун праздника пришелся на воскресенье, и она справилась со всеми делами.
— У вас все так блестит, будто в доме есть прислуга, — любезно подхватила жена Поповича.
Никола время от времени бросал ребят, предоставляя им развлекаться самим, и шел в гостиную, чтобы подлить вина. Каждый раз ему хотелось сказать что-нибудь приятное столь желанному гостю, но все как-то не удавалось. Наконец неожиданно для себя он спросил, какой день празднует учитель, — Николу это, правда, интересовало, но он не собирался спрашивать об этом именно сейчас.
— Иванов день, — ответил ему Яковлевич и так дружески улыбнулся, словно заглянул Николе в самую душу.
Супруги Попович после этого немного смягчились и снова ласково взглянули на учителя: не такой уж он, значит, отступник — празднует Иванов день и даже знает, как в народе называют этот праздник. И тут, больше уже не в силах молчать о своей дочери, они как-то умудрились вставить, что взяли того ученика, которого он им рекомендовал. В конце концов, ничего нет удивительного в том, что родители говорят с учителем о своих детях!
— Если бы вы только знали, как Ольга старается с тех пор, как мальчик занимается с ней. Читает Якшича так, что все кругом содрогается!
— Будь она посерьезнее, справилась бы и без посторонней помощи.
Попович, словно не слыша ответа учителя, начал превозносить свои таланты, которые якобы унаследовала и Ольга. Ведь далеко не каждому даются французские носовые. Это вам не «ин» и «ен» и не «ан», а «он», как у настоящих французов. У Йокича тоже хорошее произношение, но в этом Ольга просто недостижима. И вот что еще удивительно, у нее способности не только к языкам, но и к математике. Конечно, это чертова алгебра другое дело, символика: говоришь А плюс В, а подразумеваешь что-то совершенно другое. И это ей немного мешает.
Никола старался сохранить серьезную мину, хотя ему было очень смешно, он даже улучил удобный момент и спросил, почему Ольга не пришла вместе с ними, и при этом победоносно взглянул на учителя, словно говоря: «Видите, я могу быть выше всего этого!» Но в то же время он давал себе слово никогда с ней больше не разговаривать.
А товарищей из класса все еще не было. Никола ведь нарочно пригласил их в первый день, а они чего-то воображают. Чего доброго, лишат его радости показать им нового учителя в своем доме, пусть бы своими ушами услышали, что Яковлевич тоже празднует славу. Уже пришла и Жанетта, и Гросмутер, и историк. Ушел Попович с женой, распрощались еще две дамы, а ребята все никак не идут.
— Что случилось, где твои товарищи? Почему нет песен, музыки? — закричал историк, стараясь держаться по-свойски и полагая, что одно дело быть в классе, а совсем другое — прийти в дом ученика, который празднует славу.
И с лица его в самом деле вдруг сошла строго-официальная маска. Исчезла вечная настороженность, боязнь удара из-за угла. Он стал походить на почтенного домовитого крестьянина.
— Эх, как мы веселились гимназистами! — растроганно заговорил он, обращаясь прежде всего к Яковлевичу, но не для того, чтобы его этим уколоть, а предполагая, что тому будет приятно и интересно услышать об этом. — Приглашаю, бывало, весь класс к себе в деревню, на обед. Встречу их у самого города и всю дорогу шутим, смеемся. Они надо мной всегда подтрунивали, говорили, что я учу уроки по дороге от школы до дома, а мой односельчанин Пера, сейчас он тоже учитель, каждую минуту мне кричит, чтоб я не споткнулся и не упал: «Урош, камень! Урош, бревно!»
Рассказывал он об этом совсем другими словами, чем говорил обычно, речь его приобрела другой ритм — эпически спокойный ритм крестьянской речи.
— А это ведь и на самом деле так было. Деревня была далеко от города, приходилось учить уроки по дороге. Да, так я начал рассказывать о славе. Мало сказать, что это была настоящая сербская слава. Иной раз даже и лишку перебирали. И когда приглашал гостей на славу, всегда боялся: а вдруг ученики из богатых домов не придут. Но все приходили. А покойная мать, бывало, вся изведется, сумела ли угодить господским детям. Мы даже музыку в городе заказывали, чтобы лицом в грязь не ударить.
Слушая историка, Яковлевич спрашивал себя, что заставляет этого, в сущности, простоватого говоруна-крестьянина в школе словно бы запираться на три поворота ключа, подобно тому как деревенский хозяин трижды поворачивает ключ в замке на дверях погреба. То ли он боится, как бы ученики не заметили, что он не очень силен в своем предмете, то ли считает, что его будут больше уважать, если он станет держаться на расстоянии? Как бы там ни было, Яковлевич пожалел, что в школе, — он знал это наверняка, — историк снова превратится в подозрительного, скрытного человека, прикрывающего свои слабости неприступностью.
Никола каждую минуту выглядывал, не идут ли одноклассники, он даже чувствовал себя виноватым и пытался как-то оправдать их: может, товарищи считают, что неудобно приходить в один день с учителями. Но вдруг они ввалились, все пятнадцать сразу, и, увидев учителей, остановились взволнованные, как будто не видели их в школе ежедневно, не воевали с ними, не строили им каверз. Зато никто не изумился, как предполагал Никола, встретив здесь нового учителя. И мальчик не знал, радоваться этому или огорчаться.
ЭКСКУРСИЯ
«Сказать ей, чтобы она не держалась так сурово?» — спрашивал себя Яковлевич, сидя на первой парте рядом с учениками и ожидая, пока Вера сделает запись в журнале. Он уже несколько раз был на ее уроках в своем классе, и каждый раз его умиляла ее неумелость и неопытность. Ему казалось, что она и здесь словно парит в таком же полусне, как в ту ночь, когда они вместе ехали в поезде. Вероятно, в его присутствии она еще больше терялась и, не зная фамилий учеников, вызывала их кивком головы или говорила: «Юноша, на третьей парте! Девушка, у окна!»
— Займите всех разу, — как-то посоветовал ей Яковлевич. — Поставьте вопрос, дайте им подумать, а потом уж спрашивайте. Пройдитесь по классу, посмейтесь с ними немного, снизойдите до того, чтобы говорить им «ты», запомните их имена, и совсем не обязательно сердиться, если иногда они и подшутят над вами. У детей есть чувство юмора.
— Значит, я такая, что надо мной можно смеяться? — спросила она сквозь слезы.
— Вовсе нет, просто иногда вы делаете вещи, которые детям кажутся смешными.
Ученики, как и обычно, внимательно смотрели на своего классного наставника, стараясь догадаться, что он думает об этой накрашенной, с ярким маникюром, столичной барышне, которая не может говорить ученикам «ты» и смотрит на них невидящими глазами. Яковлевич ничем не показывал, что видит ее неумелость, ее неспособность к учительской работе, с особым тщанием скрывал от любопытных взглядов учеников то, что именно ее неопытность и неумелость, ее незащищенность и волнуют его.
— Вот вы, девушка, можете ответить?
Ольга, к которой обращалась учительница, даже не слышала вопроса. Она не сводила глаз с Яковлевича, а когда Зора шепнула, что он это заметит, ответила, что только того и добивается. Ольга встала лишь после толчка подруги.
— Мы этого не учили.
Теперь учительница выглядела еще более растерянной, несчастной и строгой.
— Не знаю, учили вы это или нет, но совершенно очевидно, что вы не слушали. Будто с луны свалились. Вот вы, на пятой парте, у окна, ответьте, пожалуйста...
«Эх, и почему ей приходят в голову слова, которые мне когда-то говорил учитель истории?..» — с грустью подумал Яковлевич. Эта злосчастная «луна» выплывает из глубин подсознания и у молодых, и у старых учителей всякий раз, когда они не знают, что делать с собой и с учениками. Ему было тяжело смотреть на Веру, бедняжка не знала, как вести урок дальше, потом вдруг испугалась, что повысила голос, и окончательно забыла прекрасно продуманный план урока, которым только вчера хвасталась перед ним.
Когда они остались одни, Вера, едва сдерживая слезы, сказала:
— Я видела, вы опять недовольны, что я говорю ученикам «вы». Но вы сами говорите, что их надо уважать!
— Прежде всего их надо любить и держаться с ними просто.
— Я люблю их! — воскликнула она с обидой.
— Знаю, что любите, да не умеете это проявить. Вот, например, ту, что свалилась с луны, зовут Ольга Попович.
— О, мы уже знаем ее имя!
— И не только ее, — заметил он с озорной улыбкой.
Это была правда. Он не только знал их имена, с каждым его что-то связывало. Дежуря в школьной столовой, Вера заметила, что, когда он заходит туда, малыш, который спрашивал, женат ли учитель, всегда встает и, не мигая, глядит на него. Юноши из седьмого класса приглашали его пообедать с ними.
— Как-нибудь надо будет с ними пообедать, — с воодушевлением сказал он. — Эта клеенка на столе, эмалированные тарелки и алюминиевые ложки напоминают мне детство. Я с удовольствием бы посостязался с мальчишками, кто съест больше хлеба.
— В таком случае не удивляйтесь, если директор и коллеги будут говорить, что вы распустили и испортили ребят.
— Вера, вы неисправимы. Вам надо как можно скорее выйти замуж. Когда у вас будет свой ребенок, вам будет проще с чужими детьми.
— Во мне и в детстве было очень мало ребячьего, — печально сказала она.
Сколько раз Вера хотела объяснить ему, почему она всего боится, почему, как он выражается, она вечно прячется в своем коконе, но каждый раз она вспоминала слова тетки: «Какое дело чужому человеку до твоей жизни? Нужно держаться гордо. Незачем каждого пускать в свою душу». Однажды она пожаловалась подружке, что тетка не пускает ее на танцы. Узнав об этом, тетка с упреком сказала: «Разве это хорошо? Почему все должны знать, из-за чего ты не ходишь на танцы... Пусть думают, что ты сама не хочешь, так будет гораздо лучше».
— Но она самая близкая моя подруга! — расплакалась девочка.
— Это еще что за невидаль! Ты сама себе лучшая подруга. Нельзя, чтобы каждый лез в твою душу!
— Я люблю ее! Она мне тоже обо всем рассказывает.
В первое время, когда после смерти матери, десятилетней девочкой она попала к тетке, Вера не очень-то слушала теткины советы. Упрямо повторяла про себя: «Вот назло всегда буду говорить подруге, что мне не разрешают. Всегда».
Часто тетка говорила: «У тебя нет матери, и тебе надо быть гораздо лучше других, чтобы люди сказали, что ты хотя бы такая же, как они. Ведь всякое выдумывают про детей, у которых нет матери».
Вера возражала:
— Но у меня есть мама, только она умерла.
После этого тетка начинала плакать, а она сидела возле нее. Когда тетка настаивала: «Иди поиграй», девочка отказывалась: «Я не умею играть тихо, а ведь бегать и кричать, как другие дети, мне нельзя».
Однако постепенно и ей передался вечный страх тетки, она переняла ее настороженность и ее взгляды на мир. Тетка говорила девочке:
— Тебе уже пятнадцатый год, пора браться за ум. Парни не прочь позабавиться с девушкой, у которой нет матери. Будь гордой. Людей привлекает только то, что не дается в руки.
Она поверила, что в этом есть зерно истины, и стала гасить всякое чувство, едва только оно успевало блеснуть в сердце. Она тоже считала, что порядочная девушка должна возвращаться с танцев не позднее двенадцати часов, что воспитанные ученики не задают слишком много вопросов, что настоящий учитель тот, кто оберегает свое достоинство и не держится с учениками запанибрата, так как слишком тесная дружба может быть понята как заискивание перед учениками, а это столь же отвратительно, как и подлизываться к директору. Что сказала бы ее тетка, если бы она встала из могилы и увидела, как Яковлевич в коридоре шутит с учениками, как дружески говорят они с ним!
В учительской, куда они вошли после урока, были настежь распахнуты окна; по комнате свободно гулял ветер, пахло сухими листьями, казалось, что и небо, которое торопливо неслось куда-то, вот-вот ворвется сюда вместе со всеми своими пухлыми, пронизанными светом облаками.
— Как хороша нынче осень! — вздохнул кто-то.
И все взглянули в окно. Земля щедро отдала листьям все вино, которое текло в ее жилах, и, напоминая о минувшем и пророча будущее, благоухала так, словно еще весна, словно она еще влюблена в небо. Сады переливались красками, как весной, во время цветения; даже скудные окрестные рощицы показывали, что и они могут пьянеть от позднего бабьего лета и радовать своими красками, запахами и шорохами, как далекие заповедные леса, о которых мы мечтаем. Вода в реке была тяжелой и ленивой, как нива, пригретая солнцем, и перед закатом подставляла свое зеркало небу, вербам и тополям.
— Поедемте с ребятами на экскурсию, — предложил Яковлевич. — Снова увидим такую же луну, как тогда, когда мы были вместе в поезде. Может быть, и дома опять будут парить над землей... Вы вообще-то заметили, как красиво было? — И тут же он оборвал сам себя.
— С ребятами? А куда?
— С ребятами или без них, а куда — договоримся...
Яковлевичу понадобилось несколько дней, чтобы убедить Веру поехать с ним и с его классом и доказать, что в этом нет ничего предосудительного; ведь она тоже у них преподает; пришлось намекнуть даже, что и директор одобряет эту поездку.
— Удивительно! Директора обычно неохотно отпускают учеников на экскурсии.
— Может быть, а вот наш ужасно обрадовался. И особенно тому, что и вы поедете. Это, знаете, из-за девочек.
Но во время экскурсии среди радостно оживленных ребят она чувствовала себя чужой и страдала от того, что не может держаться с ними так же просто, как Яковлевич. Она ревниво наблюдала, как доверчиво ребята протягивают ему руки, влезая в вагон, как они спешат показать ему то, что восхитило их по дороге, как свободно шутят и поют при нем.
— Смотрите, господин учитель, какая птица! — Ой, какая красивая вода! — Я очень люблю природу! — А вы ездили с учителями на экскурсию? — Лаза оттого грустный, что Эмилия не поехала! — перебивая друг друга, сообщали они ему.
Их веселое возбуждение заразило и его, и он отвечал всем сразу; конечно, и раньше все это было: и экскурсии, и школа, и небо, и земля, и красота. Но ему, как и им, тоже сейчас казалось, что он все это видит в первый раз. Станица окинула его быстрым, проницательным взглядом, который тут же перевела на опечаленную, одинокую Веру. Сейчас Яковлевич обращался к ней не так, как в школе, а просто по имени и даже шутил с ней, не боясь, что ребята могут догадаться о его чувствах.
— Вера, а ведь вам больше идет быть здесь, в поезде, чем в классе, — сказал он. — Вы как будто бы тоже семиклассница.
— Да ведь вы не на много старше нас, — подхватила Станица. — На несколько лет, не больше. Как, вы уже привыкли к школе? — спросила она просто и вдруг прибавила озабоченно: — А вы хорошо переносите езду в поезде?.. Вы побледнели...
Сидя на скамье напротив, Яковлевич взглядом подбадривал Веру: не прячьте, не прячьте свою душу от ребят, они такие же люди, как и все.
— Меня зовут Станица Лазич, — продолжала девушка. — Нас так много в классе, что всех и не запомнишь по именам. Впрочем, это в конце концов и не важно...
— Но ваш классный наставник легко справился с этой задачей, — сказала Вера с заметной печалью в голосе.
Вагон не был разделен перегородками на отдельные купе; если встать, его можно было весь окинуть взглядом. Такие вагоны обычно выделяют для учеников, и они всегда радуются этому: приятно быть всем вместе, когда и песни, и шутки, и сумки с едой становятся общим достоянием. Подошло время завтрака, и учитель предложил сложить вместе все припасы. Девочки стали торопливо развертывать свертки и салфетки.
Приготовления к завтраку оживили Лазу, и, как всегда, когда он не знал, как вступить в разговор или обратить на себя внимание, мальчик начал со своего любимого: «Что это я хотел сказать?» — и тут же предложил:
— Слушайте, чтоб мне не ходить от одного к другому, поднимите руку, у кого самый лучший сыр?
Но тут вмешалась Станица:
— Прежде запасайтесь хлебом! У меня настоящий домашний!
Вслед за ней и остальные, стараясь перещеголять друг друга в щедрости, объявляли о своих припасах. Яковлевич веселился, как школьник, заглядывал в ребячьи узелки и кричал, что завтрак будет царским. Встретив недоуменный взгляд Веры, он шепнул ей:
— Для них же это большое удовольствие, как вы не понимаете? А я угощу их где-нибудь на остановке водой.
Одни ученики держались в стороне, боясь помешать учителям, а другие, вроде Ольги, все время вертелись около них, потчуя пирожками и конфетами. Но каждый раз, когда Ольга или кто-нибудь еще угощал только их двоих, Яковлевич, к великому изумлению Веры, брал пакет и предлагал лакомство всем ребятам подряд.
Никола тоже старался быть поближе к учителю и постоянно спрашивал его то об одном, то о другом. Когда в классе решали, куда поехать на экскурсию, он ратовал за монастырь Любостиню [Любостиня — монастырь в Сербии (XV в.).], но большинство остановилось на Врньце [Врньце — курорт, известный своими минеральными источниками.]. Поэтому ему хотелось здесь, в поезде, рассказать учителю то, о чем он мечтал поведать ему в самом монастыре.
— Все-таки надо было поехать в Любостиню, — вздохнул он, когда они подъезжали к Трстенику, — я готов ездить туда хоть каждый год. Когда я вхожу в монастырь, я всегда думаю, что на эти вот самые стены смотрела когда-то княгиня Милица, которая основала монастырь; представляю себе, как выглядела эта дорога, когда по ней проходили Неманичи. И утешаюсь тем, что даже если все изменилось, горы вокруг, во всяком случае, остались прежними.
Мальчик рассказывал, а учитель ласково смотрел на него и думал: «Как жаль, что хорошие чувства порой оборачиваются фанатичной нетерпимостью и шовинизмом».
— Если бы вы знали, какой там красивый двор, — продолжал Никола. — Не очень большой, и горы словно обнимают его. Княгиня, решившая построить здесь монастырь, знала толк в красоте.
— Папа говорит, что ни одна династия в мире не построила столько монастырей, сколько Неманичи, — вмешалась в разговор Ольга, которая не отходила от Веры и Яковлевича. «Что же, об этом учитель может поговорить с учениками», — думала Вера и первый раз сама с неподдельным интересом спросила учеников, хотят ли они весной поехать на экскурсию по монастырям Македонии. А когда Яковлевич прибавил, что надо обязательно побывать там до окончания школы, так как каждый культурный человек должен с ними познакомиться, ребята захлопали в ладоши и взглянули на Слободана и Момчило, не потому, что считали, будто эти двое думают иначе, а просто потому, что их радовало, что новый учитель относится к памятникам старины так же, как и они.
Потом все притихли и стали смотреть в окна. Яковлевичу казалось, что он может угадать по лицам ребят не только их характеры, но даже мысли. Учитель видел, с каким волнением провожает Момчило пробегающие мимо расщелины в скалах, как загораются у него глаза, когда в серо-красных слоях породы он замечает знакомые минералы. Юноша торопливо охватывал взглядом волнистые гребни гор, думая о тех временах, когда потрясения и катаклизмы в раскаленном ядре земли породили эти застывшие волны. Видимо, его меньше волновала красота октябрьского леса и мятежных облаков, которые в это утро с почтением обходили солнце, прелесть рек, заросших вербами. Его взгляд стремился вдаль, он словно сравнивал высоту гор, ширину полей, а потом вдруг уходил в недра земли, пытаясь увидеть и понять ее строение.
Учитель видел, что Слободан борется с желанием поделиться с друзьями своими впечатлениями, но каждый раз одергивает себя и удовлетворенно улыбается.
Яковлевич угадал, что Лазу не занимают деревья, птицы, облака, коровы на лугу — он создан, чтобы жить с людьми, чтоб развлекать и веселить их, а в награду получать их любовь. «Куда это вы смотрите?» — написано на его добродушной недоумевающей физиономии, и мальчик ловит мгновение, когда кто-нибудь взглянет на него, чтобы поскорее завести разговор.
Учитель знал, чей профиль рисует на стекле Милица, хотя ее палец не оставлял никаких следов. И понимал, что щедрость чувств в ней с лихвой возместит неразвитость ума.
В Дивне все еще боролась девочка, воспитанная в страхе перед школьными законами и перед учителями, с человеком, который уже сам может создавать себе законы, находить свои пути. Она тихо разговаривала с Еленой, все время оглядываясь, не слышат ли ее учителя. Яковлевич снисходительно улыбнулся: вот уж кому нечего опасаться, что кто-нибудь услышит самые, по ее мнению, опасные слова и мысли! Она создана, чтобы жить для других, заботиться о других, она может долго оставаться тихой и покорной, но если уж однажды вспыхнет, окажется решительнее самых решительных.
Станица прислонилась лбом к стеклу, и он готов был поклясться, что она, глядя на места, мимо которых пролетал поезд, озабоченно думала, вспаханы ли поля, хороша ли скотина, сколько молока дают вон те молодые серые коровенки, что смотрят на поезд невидящими глазами. Но он был также уверен, что через минуту она сможет перейти к самым сложным понятиям, решит трудную математическую задачу, составит зрелое суждение о человеке, которого видит впервые.
Против нее сидели Лиляна и Любица. Они, правда, выросли совсем в другой среде и по взглядам были гораздо ближе Николе, чем Станице, но им нравилось дружить со Станицей. Иногда Никола насмешливо говорил им:
— Дурехи! Что вы льнете к Станице? Она ведь не признает ни полковничьих эполет твоего папаши, ни барства господина доктора.
— Но отдает должное нашему уму, — не оставалась в долгу Любица. — Два умных человека из разных лагерей скорей договорятся, чем умный и глупый из одного. — И добавляла благосклонно, как монарх, дарующий свободу узнику: — Мне близки идеи Станицы и ее друзей; она хотела бы пользоваться благами, на которые имеет право по своему уму и которыми наслаждаются всякие пустоголовые гусыни. Это не может не возмущать. Она не виновата, что родилась не там, где пристало родиться такой девушке...
— Но она ведь обвиняет не судьбу, а общество, режим и господа бога...
— Она никого не обвиняет, я этого никогда не слышала, а вот ты постоянно ее обвиняешь, — прибавила Лиляна, которую называли суфражисткой. — Мужское самолюбие. Не выносите, когда женщины одерживают над вами верх.
Сейчас, видя их вместе, Никола ядовито бросил:
— Три Минервы!
— А ты знаешь, греки и римляне были большими демократами, раз они признавали мудрость женщин, — заметил какой-то паренек, который прислушивался ко всему, что говорилось, хотя, казалось, был углублен в решение кроссворда.
Сава с двумя товарищами по парте, тоже любителями пения, напевал разные мелодии: то печальные, то веселые, чем печальнее первая, тем веселее и живей вторая. Иногда ребята взглядывали на учителей, словно спрашивали, нравится ли им песня, и Яковлевич каждый раз отвечал на их взгляды одобрительной улыбкой.
«А на что это засмотрелся светловолосый гордый Йован?» — подумал вдруг молодой учитель. Действительно ли он смотрит в окно или только делает вид, чтобы не подумали, будто он стоит здесь, выжидая, когда можно будет заговорить с учителями. Ему будет стыдно, если так подумают. Он ужасно страдал, видя, как некоторые девочки и мальчики вертятся около учителей. Яковлевич с непонятным удовлетворением, которое скорее пристало Николе, подумал, что чувство такта сильнее развито у деревенских детей, чем у городских.
Кое-кто из девочек, хотя все уже давно покончили с едой, поминутно открывал сумки и вынимал из них то печенье, то фрукты. Были среди них и такие, которые при этом никого не угощали. Другие играли в игры, которым научились еще в начальной школе. А были и такие — это было видно по глазам, — что тоже охотно бы поиграли, или открыли бы сумки, или подошли поближе к учителям, но ни на что не решались и ревниво поглядывали на более смелых товарищей.
«А ведь такими они и останутся, когда вырастут, — подумал Яковлевич. — Сава будет везде брать умом, а не прилежанием. Выберет специальность, где нужна логика, а не усидчивость. Ранко будет нелегко найти свое призвание: он неглуп и прилежен, всем интересуется, но ничему не отдается целиком. Его овальное лицо с мелкими чертами долго останется молодым. Любица всю жизнь будет верить в себя, в силу разума, в свой ум, но никогда не станет бравировать этим. Она все сможет понять и потому будет добра и снисходительна. Она не сделается завистливой и тщеславной. А Лиляна? Лиляна, — думал он, — всегда будет настороже из опасения, что кто-то не признает ее ума, мужества, решительности, словом, тех черт, которые мужчины охотнее всего приписывают только себе».
Вот и сейчас она как будто бы внимательно смотрит в окно, но сразу же становится на защиту девочки, перед которой начинают важничать и хвастаться мальчишки.
— Разве девчонки могут без зубрежки? — дразнит Светолик Дивну.
— Ребята, вы послушайте, что он говорит! — возмущается Дивна.
А Лиляна через скамейку бросает:
— Некоторым даже зубрежка не помогает.
— Только девчонки могут гордиться пятерками.
— Мужское самолюбие. Если бы они у тебя были, ты бы тоже гордился, — не уступает Лиляна. И так, вероятно, продолжалось бы до бесконечности, если бы Любица или Станица не отзывали Лиляну, чтобы показать что-то за окном.
«А Светолик, — продолжал думать Яковлевич, — всегда будет замечать чужие недостатки, прикрываясь самоуверенностью, словно щитом. Стоян останется таким же спокойным и рассудительным, как теперь, он не любит вылезать вперед, но если все пойдут навстречу опасности, не опозорится и не отстанет. Вряд ли он еще будет расти, и так уж косая сажень в плечах. Ольга всю жизнь будет обманывать и себя и других, всегда будет искать себе опору, всегда будет стараться свалить свою вину на другого. А Зора вечно будет стремиться найти человека, которому можно подражать и подчиняться, каждый раз попадая в рабство, впрочем, для нее приятное».
С Ольги и Зоры он перевел взгляд на Елену, которая с одинаковой преданностью смотрела то на Станицу, то на Слободана, по очереди угощая их сладостями. Яковлевич поделился своей мыслью с Верой:
— Взгляните на эту маленькую белолицую Елену. Она, вероятно, за всю жизнь так и не узнает ревности.
— Ну и мысли у вас! — чуть-чуть язвительно улыбнулась Вера. — Это только девочки наводят вас на размышления?
— Нет, не только девочки. Я, например, думаю и о Чедомире, это вон тот рыжеволосый с веснушками. Он для меня загадка — его способности к математике совершенно не вяжутся с его непосредственностью, свойственной обычно лишь художественно одаренным натурам, — ответил Яковлевич и посмотрел в окно.
Поезд шел по речной долине, открывая взгляду то тихий, заросший ивами плес, то быстрину, в которой, казалось, плескались тысячи золотых и серебряных рыбок; потом неожиданно перед глазами возникло поросшее лесом ущелье — его, вероятно, первыми заметили влюбленные и не сводили с него глаз, пока поворот, словно пружина, не отбросил его в сторону. Мелькнул затерявшийся в глуши маленький белый домишко, похожий на игральную кость. Когда проносишься мимо такого домика в поезде, кажется, что в нем можно уместить все счастье, о котором мечтаешь. Показались вершины гор — их гложут туманы и серые, прожорливые облака. Откуда-то из долины от моста, перекинутого через реку, выныривает ослепительно белая дорога, она обманывает взор, поблескивая, как мотылек, на солнце то с одной, то с другой стороны холма и неожиданно исчезает. А вот старик оставил мотыгу и смотрит на огненного змея с таким же изумлением, с каким смотрел в первый раз, когда тот промчался мимо его поля; вряд ли еще когда-нибудь увидишь этого старика, а он, верно, мог бы так много рассказать о войнах и о давних снежных зимах, о баснословной дешевизне, когда шапка слив в Валеве стоила грош. А потом вдруг увидишь девушку, она чуть постарше юных пассажирок, которые с любопытством смотрят на нее из окна вагона и думают, что, может быть, уже нынешней осенью ее выдадут замуж, может быть, ее уже и просватали, а она любит другого. Милица помахала ей, и остальные сбились у окна и тоже принялись махать. Но девушка смотрит на них то ли недоверчиво, то ли удивленно: едва приметно улыбнувшись, она отводит взгляд.
— Вера, — тихо спросил Яковлевич, — как вы думаете, прилично учителю на глазах учеников махать из окна поезда молодой девушке?
И тут он внезапно заметил, что и она грустно смотрит куда-то вдаль. Лес скрыл и старика, и девушку, и белый домик, заблудившийся в поле. Сейчас, наверное, Вера глядела на реку, которая отбежала от дороги и скрылась в лесочке, поблескивая иногда среди деревьев. Может быть, ей стало одиноко в своей темнице предрассудков и страхов, может быть, ей взгрустнулось в мире воспоминаний? Он еще ничего не знает о ней. На кого из учениц она похожа? На Елену? Нет, Елена будет любить то же, что любит тот, который ей понравится. На Милицу или Дивну?
— Нет, все-таки вы похожи только на себя, — сказал он громко, сам удивляясь своим словам.
На курорт они приехали к полудню. В лучах осеннего солнца тепло поблескивало золото увядших листьев, с кленов и платанов падали зеленовато-желтые звезды неправильной формы. На аллеях почти никого не было, ясно слышался шум целебного источника, который заставили течь прямо, пробираясь под десятком узеньких, чуть пошире бревна мостиков. И ручей, словно вознаграждая себя за то, что не может петлять и метаться из стороны в сторону, подпрыгивал вверх.
— О чем говорят птицы? — спросил Яковлевич.
— Что это я хотел сказать? — как обычно начал Лаза и потом воскликнул: — Давайте загадывать загадки!.. Что можно слушать вечно?
— Журчание ручья, — в один голос ответило несколько человек.
— Тебя, — съязвил Никола.
Но ни у кого не было настроения шутить и смеяться. Всем вдруг захотелось молча послушать, как журчит вода и перекликаются птицы.
— О чем говорят птицы? — снова спросил Яковлевич.
— О чем говорят! Мне кажется, они щебечут: приехали! приехали! Вот прислушайтесь! —ответил Момчило, всегда любивший отгадывать голоса природы.
У половины учеников природа не вызывала любопытства. Журчание воды и голоса птиц они слышали и у себя в городе, но зато они никогда не видели столько железных оград с острыми наконечниками, столько вилл, напоминающих заколдованные замки, столько асфальтированных дорожек, бегущих через газоны, столько цветников, искусно вышитых на полотне земли.
— Вы доверяете нам? — вдруг спросила Станица и, встретив удивленный взгляд учителей, прибавила: — Можно, мы одни побегаем, полазаем по горам, подышим лесным воздухом, а вернемся мы точно, когда вы назначите.
Ольга принялась ворчать, возмущаться, надула губы, но Вера неожиданно быстро согласилась. Не обращая внимания на то, что подумают ученики, Яковлевич с улыбкой спросил ее, неужто она серьезно думает отпустить ребят одних, но она уже вошла в свою обычную роль и ответила, что, пожалуй, действительно не стоит. Однако дети мгновенно, точно прозвенел звонок на перемену, разбежались и исчезли среди вилл. Яковлевич почувствовал, что в ту же минуту они забыли о них, что как бы они ни любили учителей, у них все равно остается своя жизнь, свои привычки, остается потребность в самостоятельных решениях и поступках. Вполне возможно, что они сразу же заговорят на своем моравском диалекте, внимание их привлекут такие вещи, мимо которых, идя вместе с ним, они бы прошли, не заметив, они начнут спорить и поддразнивать друг друга. И он ощутил в себе ту грусть, которая охватывает родителей, когда дети начинают уходить из-под их влияния.
— Вам жаль, что они удрали с такой радостью?
— Жаль. Но, к счастью, и мне есть чем утешиться.
Услышав эти слова, Вера погрузилась в тот сон, когда все видишь и все слышишь. Это было своего рода кокетство, вызывающее какие-то слова и взгляды, но оставляющее их без ответа. Она безучастно позволила ему взять себя за руку и продолжала говорить о каких-то мало существенных школьных делах. Она согласилась подняться повыше в горы и углубиться в лесок, но держалась так, словно они шли по школьному коридору.
— Вы хоть знаете, как меня зовут? Или я для вас просто молодой человек, с которым вы вместе ездили по монастырям?
— Вы заметили, как той девушке не хотелось уходить с ребятами?
— Напротив, я заметил, что одной девушке очень хотелось отправить учеников одних.
Она покраснела и сердито сказала:
— Вы знаете, о ком я говорю.
Яковлевичу нравилось, что с Верой ему часто бывает трудно, что он все время должен освобождать ее от разных пут. Ему нравилось, что ей все внушает трепет, и он не упускал случая подшутить над этим ее свойством. Он относился к ней так, как если бы она была его ученицей.
Они могли бы вернуться домой еще засветло, но Яковлевичу хотелось дождаться ночи и луны, поэтому поехали последним поездом.
Уставших ребят быстро сморила дремота. «Только влюбленные не уснут», — подумал Яковлевич, обводя взглядом лица, освещенные лунным светом и любовью. Милица и Никола подчеркнуто громко обсуждали последнюю контрольную по математике. До Яковлевича доносились только обрывки их разговора, необычно звучавшего в ночной тишине и прохладе.
— Я забыла изменить знак, и у меня получилось...
Конец ее фразы заглушил стук колес. Через несколько минут он услышал внятный, назидательный, словно бы учительский, голос Николы:
— В усеченной пирамиде... поэтому мы имеем площадь сечения...
Милица сидела у окна и, разговаривая, водила пальцем по стеклу, будто показывала на луну. Никола казался мягче, чем в классе, похоже, ему нравилось, что девочка смущается.
Станица и Слободан тоже необыкновенно громко вели свой разговор, но он был лишь шифром к другому, безмолвному и куда более значительному. Они сидели друг против друга и все время смотрели в окно, словно то, о чем они говорили, находилось в ночи, в горах, заросших похожими на темные гнезда кустами.
Ольга, Зора и еще несколько девочек заснули, прислонившись головами друг к другу, и казалось, что они и во сне поверяют друг другу тайны. Кто-то мурлыкал чувствительную песенку, кто-то совсем тихо напевал старую солдатскую песню о войне с немцами, принесенную, может быть, еще с салоникского фронта.
И вдруг все затихли, словно Лиляна и Сава, которые в этот момент вышли в тамбур, лишили их дара речи. Несколько дремавших девочек встрепенулись и стали подталкивать друг друга локтями, а два мальчика громко вздохнули и сказали:
— Суфражистка-то наша!
На Веру опять падал лунный свет, и рот ее казался алым цветком в форме сердечка. Рядом спало несколько ребят, которых луна еще не волновала, а Яковлевич ждал, повторится ли чудо той ночи, когда они впервые встретились. Но места за окном были совсем другие, и у каждой ночи свои чудеса. А чудом этой ночи было то, что убаюканная стуком колес девушка, закрыв глаза, положила свою руку на его, доказав этим, что она и в самом деле спит.
БЮЛЛЕТЕНЬ
У Лазы был лишь один способ привлечь к себе внимание Эмилии. Когда он перевоплощался в кого-нибудь из ребят, учителей или родителей, разыгрывая недавние сцены или происшествия, она ни на кого больше не смотрела, да и другие не сводили с него глаз. В ее прозрачном, по-девичьи задумчивом лице появлялось что-то детское, она снова становилась такой, какой была в четвертом классе, когда он еще осмеливался дергать ее за косички. Эмилия даже прерывала разговор с Тучей, к которому обычно льнула, почти бессознательно прижимаясь к его плечу и еще больше бледнея. Лазе приходилось довольствоваться тем, что она видит в нем старого товарища детства, с которым она еще играла в жмурки.
И в этот день, едва перешагнув порог комнаты в доме Эмилии, где они собрались по обыкновению, Лаза тотчас, пользуясь своим временным превосходством, оторвал Эмилию от плеча Тучи и заставил его тоже слушать свою импровизацию. Лаза разыгрывал сцены, которые он наблюдал на школьном дворе после чтения антикоммунистического бюллетеня на уроке истории. Этот бюллетень взбудоражил всю гимназию и разделил ее на два враждующих лагеря. Даже в младших классах нашлись сторонники и того и другого: один говорил приятелю, что, по мнению папы, коммунисты погубят весь мир и учителя должны бороться против них; другой передавал слова мамы, что теперь, какие бы там бюллетени ни выпускали, ни она, ни другие работницы не потерпят, чтобы их угнетали; третий рассказывал со слов своего брата, что готовится новая мировая война и что после этой войны в школах не будет директоров.
Лаза вводил в свою импровизацию все новых и новых персонажей.
— А ну-ка, покажи еще, — сказал Туча покровительственным тоном, словно был старше Лазы не на год или два, а гораздо больше.
Актер, однако, вдруг изменил репертуар и принялся якобы читать записки, которыми класс отвечал на предложение Станицы уйти с урока истории. Зрители хором называли имена авторов записок, которые воспроизводил Лаза. Не обращая внимания на крики, он продолжал сцену, и ему даже удалось покраснеть, как покраснел от ярости историк.
— Что это значит? Почему вы выходите без разрешения? Всем двойки по поведению! Запишите тех, кто ушел с урока!
И Лаза выбежал в переднюю, засунув под мышку вместо классного журнала какую-то книгу. Смех Эмилии еще больше вдохновил его, и он с блеском изобразил, как Никола записывает фамилии ушедших с урока. А потом вдруг заговорил голосом Дивны:
— Слушайте, это не по-товарищески! Мы не ушли с урока, но товарищей не должны выдавать.
Эмилия повернулась к Дивне:
— Ты в самом деле так сказала?
А Лаза продолжал голосом Николы:
— Прикажешь принять твою политику невмешательства?
— Лучше уж политика невмешательства, чем предательство.
Теперь Туча тоже тоном старшего и тоже свысока сказал Дивне:
— Ты хорошо ему ответила.
Затем следовала сцена, в которой ребята пытались отнять у Николы листок с фамилиями и которая окончилась победой Николы — ему удалось спасти список и сунуть его в карман. После этого Лаза заплакал, как Анка, а потом пренебрежительно бросил голосом Николы:
— Все девчонки дуры!
— Пусть записывает! А тебе было бы приятно, если бы кто-нибудь ушел с урока Чичи?
Все закричали в один голос:
— Ольга! Ольга!
— Она на самом деле так сказала? — засмеявшись, снова спросила Эмилия.
Потом Ольга и Зора яростно стучат кулаком о кулак и кричат:
— Теперь Станица увидит!
— А эта дура, Ольга, я слышала, влюбилась в Яковлевича, — прервала представление Эмилия.
— Просто прикидывается из-за отметок, — ответил Лаза своим голосом.
Все вдруг задумались. Дивна думала о том, что историк, видно, вынужден был читать этот антикоммунистический бюллетень: ведь без указания министерства он не посмел бы читать его в классах, даже если бы ему и очень хотелось. Она сама дочь учителя, и ей ли не знать, что учителя вовсе не такие уж независимые люди, как представляется ученикам. Дивна под влиянием близких друзей тоже считала, что не следовало читать бюллетень в классах, но она никогда бы не ушла с урока из боязни обидеть преподавателя, даже такого, как историк. Сколько раз Чича, мучаясь, ставить или не ставить ученику двойку, по совести вполне им заработанную, говорил: «Вы думаете, будто учителя вас ненавидят, будто им приятно ставить плохие отметки и наказывать. Вы думаете, что они все делают, как им захочется. А ведь существуют предписания, приказы директора, министерства, наконец, убеждения, — правда, эти убеждения лет на пятьдесят старше, чем ваши». «Что может сделать историк, если уж он такой уродился, — думала Дивна. — И ему самому, верно, неприятно, что ребята не любят его, вот он и становится все строже. Если бы ребята лучше к нему относились, и он бы их полюбил». Она, почти как Анка, жалела и историка, которому ребята, уйдя с урока, нанесли оскорбление, и ребят, которых ждало наказание.
Елена из симпатии к Слободану пыталась вызвать в себе возмущение поведением историка, но в глубине души она одобряла его, и уход учеников с урока казался ей недопустимым бунтом, а бунта и всего, что могло бы безвозвратно лишить ее привычных и милых ее сердцу вещей, Елена боялась. Она все оценивала сердцем и рассуждала поэтому так: какой смысл в том, что перестанут страдать те, за кого ратуют Слободан и Лаза, вместо них появятся другие, которым тоже придется страдать. И когда Лаза изображал взбешенного историка, Елена не могла смеяться, смех застревал у нее в горле.
Станица думала о том, как она покажется на глаза классному наставнику, — ведь и ему придется отвечать за их поступок. В десятый раз проверяла себя, так ли она поступила, надо ли было поднимать ребят на открытый протест. Может быть, Стеван, став студентом, уже забыл, что значит уйти с урока? Но если ничего не делать и сидеть сложа руки, разве когда-нибудь заслужишь право встать в ряды тех людей, которые, как ей казалось, всегда поступают справедливо или, по крайней мере, так, как и ей подсказывает сердце! Может быть, надо было уйти с урока только ей и Слободану, а не звать за собой весь класс — ведь половина ребят думает иначе, чем они со Слободаном, и она, стало быть, надеялась, что они пойдут против своих убеждений?
Под волнами смеха в Лазе скрывалось тихое озеро. «Надо же когда-нибудь начать бороться, — думал он. — Будь у нас возможность спорить, мы бы остались на уроке, но раз это не позволяется, мы выразили свой протест тем, что ушли. Правда, и мне было немного жаль историка — будто мы сделали это из ненависти к нему. И... — прервал он свою мысль, перехватив взгляд Эмилии, направленный на Тучу. — ...И если бы добрая, кроткая Эмилия первая не поднялась бы и не ушла с урока, что бы она тогда сказала Туче?» У него заныло сердце. Девушки вот так и идут на подвиг. Но тут же он понял, что в нем заговорила болезнь взрослых — ревность — и что у Эмилии гораздо больше самостоятельности, чем у ненавистного ему мрачного восьмиклассника.
Момчило на примере природы знал, что даже термиты, муравьи, пчелы ищут близкие себе существа по виду или образу жизни, чтоб обитать вместе. А историк никого не может привлечь, даже тех ребят, которые думают так же, как он. Конечно, уходить с урока — это ребячество, но ведь невозможно допустить, чтоб на твоих глазах хулили то, что тебе дорого!
— А в каких еще классах ушли с урока? — вдруг прервал Стеван их раздумья, исполненные у одних раскаяния, у других страха, а у третьих сомнения.
— В нашем и в седьмом, — раздраженно ответила Эмилия, — я же тебе говорила.
— Достаточно, — улыбнулся Стеван. — В каком это парламенте надо один голос против, чтобы провалить решение?
У Слободана на языке вертелся ответ, но, как всегда, он не захотел демонстрировать свои познания. Лишь совершенно случайно ребята обнаружили, например, что он увлекается пчеловодством, знает столярное дело и сам выучил русский язык.
И он лишь иронически бросил:
— Спросим историка на следующем уроке.
Станица проницательно взглянула на него.
Мать Эмилии внесла рассыпчатое печенье в форме треугольников и ромбов, которое ребята звали «рога в мешке». Чтобы не поддаться соблазну сразу наброситься на угощение, Лаза выглянул в окно и доложил, что запах печенья уже выманил в сад любопытную соседку, что на улице заметно движение среди кошек и только вот собаки не проявляют пока никакого интереса к запаху ванили.
— Ребята, а что вы завтра скажете своему классному наставнику? — спросила Дивна Эмилию, беря Лазу под руку и подводя к печенью.
— Физику? Он пошумит немного, чтобы и нас и себя убедить в своей строгости, а потом простит, как Чича. Преподаватели точных наук люди разумные.
— Что это я хотел сказать? — встрепенулся Лаза и опять отбежал к окну. — Хотите знать, что будет завтра у нас в классе?
Все были не прочь развеять тревогу, которая точила душу, и с восторгом приняли предложение Лазы изобразить завтрашний урок классного наставника. Но сыграть Яковлевича оказалось не так легко. Что в нем самое главное? Чем-то одним не передашь: надо выпрямиться, взглянуть в глаза каждому, как бы читая в них, надо улыбнуться одному, другому, пройтись по рядам, неприметно отвернуться от той парты, с которой доносятся шепот и жеманные вздохи, надо пожать плечами и поднять брови, словно спрашивая: «Ну, что мы теперь будем делать?»
— Ушли с урока истории? — спросил Лаза голосом Яковлевича и ответил своим собственным:
— Что это я хотел сказать?.. Ах да... ушли с урока антикоммунистической пропаганды.
Кто-то из ребят засмеялся тому, что актер подметил и свое любимое присловье. Кто-то спросил, хватит ли у него храбрости и на самом деле так ответить. Эмилия одобрительно опустила ресницы, забыв о плече Тучи; на лице Дивны, освещенном солнцем, загорелись теплые краски.
— Пусть встанут те, кто ушел с урока, — сказал Лаза высоким голосом, в котором зазвучал металл.
Чтобы усилить впечатление, Станица, Слободан, Момчило, Эмилия и Стеван поднялись со своих мест.
— Расскажите честно, как это произошло?
— Встал один, а за ним все остальные, — быстро, словно торопясь опередить других, ответил Лаза голосом Слободана.
Затем актер нервно и нетерпеливо вскочил, подражая Николе, и крикнул:
— Они говорят неправду. Это Станица организовала.
— Мы не позволим ему этого сказать? — живо откликнулась Дивна.
— Ведь ты же не желала вмешиваться в политику? — бросил Стеван.
— Не трогай ее, слышишь! — ответил Лаза голосом Эмилии, которая тут же подбежала к нему и обняла, к великому изумлению Тучи и радости всех остальных.
Лаза чуть ли не до мельчайших деталей предугадал, как пройдет этот урок. Никола, несмотря на просьбу Дивны, все-таки действительно рассказал, что уход с урока организовала Станица, подчеркнув при этом, что, раз его спросили прямо, он не хочет врать.
— Как тебе не стыдно! — сквозь слезы вырвалось у Дивны, и она попросила Яковлевича записать, что она тоже ушла с урока: после того, что сказал Никола, ей стало жаль, что она и в самом деле не ушла.
— Запоздалая храбрость, — шепнул ей в спину Лаза. — Но все же поздравляю!
Ольга и Зора затаив дыхание ждали, что скажет учитель Станице.
— Смотри, как ему ее жалко, — шепнула Зора.
— Ух, не могу ее видеть! — так же тихо отозвалась Ольга.
Станица быстро положила конец колебаниям учителя. Она признала, что, как уже сказал Никола, подговорила ребят не ходить на урок истории, так как учитель истории читал этот самый бюллетень в восьмом классе, и она предполагала, что он будет читать его и у них.
— Так поступать не следовало, таким методом никого не убедишь, — сказал Яковлевич и поднял брови точь-в-точь, как это делал Лаза, изображая его.
Яковлевич, возможно, говорил бы гораздо резче, но он хорошо помнил разговор со Станицей и Слободаном, когда они однажды пришли к нему домой и у него не хватило духу упрекать девушку за то, что она, вероятно, считала своим самым серьезным подвигом за годы учения в гимназии.
— С учителем истории другой метод невозможен, он не стал бы с нами разговаривать.
— Подумаешь, какие персоны, чтобы с вами разговаривать, — проворчал Стоян, которому казалась неслыханной дерзостью сама мысль о том, что ученик может обсуждать с учителем столь важные проблемы.
У Стояна, как и у его ближайших товарищей, чтение бюллетеня не вызывало протеста. Он даже надеялся, что такие воззвания замедлят разрушение обычаев, привычек и законов, благодаря которым школа и государство сохраняются в их нынешнем виде, спасут состояние, которое его родители сколотили ценой больших усилий и жестокой экономии и которое в свое время он получит в наследство. Если бы Стоян и его единомышленники не боялись упрека в подхалимстве, они заявили бы открыто, что осуждают тех, кто ушел с урока. Ребята с разных концов класса переглядывались и о чем-то договаривались. Те, что сидели рядом, шептались, делились впечатлениями, советовались, как поступить. Светолик толкнул Шилю локтем:
— Надо же, другой метод невозможен?! Воображалы несчастные!
— Пижоны!
— Ты слишком поторопилась, Станица, — сказал девушке Яковлевич. — Придется всех вас наказать, а тебя как зачинщицу в первую очередь.
Но тут встал Слободан Йокич и заявил, что не одна Станица зачинщица и он тоже зачинщик, поскольку они вместе обо всем договаривались, когда восьмиклассники рассказали, что в знак протеста они ушли с урока. После него поднялся Момчило, сказав, что Станица лишь случайно вышла зачинщицей. Лаза, улыбаясь, попросил, чтобы и его считали зачинщиком: он не может допустить, чтобы другие оказались благороднее его. Ребята засмеялись, улыбнулся и учитель, и всем подумалось, что не так уж тяжело быть наказанным в такой компании — даже весело! А Яковлевич заглядывал всем в глаза, как и в тот раз, когда они читали под партами, словно приглашал всех объявить себя зачинщиками.
Петар Эро мучился сомнениями. С урока он не уходил, у него просто в голове не укладывалось, что ученики могут отказаться слушать то, что учитель считает нужным им прочесть. Выслушай, а там поступай как знаешь. Но когда он увидел, что, если увеличить число виновных, можно уменьшить наказание товарищей, ему стало стыдно не быть с теми, кто объявил себя виновным, и он тоже присоединился к ним.
— Слабак, — пробормотал кто-то за его спиной.
Яковлевич прошел мимо парты Ранко и Савы. Покрасневший от волнения, растерянный Ранко тоже разрывался на части. Он не уходил с урока и не был согласен с теми, кто это сделал, но ему было стыдно не помочь товарищам в беде. И вдруг он получил записку от Николы. «Не будь шляпой! Спасибо они тебе не скажут, а еще и посмеются, что ты меняешь свои убеждения». И Ранко, когда учитель снова взглянул на него, опустил глаза.
Яковлевич подошел к Светолику, тот встал и заявил, что не уходил с урока, то же самое сказали трое мальчишек, которые ходили хвостом за Светоликом, восхищаясь его дерзостью и считая ее отличительным свойством настоящего мужчины.
— Вот это честно, — послышалось одобрение Николы.
— Кто еще ушел с урока? — спросил Лаза, поднимая вверх карандаш, которым он записывал фамилии.
Подняли руки Любица и Лиляна. С урока они не ушли, потому что пожалели учителя. Они знали: он читал бюллетень не по своей воле, и полагали, что ему это тоже не доставляло никакого удовольствия. Но сейчас надо было принять чью-то сторону, и они присоединились к тем, кому угрожали неприятности. Этого требовала элементарная воспитанность и чувство товарищества.
Сразу после них записалась и Елена.
— Конечно, раз Слободан ушел, значит, и она, — шепнула девочка за ее спиной.
Потом поднялась Анка, правда, и сейчас в слезах, а за ней, заметив, что классному наставнику это нравится, и Ольга с Зорой.
— Отступницы! — бросил им Никола. — Дуры безмозглые.
Он никак не мог понять, почему классный наставник так мягок, ведь в Клубе сербской культуры говорили, что за такой проступок можно и из школы вылететь, да и мать Николы, — а она очень любит и уважает Станицу, — сказала, что судить своего учителя — это неслыханная дерзость.
В классе между тем наступило веселое оживление: ребята быстро открывали портфели и вытаскивали дневники. Лаза собирал их, подходя ко всем подряд, словно все согласились разделить наказание. Теперь никто не протестовал — издавна считалось зазорным не помочь товарищам. Подойдя к Николе, Лаза протянул руку и за его дневником.
— Думаете, что это вам так же легко сойдет с рук, как в прошлый раз? — зло прошипел Никола.
— Давай, давай, быстро, — настаивал Лаза, — что это я хотел сказать?.. Да... Хватит с тебя, что Яковлевич знает, что ты был против. Получишь тройку, как все, не умрешь!
— Смотрите, как бы вам не влепили единицу!
Честолюбие Николы страдало. Ему так хотелось, чтобы кто-нибудь из учителей оскорбил его убеждения, — ведь он бы тоже не побоялся выступить против и стать на защиту товарищей. Попробовал бы кто-нибудь заявить, что сербы во главе с королем Миланом виноваты в сербо-болгарской войне [Сербо-болгарская война 1885 г. была развязана королем Миланом с целью получить от Болгарии территориальную компенсацию.] и что Сливница [Сливница — место битвы, где 5-7 ноября 1855 г. болгары нанесли сербам сильное поражение.] была справедливым возмездием! Кто бы это ни сказал, Никола бы поднялся на защиту сербов и нашел бы оправдание их действиям, припомнил бы вечную несправедливость Европы к его народу, равнодушие к сербской крови, пролитой за свободу, и разочарования, которые приносил сербам каждый мирный договор, навязанный великими державами. Пусть бы ему даже грозило исключение из школы, он не колеблясь встал бы на защиту того, что считал святой правдой. И, уж конечно, он, Никола, не допустил бы, чтобы кто-то делил с ним наказание, он снес бы его и один!
Возвращаясь домой после уроков, Дивна увидела отца; углубившись в свои мысли, ссутулившись, в измятых брюках, он шел по улице с тетрадями под мышкой, — видно, забыл положить их в портфель. Что бы он сделал, будь он у них сейчас классным наставником? «Видали, они умнее учителей, умнее государства, в политику вмешиваются!» — ворчал бы старик до тех пор, пока бы не определил тяжесть их проступка и не решил, как их наказать. Бедный папа, каково ему будет услышать, что она тоже причастна к этому. Завтра от волнения он и пальто забудет надеть. Она бегом догнала его и взяла у него тетради.
— Видали, вон как запыхалась? Ты ведь уже, можно сказать, взрослая девушка, а бегаешь по улице как сорванец, — начал брюзжать Чича, которого постоянно мучило, что он не сможет хорошо воспитать дочь и внушить ей то, что обычно внушают матери.
— А если мне хочется побегать, папа, я ведь только во втором классе!
— Видали!
Но в глубине души он был доволен, что она в отличие от многих своих одноклассниц еще не чувствует себя взрослой девушкой.
Дома Дивна заставила его надеть старый костюм и принялась отглаживать тот, в котором он ходил в гимназию; работая, она мысленно упрекала его: надо же, как помял, здесь за что-то зацепился, тут прожег — и все это за каких-то десять дней! «Папа, папа, когда ты приучишься к порядку?» — можно было прочесть на ее лице. Чиче было стыдно, но он уверял, что совершенно не виноват, он даже не помнит, где это он так измялся. Покончив с костюмом, она повесила его в шкаф и, стоя к отцу спиной, сказала:
— А у меня, наверно, будет тройка по поведению.
Чича от удивления забыл даже про свое любимое «Видали!» — в школе, по всей вероятности, ему никто ничего не сказал.
— Не понимаю... — пробормотал он. — У вас сплошные происшествия. Яковлевич решит, что это я вас так распустил.
— Ты знаешь, историк изводил нас одним бюллетенем, и многие ребята ушли с урока, не захотели слушать...
— Не захотели слушать?!
— Я с урока не ушла, но, когда Никола выдал зачинщиков, пожалела об этом. А потом, чтобы зачинщикам меньше попало, ребята сказали, что виноваты все. Ну, и я тоже сказала.
— Это я могу понять. Из чувства товарищества, значит? — У Чичи отлегло от сердца.
— Видали! — растрогалась Дивна и рассказала отцу все по порядку: как историк выбежал из класса и как она была готова его пожалеть и не смогла — уж очень он неприятный человек, ей было только смешно, и как Станице сейчас неловко перед классным наставником, которого все полюбили. С их стороны было не по-товарищески так поступать, ведь ему теперь тоже попадет от директора.
— Не по-товарищески поступили по отношению к классному наставнику? — переспросил Чича, покачивая головой, и вдруг спохватился! — А Никола?
— Папа! До каких пор он будет для меня образцом для подражания? Я же сказала, что он выдал зачинщиков. Но потом мы заставили и его дать дневник. Видишь, я привела твой костюм в порядок, постарайся хоть завтра не измять его.
Чувствуя себя виноватым из-за костюма, Чича на какое-то время прекратил дальнейшие расспросы.
ВЕЧЕР НА КЛАДБИЩЕ
День клонился к вечеру. На вытоптанной поляне между крайними домами и молодой грабовой рощей мальчишки гоняли в футбол с той болезненной страстью, с какой все дилетанты и непризнанные мастера отдаются тому, к чему они, по их глубокому убеждению, имеют призвание. У одних на спинах красные цифры, у других черные. На большом прямоугольном пустыре сражаются старшеклассники и городские парни, а подальше, на круглой лужайке, играют, охваченные не меньшей страстью, мальчишки из начальной школы и младших классов гимназии. В воротах стоят два младших брата Станицы: как крестьяне во время революции, они оказались во вражеских лагерях. И стоит одному нарушить правила, как другой кричит, что скажет об этом матери.
Около играющих собрались зрители: школьники, просто прохожие, идущие домой, деревенские парни, остановилась от нечего делать какая-то девушка. Все болеют — кто со знанием дела, а кто из симпатии к игрокам. Зрители громко выкрикивают имена любимцев, дают советы, бранят за глупые промахи, потрясают кулаками, подпрыгивают на месте, хватаются за голову.
По краю поляны проходит широкая дорога, ведущая наверх, к кладбищу. По ней парами прогуливаются девочки, которые еще не доросли до прогулок по центральной улице, или молодые люди, ищущие уединения. Изредка тут появляются Станица и Слободан. Как только они показываются на дороге, братья Станицы бросают игру и некоторое время смотрят им вслед.
— Мама, почему так говорят: крутить любовь? — спросил однажды у матери старший из братьев.
— Это значит любить друг друга.
— Что я, маленький, это я и сам знаю. Мне непонятно, почему именно «крутить», как будто любовь можно взять и крутить.
— Спроси у Станицы, — ответила мать.
— Любовь не за что взять, — мудро добавил младший.
Вот и сейчас мальчишки смотрят, как сестра идет по дороге, как она останавливается на холме на фоне неба, освещенного заходящим солнцем. И другие пацанята смотрят туда же. Самый младший вдруг выпалил:
— Ага, ваша сестра любовь крутит!
— Неправда! — вспыхнул старший брат. — Те, кто любит, ходят обнявшись.
— Откуда ты знаешь? — заинтересовался тот.
— Я видел солдат с девушками.
Но вскоре ребятам надоело смотреть на Станицу, и они вернулись к игре.
Слободан между тем предложил Станице подняться до кладбища. И чтобы уверить и самого себя, будто он предложил это только ради прогулки, — там ведь очень красиво! — он не переставая говорил о школе, о Яковлевиче, об историке и о бюллетене.
Ребята обещали классному наставнику, что, если историк снова принесет бюллетень, они останутся в классе и будут себя вести, как на обычном уроке. Но Лаза, Станица и Слободан, сказавшись больными, не ходили в школу до тех пор, пока не узнали, что чтение бюллетеня состоялось. Им казалось, что таким образом они не нарушили обещание, к тому же они знали, что историк не слишком огорчится, не увидев их в классе во время чтения. И сегодня вечером они радовались, что Яковлевич ни словом не дал понять, будто ему подозрительна их внезапная болезнь, и сделал вид, что не слышит реплики Николы: все, мол, трое подхватили одну инфекцию. Всю дорогу Слободана преследовало желание взять Станицу за руку и помчаться с ней в гору, как они бегали в третьем классе, но по своему обыкновению он сдержал себя. Впрочем, он был рад уже и тому, что они шли по той дороге, по которой обычно гуляют влюбленные, что Станица вообще согласилась пойти с ним сюда, да еще вечером. Приятно было вместе молча любоваться крылатым заходом солнца; казалось, будто огненная птица прильнула грудью к холму, распустив хвост до половины неба и широко раскинув лиловые крылья под свежевспаханными полями.
На кладбище на старых еловых скамейках сидят юноши и девушки и тоже любуются закатом. Они молча слушают стрекотание кузнечиков. Станица и Слободан держатся чинно, словно за партой. Станица оперлась на правый локоть и смотрит прямо перед собой, словно на классную доску. А Стоян — он выглядит сейчас совсем взрослым, положил руку на плечо восьмикласснице, с которой пришел. На траве кучкой уселись мальчишки и девчонки из шестого класса и делают вид, будто не смотрят на них, а сами то и дело незаметно косят глазами и шепчут:
— Вот увидите, сейчас он ее поцелует, а она станет вроде бы его отталкивать.
— Почему — вроде? Ты думаешь, девушкам только и надо, что целоваться?
— А ты думаешь, нет?
Мальчишки быстро спускаются с высоты своих шестнадцати и семнадцати лет до тринадцати и начинают спорить, не столько для того, чтобы убедить в чем-то друг друга, сколько для того, чтобы дать выход энергии. Девочки, наоборот, с достоинством удерживаются на высоте своих только что достигнутых пятнадцати с половиной. Над дорогой, которая бежит вдоль спрятавшейся за вербами реки, розовеет в лучах заката взбитая пыль. Девочек как-то особенно волнует запах осенних роз на свежих могилах, закат солнца, пыль, превратившаяся в сверкающие драгоценности, и они чувствуют себя гораздо старше этих противных, вечно вздорящих мальчишек. Нет чтобы вместе с ними любоваться заходящим солнцем, наслаждаться звуками и ароматами, они ругаются, как глупые первоклассники, заглядывая друг другу в разгоряченные лица и нетерпеливо сжимая кулаки.
— Поцеловались! — вдруг гаркнуло двадцать мальчишеских глоток из-за зеленой изгороди, окружающей кладбище, и это напомнило спорщикам, из-за чего, собственно, разгорелся сыр-бор.
— Вот хулиганы! — загалдели девочки и сердито помчались к изгороди.
Восьмиклассница, сидевшая рядом со Стояном, вскочила, встал и он. Впрочем, его как будто не очень трогало внимание ребят, не смущали его и крики.
— Держись смелее! — сказал он восьмикласснице. — Они как собачонки — стоит испугаться, поднимут еще больший шум.
Потом он обнял ее за плечи и пошел прямо на мальчишек, которые выглядывали из-за ограды.
— Ну вы, молокососы, чего кричите! Станете взрослыми, тоже будете целоваться.
Один из мальчишек подождал, пока парочка, обнявшись, как на школьной сцене, отошла подальше, и крикнул вслед:
— Ты не взрослый, ты гимназист!
В группе ребятишек, бежавших за Стояном, Станица заметила братьев. Прутьями они взбивали пыль на дороге. Когда она окликнула их, они сделали вид, что не слышат, но все же свернули на луг — будто они совершенно случайно затесались в эту компанию.
Шестиклассников это происшествие вернуло в детство, и они побежали смотреть, чем окончится разговор Стояна с мальчишками. За это одноклассницы, которые и сами сгорали от любопытства, обозвали их молокососами, но все же с кладбища не ушли. Что теперь делать? Без мальчишек кузнечики стрекотали уже не так радостно, осенние розы уже не пахли так волнующе, солнце скрылось за холмом, а вспаханную землю словно напоил печальный чернильный дождь. Девочки задумались о кладбище, о смерти. Летом умерла их подружка, и теперь они спустились к ее могиле. Они словно слышали ее голос, слышали, как она отвечала урок по истории, все время повторяя: «И тогда... И тогда Стефан Неманя...»
Они хорошо помнили ее светло-каштановые кудри, отливающие золотом. Встречаясь в школе, девочки всегда обнимались и целовались с ней. А вот теперь ее нет, они же здесь ходят, смеются, а Стоян поцеловал восьмиклассницу... И опять волнующе заблагоухали осенние розы, запáх барвинок, а в стрекоте кузнечиков звенел ее чистый голос: «И тогда... и тогда я умерла...» На этот раз они испугались и, взявшись под руки, пошли домой.
Станица и Слободан остались одни, они бродили среди кустов и надгробий, которые в сумерках издали походили на страшных призраков, волков, орлов или огромных летучих мышей. Слободан снова выдержал короткую, но горячую схватку с самим собой. На одной из скамеек он увидел Тучу с какой-то девчонкой. Он подумал об Эмилии, и ему захотелось показать эту парочку Станице, но он тут же подавил в себе это желание. Это было бы не по-мужски и не по-товарищески. А не будет ли это нечестно по отношению к Станице: знать о чем-то и не сказать ей? Нет, нет, это было бы не по-мужски. Подло предавать человека, даже если он тебе не друг.
Вдруг на пригорке они заметили Яковлевича и Веру. Станица потянула Слободана за руку, и они сбежали вниз по узкой тропинке, ведущей в поле, не потому, что хотели спрятаться от учителей, а потому, что не хотели им мешать. В обоих вспыхнула ревность к учительнице и разочарование. Так бывает с детьми, у которых женится любимый дядя, а соседи, дразня их, говорят, что теперь дядя не будет больше их любить. Разве пара она ему? Он — стройный, с золотисто-каштановыми волосами, с насмешливо-грустным взглядом, с ясным лбом, за которым, кажется, можно угадать движение мыслей. А она словно вся вымеренная сантиметром, рот у нее никогда не открывается ни на миллиметр больше, ни на миллиметр меньше, брови всегда на одной линии, шов на чулке всегда безупречно прям, шаг всегда размеренный, все фразы одинаковой величины, и они никогда не обгоняют одна другую, как бывает у него, не пересекают дороги друг другу, не сбиваются в кучу, как облака, не сталкиваются, не высекают молний.
Как ему может нравиться такая недотрога и белоручка, которая боится взять в руки мел и губку, боится коснуться парты или плеча ученика. А может быть, она именно потому ему и нравится, что она такая недотрога и создана совсем не для того, для чего создан он?
— Влюбись он в тебя, мне было бы легче, хотя и это было бы для меня ужасно!
— Или в Ольгу! — с готовностью отозвалась Станица на его невольное признание, словно не заметив его.
Даже достоинства новой учительницы: то, что она аккуратна, никогда не опаздывает на уроки, каждый день надевает свежую блузку, не кокетничает при учениках, — потеряли в их глазах цену. «А впрочем, кто сказал, что он ее любит, — с тайной надеждой думали они. — С кем же еще ему пройтись, если не с ней? Не с учительницей же рукоделия или немкой?» Хотя они уже достаточно созрели для того, чтобы разбираться в исторических событиях, вплотную подошли к высшей математике, к теории образования земли и других планет, они искренне не могли понять, почему учителю мало Джюри Якшича и общества их, учеников, почему ему не хватает школы. Они решили никому не говорить, что видели Яковлевича вместе с Верой, им казалось, будто, говоря об этом, они еще больше укрепят эту неприятную им дружбу. Неожиданно Слободан по-мальчишески весело рассмеялся.
— Вот бы рассказать об этом нашей вертихвостке Ольге! Стоит матери на минутку выйти из соседней комнаты, как она сразу же начинает тараторить о Яковлевиче и выспрашивать меня, как я думаю, кого из ребят в нашем классе он больше всего любит и какой из наших групп симпатизирует.
— А ты случайно, по обычаю всех репетиторов, не влюбился немножко в свою ученицу? — с улыбкой спросила Станица, словно говорила с братом, а не с товарищем, который ей нравится.
— Да, особенно когда она начинает рассуждать о поэзии.
По нарочито серьезному тону ответа она поняла, что даже в шутку не надо было спрашивать об этом. И Станица вдруг ужасно развеселилась, что случается иногда даже с самыми серьезными и молчаливыми девушками, и принялась рассказывать, как ее младшие братья, узнав, что Слободан стал репетитором, прониклись к нему уважением. Теперь они спрашивают, на что он истратит деньги, когда Попович заплатит ему.
— Представь себе, что они, как это водится у господ, еще ничего мне не платили.
Они посмеялись и решили, что так бывает только в неудачных социальных романах.
— И точь-в-точь как пишут в таких романах, мама постоянно сидит в соседней комнате, чтобы видеть, не теряю ли я зря время.
Он тут же пожалел о сказанном и добавил, что, впрочем, она всегда занята там делом, к тому же он и сам предпочитает, чтобы кто-нибудь из домашних во время урока был поблизости: Ольга тогда гораздо внимательнее. К занятиям он подходил с полной ответственностью, во-первых, потому, что иначе не умел, а во-вторых, мать Ольги всегда находила случай напомнить ему, что его пригласили по рекомендации Яковлевича.
Разговаривая, они незаметно дошли до одинокого холмика у дороги, словно отставшего от длинной процессии, которая двинулась в вечность. На черном мраморном надгробье с трудом можно было прочесть полустертую надпись: «Йован Мишич, родился в 1868 г., погиб в результате несчастного случая на этом месте в 1900 г. Памятник воздвигла его супруга Милица». А под надписью, высеченной в камне, детская рука вывела мелом: «Вера любит Яковлевича».
Одним движением пальца Слободан стер корявые буквы с таким довольным видом, будто уничтожил сам факт. Уже смеркалось, и они молча устремились к городу. На полдороге из лесочка как будто совершенно случайно вынырнули браться Станицы, и младший из заговорщиков спросил сестру деловым тоном:
— А на кладбище зашло солнце?
— Конечно, разве ты не видишь?
— Пошли с ними! — тихо позвал младший старшего.
— Боитесь остаться одни в темноте? — улыбнулся Слободан.
Старший из мальчишек почувствовал себя настолько оскорбленным, что даже забыл о заговоре. «Мы боимся темноты? Видали такого? А почему мама Миши кричит старшей дочери, когда она идет гулять со своим кавалером, чтобы она возвращалась до захода солнца? И почему она велит Мише всегда поджидать сестру на дороге и идти вместе с ней, если будет уже темно? Он, конечно, знал, что темнота здесь ни при чем, все это для того, чтобы соседи думали, будто бы и Миша ходил на прогулку вместе с сестрой и ее кавалером. Так объяснила братьям мама, когда они рассказали ей о странной Мишиной обязанности. И почему только Миша должен сторожить сестру на дороге? Они тоже могут, Станица ведь тоже уже взрослая девушка, хоть еще и учится в гимназии. Вдруг соседи станут подглядывать из-за забора, с кем это она гуляет в темноте. Правда, мама запретила им вертеться около Станицы и ее товарищей. Но что мама понимает! У нее отсталые взгляды. И потом мама сказала: около Станицы и ее товарищей, а не около Станицы и Слободана».
— Не только детям, но и девушкам нельзя гулять после захода солнца, — запальчиво возгласил старший.
Станица и Слободан остановились и посмотрели на братьев, словно впервые их видели, не зная, похвалить их или выругать.
— Кто это тебе сказал, герой? — спросил Слободан.
— Мне никто не говорил, а Мише сказала его мама.
Выпалив это, он немного отстал, а потом оба зашагали следом, сохраняя почтительное расстояние и не обращая внимания на приказание Станицы сейчас же отправляться домой. Их Станица лучше, чем сестра Миши, все говорят, что она самая умная в школе, так почему бы им тоже не отвести глаза соседям! Ради нее они готовы и на большее! Они только будут делать это так, чтоб она ничего не заметила, она ведь тоже немного старомодная, вроде мамы, не знает, что говорят на улице мальчишки.
— Мальцы превращаются в настоящих сербов! — весело сказал Слободан.
Станица неприметно оглянулась: в руках мальчишек были прутья, и они сбивали головки репейников у заборов, делая вид, что больше их ничто не интересует. Потом наклонялись, подбирали на дороге круглые камешки и состязались, кто дальше кинет. Только таким образом им удавалось двигаться с той же скоростью, что и их временные подопечные. Поравнявшись с калиткой, они вбежали во двор — их миссия была выполнена. Миша тоже не сопровождал свою сестру на главную улицу, даже если солнце уже и зашло.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
На педагогический совет, который должен был начаться после уроков, Яковлевич пришел пораньше, но в учительской застал уже Жанетту и Чичу.
— Ну что? — спросил его старик, как обычно, при встрече. — Как дела в седьмом?
Чича делал вид, будто разбирает какие-то бумаги, а вопрос задал так, между прочим. Но когда Яковлевич ответил, что лучше и быть не может, старик заговорил с наигранным оживлением, стараясь заглушить боль от того, что ему пришлось отдать своих семиклассников другому:
— Видали! Лучше и быть не может, а у них что ни день — проступки и двойки. Разве они понимают, что учитель переживает больше, чем они сами?
О двойках он сказал из сочувствия к Жанетте, которая страдала из-за каждой плохой оценки. Разум и опыт подсказывали ей, что двойки она ставит правильно, и тем не менее она мучилась и непрерывно проверяла сама себя: может быть, она спрашивает чересчур придирчиво; может быть, ученик не подготовил только один урок, может быть, она дала ему мало времени или смутила внезапным вызовом? Потом она принималась сравнивать двойки разных учеников и наконец начинала проклинать себя за то, что выбрала профессию учителя. Бывали дни, когда недовольство собой заставляло ее даже проливать слезы, и все-таки, раз кто-то придумал оценки, поступать иначе она не могла, видно, сам черт, как она говорила, заставляет ее ставить двойки.
— Вот что значит доброе сердце! — сказал Яковлевич, с улыбкой глядя на удрученную женщину.
— А стоит мне поставить тройку, как тут же меня берет сомнение, — может, надо было поставить двойку? Я прямо заболеваю. С ума сойти можно.
Но и страдая, Жанетта не забывала поминутно смотреться в стекло шкафа, забитого минералами, инструментами, чучелами белок и барсуков, и поправлять волосы. Это несколько подымало ее настроение, но потом она снова начинала грустить. Сейчас она мучилась от того, что у Лазы, когда она отчитывала его, был ужасно смиренный вид, он не протестовал, не старался свалить вину на учителя, как это частенько случается с нерадивыми учениками. И Жанетта спрашивала себя — не случилось ли у него какой беды дома?
— В этом году у меня один раз был грипп, а у Жанетты — четыре раза приступы двоечной болезни, — продолжал Чича.
Он как сиделка утешал ее всякий раз, когда она заболевала, уверял, что в каждом классе приходится ставить, по крайней мере, три двойки, хотя он и сам ставит их неохотно: даже статистика утверждает, что из пятидесяти учеников хотя бы трое лентяи или неспособные к какому-нибудь предмету.
Стали подходить и другие учителя — кто с уроков, кто из дому.
— Дорогая Жанетта, — еще с порога закричала Гросмутер, — ваши сегодня просто сели мне на голову. Приструните их наконец как следует!
Жанетта защищалась: они еще маленькие, первый класс, — невозможно сразу приучить их к порядку. Разговор прервала учительница рисования, которая, в свою очередь, стала жаловаться все еще взволнованной Гросмутер:
— Ваши стали совершенно невыносимы.
— Почему это мои? Я им не мать, — сразу остыла Гросмутер, забыв о классе Жанетты.
— Не мать, конечно, но вы их классный наставник.
Яковлевич вспомнил, как дней пятнадцать назад, еще до случая с бюллетенем, учитель истории тоже влетел в учительскую в такой же ярости. Он натыкался на коллег, которые возвращались с урока, нагруженные классными журналами, линейками, циркулями, чучелами птиц и минералами. Пробившись к столу, он раздраженно швырнул на него журнал.
— Рассердились? — спросил математик, и глаза у него заискрились, как в те минуты, когда он спрашивал, ученика: «Не получается?»
— И это называется школа? Слободан Йокич читает на уроке вот что. — Историк бросил на стол книгу и, глядя на Яковлевича, пообещал: — С этим классом вы еще намучаетесь. Что же касается сегодняшнего эпизода, то я попрошу вас хорошенько в нем разобраться и наказать виновных.
Яковлевич тогда попытался оправдать ребят, объяснить, что во многом виноват возраст, что дети еще не умеют владеть собой, что в них пробуждается честолюбие, что они стремятся проявить свою волю. Но историк не мог успокоиться.
— Опять, видно, диктовал, вот ученики и читали под партами, — тихо сказал Яковлевичу математик, давая понять, почему на учителей гнев историка не производит особого впечатления.
Яковлевич тоже иногда замечал, что ученики под партой занимаются делом, не имеющим никакого отношения к уроку. Ему тоже бывало обидно, он тоже чувствовал себя униженным и незамедлительно, с поспешностью молодости подвергал себя строгому суду. Нелегко было признаваться в том, что ученик как бы отсутствует на уроке часто по его вине. И все же шум, поднятый историком, вызвал в нем протест, ему не хотелось наказывать Слободана. Математик и физик, казалось, разделяли его мнение, что конфликт надо было разрешить тут же на уроке: выругать парня, и дело с концом.
Потом ребята ему рассказали, что в тот день историк вошел в класс и, не поздоровавшись, начал диктовать. Поглядывая в окно, он медленно диктовал: «...в это время на австрийский престол вступает Фердинанд Второй...»
Одни торопливо строчили, другие читали под партой. Учитель видел, что некоторые ученики, не любившие истории, не пишут, но ничего им не сказал. И только когда заметил склонившегося над партой Слободана Йокича, воспринял это как пренебрежение к труду учителя и даже личное оскорбление. Историк в гневе сошел с кафедры и отнял у юноши томик в сером коленкоровом переплете — на нем было написано: «История нового времени», внутри же лежала книга «Волга впадает в Каспийское море». После этого все ученики, которые занимались тем же, мгновенно попрятали книги в портфели. Дивна видела, что это сделали и Никола, и Петар Эро, и Ольга, и Зора, и еще несколько человек. Однако историк потребовал дневник только у Слободана.
— Если бы вы что-нибудь объясняли, мне бы и в голову не пришло читать. Но зачем писать всем, хватит, если запишет человек десять, — сказал ученик.
— Слободан вообще никогда не препирается с учителями, но господин учитель смотрел на него с такой издевкой, — прибавила Дивна, желая смягчить классного наставника.
Тогда-то Яковлевич впервые близко познакомился и со своим классом, и с нравом учителя истории. Чтобы выручить Слободана или хотя бы разделить с ним наказание, человек двадцать отправились к директору и заявили, что не только Йокич, но и они тоже читали под партой.
— Разве мы могли допустить, чтоб страдал один, когда виноваты многие, — объяснял потом Яковлевичу Лаза.
— А пристало ли ученикам критиковать учителя? — вспыхнул Никола. — Господин учитель диктует потому, что у нас нет хорошего учебника. Ему было бы куда проще говорить быстро и предоставить нам самим выкручиваться из положения.
Вместо ответа Яковлевич спросил Николу, чем он занимался на том уроке. Класс затих, ожидая, что скажет Никола. После некоторого колебания он признался, что тоже читал.
— Тогда почему ты не признался вместе со всеми?
Мальчик ответил, что так уж заведено — все делают то, что запрещено, а расплачивается за всех кто-нибудь один.
— А если бы расплачиваться пришлось тебе? — упрекнул его тогда Яковлевич.
Милица покраснела, словно этот вопрос относился к ней, ей было стыдно, что из симпатии к Николе она тоже не пошла выручать Слободана. Покраснело и еще несколько человек. Неманя и Стоян просто пожали плечами.
И когда в тот день Яковлевич стоял, окруженный детьми, которые уже становились взрослыми, ему вспомнились лесные питомники. Совсем еще маленькими тополя предаются грезам, засматриваются на облака. Низкие грабы с морщинистыми листьями теснятся друг к другу, чтобы быть жилистее и выносливей. Дубки твердо стоят на земле и, хотя листья у них еще желто-зеленые, словно пронизанные солнечным светом, стволы темные и покрыты твердой корой. Трепещут нежные осинки. А как рано проявляют свой неровный характер вязы — начнут пускать ростки влево, а потом, словно передумав, пускают их вправо. Ясень выпускает побеги шестерками, и сразу после рождения братья расходятся по разным путям. Еще в питомнике ростки клена становятся оранжевыми, а кизиловый прут и смолоду не переломишь.
После этого случая в школе составилось мнение, что Яковлевич слишком мягок. Четверки по поведению, на которых настаивали историк и директор, показались Яковлевичу слишком строгим наказанием, особенно для тех, кто на самом деле не читал на уроке, а заявил, будто читал лишь из солидарности.
А историк стал относиться к нему если не враждебно, то, во всяком случае, подозрительно. Когда Яковлевич предложил объявить Слободану и всему классу лишь строгое замечание, он ядовито процедил: «Что значит молодость! Вы, Яковлевич, ведете себя как гимназист».
Пока Яковлевич предавался воспоминаниям, просматривая письменные работы, собрались все учителя. До начала заседания они делали последние записи в журнале, переговаривались с соседями. У матери Николы, которую ученики прозвали Ясикой [Ясика — осинка (сербохорватск.)], в глазах дрожали словно два голубых лепестка — казалось, радужка не срослась прочно с белком, и любое волнение может сдуть ее. Яковлевич только теперь заметил, что она как-то странно вздергивает голову, и увидел в этом отдаленные волны давней душевной бури. Она сидела, как и в тот день, когда он приехал сюда, склонившись над грудой листочков, и перебирала их, безуспешно что-то в них отыскивая; на щеках ее совсем по-девичьи горел румянец. Перекладывая листочки, она о чем-то возбужденно рассказывала учительнице рукоделия, которая и на совет пришла с вязанием на двух длинных спицах из слоновой кости. С языка Ясики не сходило слово «характер» — характер ученика, характер сына, характер ее бесхарактерного мужа, с которым она разошлась, когда Никола был еще маленький, — а сейчас она, кажется, говорила о характере директора. Обе женщины сидели против огромного окна, расчерченного на квадраты и ловившего ими небо. По-детски пухлые облака, озаренные солнцем, славно сговорились не пропустить в учительскую ни одного солнечного луча, и если одному из них удавалось перехитрить стражей и прорваться к земле, облака сбивались в кучу и тушили его, смеясь и кувыркаясь через голову. «А ведь они правы, — думал Яковлевич, — что не пускают сюда солнце. Стоит ему осветить это помещение, как еще виднее станет белая школьная пыль, оседающая не только на вещах, но и на лицах и волосах людей». И только Жанетта не позволяет пыли коснуться себя. Она и сейчас с другого конца стола крикнула Ясике, словно торопясь сообщить ей что-то важное:
— У вас волосы сегодня чудные! Чем вы их мыли? Оксиженом? Этот французский шампунь...
Услышав слова Жанетты, директор, увлекшийся беседой с математиком, вскинулся, как будто она сказала что-то непристойное, и призвал учителей к порядку: пора начинать. Щеки его, особенно дряблые книзу, опустились еще ниже и еще больше усилили его сходство с хомяком. Тем не менее все с удовольствием взглянули на светлые волосы Ясики, которым седина, пробивающаяся на висках, вернула светлые переливы молодости.
Глаза математика, единственные светлые точки на его лице, на котором словно отпечатались все линии, что он провел за свою жизнь линейкой и циркулем, с сочувствием улыбнулись матери Николы. Потом снова, став равнодушными, обратились на директора.
— Голосовать за то, чего не знаешь, — значит, не иметь характера, — вдруг неожиданно отчетливо прозвучал голос Ясики после минуты молчания, когда слышался лишь шорох бумаги. Учителя рассмеялись, словно шестиклассники. Так бывает в классе, когда вдруг в тишине раздается голос ученика, который вовсе не рассчитывал на то, что его услышат.
Даже бедняга директор криво улыбнулся, хотя и подозревал, что Ясика сделала замечание на его счет, и объявил заседание, посвященное школьной столовой, открытым. Чего бы только не дал в свое время шестиклассник Яковлевич за то, чтобы посидеть на таком школьном совете, а сейчас он даже струхнул. Надо было во что бы то ни стало отстоять ребят, которых по существующим правилам могли лишить права бесплатно питаться в столовой.
Уже через две недели седьмой класс, куда его назначили классным наставником, превратился для него из сорока имен и лиц в сорок жизней — увлекательных, трудных, легкомысленных или пустых. Глядя на Момчило, он видит не только загорелое лицо мальчика, много бывающего на воздухе, но и его коллекцию минералов, размещенную на некрашеной деревянной полке, которую ему смастерил Слободан Йокич, видит кровать, на которой спит Момчило, укрываясь красно-черным ковром, слышит ворчливый голос его матери: «Весь дом завалил камнями, только пыль собирает».
А потом он видит Момчило в летней кухне — он подбивает башмаки куском кожи со старых домашних туфель. Видит, как мальчик смущенно встает, извиняясь, что не мог прийти в школу, потому что башмаки вот запросили каши, а шел дождь. Видит его на экскурсии, когда тот прибегает в последнюю минуту с карманами, полными камней.
Он видит вечер учеников ремесленных школ и на нем Ольгу Попович вместе с родителями, хотя вечер был в тот день, когда она пропустила школу якобы по болезни. Он ясно видит среду, в которой и для которой растет Ольга. Видит заученную улыбку, с которой девушка пригласила его в коло [Коло — народный массовый танец (сербохорватск.).].
Он видит, как Слободан Йокич строгает под навесом доски и поет мягким, низким голосом: «Выхожу один я на дорогу...» Видит трехногие табуретки и солонки, которые мальчик сделал для соседей. На столе в его комнате лежат «Уроки русского языка» Кошутича, «Утопия», «Антидюринг» и много других книг.
— Я все люблю читать: от Жюля Верна до научных исследований, — говорит Слободан.
Он видит, как Станица рано утром, до школы, моет крапивой молочные бидоны, одновременно проверяя, хорошо ли брат выучил стихотворение. Видит на пороге дома ее мать; у нее такое же умное лицо, и она держится так же непринужденно, как Станица.
Он видит Станицу и Слободана у себя дома. Оба они припарадились для такого торжественного случая. Станица — в только что выстиранном и отутюженном школьном халатике; Слободан — подстрижен, лишь на лбу вьется черная прядь. Предлог зайти к нему у них был: учитель забыл на кафедре свою ручку, и Слободан, дежуривший в тот день, прибрал ее. Ручку они показали ему еще на пороге и, не ожидая приглашения, с интересом вошли в комнату. В этой комнате им приходилось бывать и раньше, здесь жил их товарищ, который уехал, как объяснили они ему, в Учительскую школу. Комната осталась прежней, новой была только книжная полка. Станица быстро пробежала взглядом по корешкам — большинство книг было по филологии. Яковлевич сразу понял, что они пришли не только из-за ручки, и предложил им сесть. Станица попросила у него книгу Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке», сказав, что им советовал прочесть ее брат Эмилии.
— У меня ее нет, — ответил он.
Помнится, он почувствовал неловкость от того, что у него нет этой книги, а Станица смущенно призналась: она так и предполагала, что он не сможет давать им такие книги.
— Не в этом дело. У меня в самом деле почти нет такой литературы. Я в основном занимался своим предметом. — И снова, он это хорошо помнит, ему стало стыдно, словно он их в чем-то обманул.
Смуглое лицо юноши вытянулось от удивления, и он произнес, не скрывая разочарования:
— Как наша Дивна!
— А мы со Слободаном хотим стать коммунистами, — поспешила поставить его в известность Станица.
Его поразила их юношеская откровенность и тронуло их доверие. Он задумался: видимо, надо им сказать о том, какие опасности их ждут в школе и потом в жизни, если они встанут на путь борьбы. Видимо, его долг заключается именно в этом. Долг воспитателя — да, сразу ответил он себе, но по-человечески он согласен с ними. Впрочем, у них был вид вполне зрелых, разумных, хладнокровных людей, поэтому он сказал просто:
— Ученики всегда идут дальше учителей.
Слободан почти прервал его, несколько растерявшись от собственной смелости:
— Но лучше всего, если они поведут с собой и учителей.
Яковлевича удивили и обрадовали эти слова, и чтобы Слободан зря не смущался, он обнял его за плечи и оказал:
— Меня бы не удивило, если бы такие ребята, как ты и Станица, в самом деле повели меня за собой.
Потом он вытащил из глубины полки известный роман Горького и протянул им книгу с таким выражением, словно хотел сказать: «Все-таки у меня есть книга и для вас».
Оставшись один в комнате, он даже засмеялся при мысли, что сказала бы Вера, услышав этот разговор. И еще больше развеселился, подумав, что он сам, верно, похож на этих ребят, если решил освободить из клетки вековых предрассудков запертую там девушку и заставить ее сердце хоть немного оттаять.
Потом он видит, как Дивна хозяйничает в доме, как она чинит рубахи Чичи, как смущается при его неожиданном вторжении, как ей неловко за отца, который в залатанном халате проверяет тетради. Он видит, как ей неприятно, когда Чича говорит: «Видали? Двойная инспекция. Конечно, у Дивны много хлопот по хозяйству, но известно, что лучшие люди вырастают из тех, у кого было трудное детство и юность».
И Лаза для него не просто румяный Лазар Томич, который сидит через проход от Зоры и Ольги, а самый старший в семье, где еще пятеро детей. Дом их стоит у самой железной дороги. В окна его можно видеть красные вагоны поездов, флажки железнодорожников, султаны дыма, любопытных пассажиров неторопливых местных поездов и таинственные спальные вагоны экспресса София — Белград — Рим — Будапешт.
И Милица не просто ученица с хороводом троек в дневнике, а еще совсем молоденькая девушка, которая должна до ухода в школу приготовить обед, после обеда вымыть посуду, убрать в доме, вечером полить огород и все свободное время качать маленького братца.
Неманя не просто высокий юноша, сидящий недалеко от Николы, и Николин сторонник, каким он предстал перед учителем, он еще и сын садовника, который полдня не очень прилежно учится в школе, а другие полдня весьма прилежно трудится в саду, помогает отцу таскать корзины с фруктами на базар и в конце базарного дня считает выручку.
Зора не просто добродушная и толстощекая соседка Ольги по парте, она легко поддается любому влиянию, и самое сильное из них — Ольги. Дом Зоры, видимо, всегда полон гостей, как было тогда, когда он, обходя своих учеников, попал к ним, и все они ярые защитники устоявшихся обычаев и доброго старого времени.
И Стоян для него не просто ученик, который сидит за одной партой с Николой, а юноша трезвого ума. Он сын торговца молоком, и отец уже видит его врачом с большой практикой и потому не жалеет денег на его образование. Стоян не только на словах стоит за верность традициям, он живет по этим народным обычаям, с трогательной почтительностью относясь к старшим.
И Никола не просто вздорный самолюбивый мальчишка, который всегда и во всем пересаливает. Это он на вопрос классного наставника: почему он не признался, что тоже читал на уроке, хладнокровно ответил: «Так уже заведено, все делают то, что запрещено, а расплачивается за всех кто-нибудь один». Это он с вызовом спрашивал, намекая на Слободана, пристало ли ученику критиковать учителя. Но у того же Николы на полке стоит не меньше двадцати книг по истории сербов и славян — от Иречека до Станое Станоевича, и он в самом деле верит всем россказням, которые слышит в Клубе сербской культуры, и искренне переживает их.
О Петаре Эро [Эро — персонаж фольклора, отличающийся хитростью и смелостью, родом из Ужичского края.] Яковлевич знает, что он из Косьерича, что особой сообразительностью он не отличается, а свое прозвище получил только потому, что происходит из Ужичского края. Сердцем Петар тянется к Николе, но ему кажется более порядочным и героическим быть с Лазой и Слободаном.
И сейчас, сидя на заседании, Яковлевич видит каждого из них отдельно — и такими, какими он их заставал дома, и такими, какими знал в классе, и такими, какими встречал в других местах. Седьмой класс для него не был простым перечнем имен, как для директора, который как раз в это время взял классный журнал. И вовсе не сборище отъявленных бунтовщиков, какими они представляются историку. С тяжелым сердцем Яковлевич поставил им в дневники тройки по поведению за отказ присутствовать на чтении бюллетеня. Слишком преждевременным и весьма произвольным казалось ему это разделение учеников на коммунистов и националистов, которое, однако, и сами ребята, и учителя принимали как факт. Характеры гимназистов уже, правда, определились, молодые силы требовали выхода, борьбы; но, думал Яковлевич, если пытаться насильно отвратить их от того, что им дорого, оно станет для них наверняка еще дороже.
Между тем даже тройки, которые доставили ему столько переживаний, были, по мнению директора и учителя истории, чересчур мягким решением вопроса. Создавалось такое впечатление, что они оба считают и его как-то подозрительно замешанным в этой истории всего лишь на том основании, что он настаивал на смягчении наказания.
— В течение каких-нибудь двух недель два серьезных срыва, а вы упорно продолжаете их защищать! — начал кричать директор. — Пусть расплачиваются и за то, что им простили, раз они это не ценят!
В школьной столовой из класса Яковлевича бесплатно питалось четверо. По решению классного совета, все четверо, несмотря на тройки по поведению, были и впредь оставлены в ней, так как по всем предметам имели отличные отметки. Однако перед самым заседанием педагогического совета в журнале против фамилий Слободана и Момчило вдруг появились тройки по истории, что, естественно, осложнило дело. Хотя классный наставник не был из людей подозрительных, неожиданные тройки его насторожили. До сих пор Яковлевич был уверен, что даже худший из учителей не может сознательно желать ученику зла. Но когда он увидел эти тройки, он впервые в жизни заподозрил учителя. Как могло произойти, что именно эти ребята получили тройки и именно по истории? Да еще и перед самым советом? Пусть даже они сегодня не знали урока или отказались отвечать просто из упрямства, нельзя было, по его мнению, лишать ребят столовой.
Директора, однако, больше всего интересовали отметки Ольги; возвращая журнал Яковлевичу, он заметил с явным облегчением:
— Я вижу, дочь Поповича исправила оценку по истории.
— Это папа исправил, а не она, — проворчала Гросмутер.
Позже Яковлевич сам удивлялся, как ловко он после замечания директора перевел разговор на тройки Слободана и Момчило, сравнив их с оценкой Ольги. Сначала он спросил историка, не случайны ли эти неожиданные тройки у двух таких сильных учеников. Или, может быть, это наказание за что-то другое, и тогда это не должно влиять на право ребят питаться в бесплатной столовой.
— Пока не выучат, тройка у них будет стоять. Тем более что в ближайшее время я не собираюсь их вызывать.
Видя, что его любимцы в опасности, математик тоже взвился и заявил, что, если преподаватель заупрямится, совет имеет право повысить хорошему ученику оценку до четверки— ведь исправляем же мы каждый день двойки на тройки слабым ученикам! Учителя стали оживленно перешептываться. Облака на мгновение разошлись и пропустили несколько лучей, чтобы осветить напряженные лица учителей. Один из лучей упал на директора и показал его всего, словно просветил изнутри. «Историк не глупый человек, — было написано на его лице, — и если он поставил тройки способным ученикам, которые до сих пор не хромали по истории, стало быть, у него были на это веские причины. Если хочешь питаться на казенный счет, думай, что делаешь. Йокич — это ведь тот, что знает русский, что читал на уроке. Раз ты заинтересован в столовой, будь любезен, позаботься об этом сам».
Еще немного, и настроение директора заразило бы большинство, но Яковлевич быстро и раздраженно спросил, глядя историку прямо в глаза, знает ли Ольга предмет лучше, чем Момчило и Слободан? Историк вспыхнул и не к месту сказал, что, если она даже и хуже знает, то, уж во всяком случае, не бегает на свидания. «Сейчас в нем и следа не осталось от того человека, который словно выглянул из него на мгновение на славе», — подумал Яковлевич.
— Разве холостяки имеют что-нибудь против любви? — ядовито отозвалась Гросмутер и добавила спокойно: — Пусть уж лучше ученицы бегают на свидания, это им больше пристало, чем крутятся на танцульках, как Ольга, а потом папа сообщает, будто она больна.
— На танцульках? — удивился директор, видимо, вполне искренне. — На каких танцульках, ученических или еще каких?
— Да, танцует себе девица и нас вокруг пальца обводит, — через плечо заметила Жанетта. — И если признать справедливой ее тройку, то тройки этих двоих, видно, тверже четверки.
Замечание Жанетты математика убедило окончательно, и он подтвердил, что все, конечно, относительно. К нему тотчас же присоединился физик, а это поколебало и директора: на педагогических советах он обычно принимал сторону преподавателей точных наук. У членов совета отлегло от сердца, так как этих юношей, помимо того, что они просто были симпатичными, все любили и за их исконные ученические добродетели: они были серьезны, не курили, отлично учились, хотя и жили в трудных условиях. Учителя в конечном итоге всегда учителя, постепенно отличная оценка становится для них свидетельством многих других добродетелей ученика.
Она означает, что у того, кто ее получил, есть и ум, и совесть, и любознательность, что он любит свою страну и знает, чего хочет. Наконец историк согласился на требование совета, хотя и не удержался от иронического замечания в адрес Яковлевича:
— Что значит молодость!
В начале спора у историка было какое-то обиженное выражение лица, он и перед коллегами занял такую же оборонительную позицию, как перед учениками в классе. Но, согласившись повысить оценки, он словно оттаял и снова начал походить на хитрого крестьянина.
— Я, видите ли, от этих двоих требую гораздо больше, чем от Ольги, и поэтому ей за меньшие знания ставлю тройку. И думаю, что такой подход правильнее вашей математической относительности. Кроме того, я требую от них и большей учтивости, чем от Ольги, — ведь они умные ребята.
Яковлевич заметил, что и у других сильных учеников оценки по истории стали ниже и лишь немногим отличались от оценок слабых. Такая снисходительность историка к слабым ученикам объяснялась, возможно, тем, что он чувствовал себя с ними безопаснее, так как видел в них больше доверия и уважения к своим знаниям. А ощущая свою нетвердость в предмете, который не был его настоящей специальностью, он боялся, как бы шаткость и неуверенность его знаний не заметили сильные ученики. А может быть, эти лучшие уже успели показать ему, что по поводу некоторых исторических событий у них другое мнение. «Во всяком случае, — думал Яковлевич, — его грубость и заносчивость объясняются неуверенностью в себе. А ведь он, как это было особенно заметно на славе у Ясики, может быть и мягким и снисходительным».
По довольному лицу старого служителя, принесшего кофе, которым Гросмутер угощала коллег, было видно, что ему известно, чем окончился совет. Старика-служителя Жанетта называла волшебником: не подслушивая, он всегда знал о том, что происходит за дверью учительской; не заглядывая в журналы, знал о всех двойках и пятерках; не шпионя за новыми учителями, он мог сказать, когда они стали вместе ходить на прогулки. Жанетта считала, что в знании людской психологии он может поспорить с любым романистом. Однажды она слышала, как он рассказывал на базаре какому-то своему знакомому: «Спорят, ругаются, словно дети малые; каждый защищает своих и нападает на чужих, но потом все равно помирятся, простят ребятам провинности, исправят отметки. А ученики, мошенники, знают, что так будет, им все нипочем!»
После кофе классные наставники еще немного поспорили. Кто действовал убеждением, кто — уговором, кто — угрозами, но все добились того, что их любимцев оставили в столовой.
— Вы сияете так, словно одержали бог знает какую победу! — с искренним недоумением сказала Вера Яковлевичу после конца заседания.
— А вы разве не рады?
Нет, она не столько радовалась, сколько боялась, что он испортит отношения с директором и историком.
«Возьмут, — думала она, — да объявят левым — ведь каждый раз получается так, что он защищает левых учеников. Директор может сообщить в министерство. Да и сам Яковлевич с его характером может увлечься идеями своих подзащитных и из-за этого отойти от нее, потому что рисковать она не любила даже ради достижения справедливости. Он может увлечься и какой-нибудь ученицей, это будет замечено, и его переведут в другой город — и все из-за чего? Стоит ли наживать неприятности ради дружбы с учениками?»
Тревога Веры и мучила и радовала его. Как освободить ее из этого кокона, пусть и шелкового? Когда наконец выпорхнет та бабочка, которая, как ему кажется, заключена в этот кокон?
— Дайте я сниму с вас оболочку. Она мешает мне подойти к вам ближе.
Она покраснела и взглянула на белые рукава своей фуляровой блузки, застегнутые у самого запястья. Гросмутер окинула взглядом молодых учителей и решила, что все поняла. Слава богу, наконец-то и к ним залетела ласточка! Теперь она преобразит учительскую!
И другие женщины принимали участие в молодой бледнолицей девушке. Когда молодые люди были в учительской, учительницы или находили предлог для того, чтобы оставить их одних, или делали вид, что заняты своими делами и не слушают, о чем они говорят. При случае присматривались, насколько он выше ее ростом, заглядывали в его личное дело, чтобы узнать, намного ли он старше, наблюдали в окно, пошли ли они в парк или просто по улице, словом, как девочки куклами, забавлялись их дружбой и следили за тем, как развиваются их отношения.
На этот раз Вера и Яковлевич вышли из учительской первыми, и Жанетта улыбнулась физику:
— Ну как вам нравится идиллия?
— Какая идиллия? — спросил физик, который не выносил подобных слов и подобных намеков.
— Коллега знаком только с наклонными плоскостями, — обиженно бросила Гросмутер.
— В таком случае, коллега, не обратили ли вы внимания на то, что наши молодые люди идут по наклонной плоскости? — продолжала Жанетта.
Но физик не сдавался, уверяя, что лишь за недостатком сенсаций они придумали, будто бы между молодыми людьми «возможен брак». Но даже если бы он думал иначе, он ни за что бы в этом не признался — настолько претила ему эта женская склонность вмешиваться не в свои дела.
— Не с Ничей же ей гулять! — присоединился к нему математик.
— То же самое и мы говорим, — оборвала их Ясика, которой разговоры мешали работать, и радужки глаз ее затрепетали от нетерпения.
ЗАПРЕЩЕНИЕ «СВЕТА»
Жанетта болела уже четвертый день, французского не было, и Станица устроилась в одном из кабинетов, чтобы отобрать работы для чтения в Литературном обществе и для журнала «Свет». Снова перед ней рассказ Николы. Рассказ взволновал Станицу. Как всегда, Никола выкопал откуда-то случай, который удивляет, возмущает и кажется маловероятным. Девочка лет восьми из православной семьи, находясь в гостях у родственников, зашла в католическую церковь, повествует автор, не скрывая симпатии к девочке, которой безразлично, в какую церковь зайти, и подчеркивая терпимость среды, в которой она росла. Увидев в церкви своих ровесников, пришедших вместе с учительницей, девочка подошла к ним. Учительница хмуро взглянула на нее и сказала: «Ну-ка, отойди от наших ангелочков!» Девочка в слезах убежала к своим и заявила матери, что никогда больше не пойдет к родственникам.
Станицу возмутило, что Никола, ополчаясь на учительницу, не видит главного виновника. Работая над рассказом, он, по-видимому, совершенно забыл о том, что говорил о католической церкви на уроке истории дней десять назад. Станица снова перечитала рассказ, пытаясь небольшими изменениями придать ему другое направление. В конце концов она решила принять рассказ для чтения на заседании Общества и, если согласится Яковлевич, послать его в «Свет».
Еще больше мучений у нее было со стихами. Целых десять стихотворений было посвящено осени, и почти в каждом попадались строчки о печально щебечущих птицах или желтых опадающих листьях. Что делать с ними? Вдруг ей пришла в голову счастливая мысль: пусть-ка на следующем заседании прочтут все десять, может быть, это отобьет у поэтов охоту писать такие стихи. Станица предпочитала, чтобы поэзия говорила о людях и об их страданиях. Рассказы отличались большим разнообразием, во всяком случае авторы их писали о том, что сами пережили, поэтому она гораздо больше любила иметь дело с прозой. Она с удовольствием читала рассказы о встрече с волком или лисой, которые обычно писали ребята из деревни. Но на этот раз проза в основном состояла из описаний путешествий и почти каждый второй рассказ начинался фразой: «Наконец-то наступил этот долгожданный день», которую она, словно исправляя домашние работы, перечеркивала красным карандашом.
В сторонке лежало стихотворение Ольги; его передал ей Никола вместе со своим рассказом. Станице страшно не хотелось за него браться. Рассказов Николы она тоже боялась, но как-то по-другому: они хоть были грамотны, в них было чувство — ведь он писал потому, что сгорал от желания выразить свой протест, возмущение или восторг. А Ольга ударилась в поэзию, надеясь таким образом вырасти в глазах ребят и учителя. Станица осторожно развернула листок, прочла несколько строчек и отложила: стихотворение Ольги тоже начиналось с печально щебечущих птиц. Потом она взяла себя в руки и дочитала стихи до конца, сожалея, что приходится тратить на это время. Девочки и мальчики, которые приносили ей рассказы, обычно принимали отказ спокойно; было, правда, немного обидно, как бывает, когда неудачно напишешь контрольную, но никто, как правило, не обижался. Но как объяснить девушке, у которой самое хорошее платье в классе и у которой папа, по мнению Зоры, может все уладить и все испортить, как объяснить этой девушке, что самое хорошее стихотворение написала не она?
Вдруг из кипы листков выпал еще один — большой и густо исписанный. Станица с досадой подумала, что это опять чьи-то неудачные стихи, но уже с первых строк пришла в хорошее настроение. Стихотворение восьмиклассницы с волнующим названием: «Неужели никто не может уйти от смерти?» — говорило о бомбардировке Польши. Девушка предупреждала о приближении самолетов и торопила стариков и детей спрятаться в убежища, но у них от страха отнимались ноги, и самолеты настигали их на улицах и в полях. Она умоляла столетние ели бежать, но они крепко вросли в землю и падали, словно пораженные громом. Она безуспешно заклинала памятники, школы, церкви и дома: «Спрячьтесь!» — но налетали тучи самолетов, и в одно мгновение бессильные строения превращались в пожарища. В конце она просила море хлынуть на опустошенную землю, чтоб схоронить жертвы. Станица безо всяких колебаний решила прочесть это стихотворение в Обществе. Поэтессе, конечно, не хватало боевого духа, но Станица радовалась, что сможет прочесть работу девушки, которая, по общему мнению, принадлежала к националистам, и тем самым доказать свою беспристрастность.
На перемене в кабинет вбежал Лаза.
— Пришел наконец печальный день, когда тебе надо читать работы! Что это я хотел сказать?.. А, да... Ты видела мое стихотворение?
— О птицах, которые печально щебечут?
— Нет, о девушке. А что это ты так ополчилась на бедных печальных птиц? Я тоже, если бы писал об осени, обязательно их увековечил.
— Ты ничего не понимаешь в поэзии. Послушай, пошел бы ты на то, чтобы из каких-либо соображений прочитать скверное стихотворение Ольги на заседании?
— Конечно. Чтобы посмеяться.
— Уходи, с тобой невозможно серьезно разговаривать.
Лаза шутил, и все же было видно, что он неспокоен, что ему хочется о чем-то поговорить, но он не решается. Наконец он бросил взгляд на кучу ученических работ, на Станицу, еще раза два спросил себя: «Что это я хотел сказать?» — и ушел. Станица едва успела собрать работы и запереть их в ящик. Раздался звонок. Когда она вошла в класс, все ученики уже были на местах.
Едва Станица села за парту, как вместе с историком вошел служитель и сказал, что ее вызывает директор. «Вызов к директору ничего хорошего не предвещает», — подумал учитель и победоносно взглянул на Станицу, хотя он и не знал, зачем ее вызывают. Некоторых учеников, по его мнению, надо бы таскать к директору по три раза в день, чтобы припугнуть хорошенько. Но Станица была спокойна: вызывает так вызывает, и у директора есть свои обязанности. Жизнь идет по своим законам, обусловленным разными причинами, но в будущем она станет такой, какой ее хотят видеть лучшие и сильные. Станица верила в это со всей силой молодости. И в школе она понимала даже тех учителей, которые были совершенно чужды ей по духу, знала, почему они не такие, как она, и немного жалела их, но не настолько, чтобы из-за этого отказаться от своей веры и от того, что ей было дорого.
Станица вошла в кабинет директора и, пока он кончал что-то писать, осмотрелась. Здесь царили чистота и порядок. Не пахло ни табаком, ни мелом, ни губкой. Книжный шкаф жил, по всему было видно, что книги, стоящие в нем, директору нужны, и он читает их. На краю письменного стола стояла ваза с мелкими осенними розами. Станица в глубине души почувствовала уважение к директору. Вот и у этого человека, всеми своими корнями связанного с прошлым и свыше всякой меры запуганного законами, есть какая-то струнка, позволяющая ему быть директором школы.
— Садись, — указал он ей на кресло, в которое обычно усаживал важных гостей из города.
«Ого, — подумала Станица, — разговор будет длинный», — и без лишних слов села на предложенное ей место.
— Ты в школе занимаешься «Светом»?
Станица кивнула головой и чуть было не улыбнулась: ей пришло в голову, что Попович, наверное, на нее пожаловался — почему она не принимает Ольгины стихи? Но директор держался так торжественно, строго и серьезно, что она быстро отбросила это предположение.
— Сегодняшней почтой я получил из министерства уведомление о том, что журнал «Свет» запрещен и что ученики средних школ впредь могут сотрудничать только в журнале, который будет редактировать лицо, утвержденное Министерством просвещения.
Станица молчала, словно не понимала или не верила своим ушам. Тогда он несколько мягче и как бы доверительно добавил, что молодежная редакция «Света» не оправдала доверия государства, обнаружилось, что самостоятельно она работать не способна, а ученики еще жаловались, что у них слишком мало самостоятельности. Это объяснение показалось ему самому недостаточным, и он сказал, что на страницах журнала проводились идеи, которые министерство одобрить не может; какие это идеи, он не уточнил.
Слушая директора, Станица внимательно следила за ним. Говорил он довольно сдержанно, не кричал, не обвинял лично ее в том, что она не оправдала доверие государства, старался разговаривать с ней отечески, не проявлял и тени злорадства, но потом она вдруг забыла обо всем этом, поняв наконец, насколько ее и всех товарищей касается то, о чем сообщил директор.
— Запретили, значит, — сказала она, словно просыпаясь. — Хорошо, я подумаю, что теперь делать...
Директора необыкновенно удивили слова Станицы и ее спокойствие, и он поспешил прервать девушку, чтобы она не сказала чего-нибудь такого, что удивило бы его еще больше и за что бы ее пришлось наказать, а ее он как раз меньше всего хотел наказывать. И вообще он был недоволен тем, что в последнее время ученики, которых он особенно высоко ставил и к которым интуитивно испытывал наибольшую симпатию, совершали самые тяжкие проступки. Почему именно самые прилежные, самые способные ребята в классе, огорчался он, заражаются этими чертовыми идеями, за которые школа должна карать. Взял бы да и заразился ими курильщик Светолик, лентяй Неманя или какая-нибудь из тех девчонок, что с пятого класса завивают волосы, таких и наказывать не обидно, можно даже и выгнать. Надо же, чтобы это была обязательно Станица, девушка, которую весь город любит и считает самой примерной ученицей.
— Теперь уже поздно думать, — сказал он ей. — Но разве тебе из Белграда еще не написали?
— Нет. Они, вероятно, сейчас стараются изменить это решение, и им не до писем, — ответила она, как будто бы человек, с которым она разговаривала, ее единомышленник и его не может удивить, что она так думает и говорит, и ушла, оставив директора в смущении.
Узнав о запрещении журнала, ученики из враждебного лагеря возликовали. Им казалось, что в журнале чаще печатали работы левых, затрагивали вопросы, которые были ближе левым. Поэтому они сочли вполне естественным, что запрещен журнал, который выступал против существующего государства, против религии, против монархии, против многого, что для них оставалось дорогим и неприкосновенным. Большинство ребят — тихие, сдержанные и тактичные — старалось не показать свою радость, но находились и такие, что поддразнивали:
— Ну, теперь пришел черед «шовинистов» и «реакционеров», как вы их называете.
— Доигрался ваш «Свет»! Благами-то государства пользуетесь, а под него подкапываетесь!
— Недолго вы властвовали, — атаковали третьи. — Теперь Никола станет редактором нового журнала!
— Что это я хотел сказать? — добродушно отзывался Лаза. — Ах, да... Бог полюбит, так не погубит!
Вечером, когда все собрались у Эмилии, Стеван сказал:
— Ну, школяры, теперь посмотрим, на что вы способны!
Дивна испуганно молчала. Все время, пока Лаза читал письмо знакомого восьмиклассника из Крагуеваца о том, что после запрещения «Света» они начали собирать подписи под протестом, который пошлют Министерству просвещения, она думала: «Пусть уж лучше не будет журнала, чем подписываться под протестом. Что скажет Чича! Ведь если они тоже решат писать протест, разве она сможет под ним не подписаться? Ее назовут предательницей, трусихой и, что самое обидное, ребеночком».
— Посмотрите, как малышка струхнула! — показал на нее Стеван. — Что, папы испугалась?
Эмилия строго взглянула на брата, пропустив мимо ушей его замечание, и усадила именно Дивну писать то, что они общими усилиями составят. Дивна послушно села, ото всей души желая, чтобы в письме не было ничего неподобающего школьникам, не было, как бы сказал Чича, политики. Сама она дрожала от страха, но в то же время не могла не восхищаться товарищами, которые говорили о письме спокойно, словно об очередной контрольной.
Когда черновик был готов, Лаза прочитал его. В его чтении — а он актерски подчеркивал особенно важные места — письмо показалось Дивне еще более страшным.
— Мы не можем допустить... — начал он, глядя прямо на нее.
Дивне немедленно захотелось тут же заболеть, чтобы не подписывать эту страшную фразу. Ну, а если она все-таки подпишет, хорошо бы сразу же после этого схватить воспаление легких и болеть до тех пор, пока Чича не перестанет сердиться.
— А сейчас, Дивночка, тебе предстоит еще один небольшой экзамен: должны ли учителя знать об этом письме, прежде чем вы соберете подписи и отправите его? — спросил Стеван.
— Лучше всего, если бы они ни сейчас, ни после о нем не узнали, — вздохнула девочка и прибавила, словно оправдываясь, что она никогда не рассказывает Чиче об их делах.
Лаза сказал, что она талантливый дипломат и конспиратор, и это немного развеселило ее.
— А Яковлевичу? Ему-то показать можно?
Но когда Дивна услышала, что Яковлевич на два дня уехал в Белград, когда у нее пропала последняя надежда, что удастся остановить отправку протеста, она поставила свою подпись сразу после Эмилии, Слободана и Станицы. Лаза шутливо закричал:
— Смотрите! Теперь она лезет вперед меня. А что, если мы поручим тебе еще и подписи собирать?
Станица оборвала его: подписи собирать будет она сама как уполномоченный «Света». К тому же все надо сделать быстро.
В девушке сочетались честность, смелость и здравый смысл. Уверенная в том, что она не делает ничего плохого, Станица на следующий день начала спокойно собирать подписи. В первую очередь она все же подходила к тем ребятам, которые умели держать язык за зубами, которые хорошо относились и к ней и к журналу и работы которых печатались в «Свете».
Восьмиклассники из враждебного лагеря быстро пронюхали о письме и стали агитировать против протеста.
— Не давайте левым водить себя за нос, — убеждали они, особенно энергично наседая на младших. — Когда надо напечатать что-нибудь патриотическое, Станица объявляет это шовинизмом, а когда надо спасать ее журнал, так она зовет вас на помощь.
— Это не только ее журнал, — возразил Иосиф.
— И твой, конечно, ведь тебе она два раза составила протекцию, — некрасиво нападал парень из восьмого на шестиклассника.
Иосиф покраснел и сказал, что его стихи, он надеется, сами составили себе протекцию.
— Если они не наберут достаточно подписей, они не пошлют свое прошение, они ведь сами не решатся, — подхватил другой восьмиклассник. — Они же всегда так — им главное впутать побольше народу в то, что касается только их.
Шестиклассники сопротивлялись, утверждая, что судьба «Света» их тоже интересует, что они любят читать журнал и что один из них напечатал в нем три патриотических стихотворения.
— Ну, если вы такие глупые, пусть вас дурачат. Сразу видно, что вы еще сопляки. Что ж, таскайте за других каштаны из огня.
И на другом конце коридора кто-то из старших учеников подзадоривал младших:
— Ну да, когда им нужна помощь, так они зовут вас в товарищи. Посмотрим, будут ли они вас печатать после того, как победят. Да к тому же и рискованно такие письма подписывать.
Но число подписавших росло с каждым часом. Все, что опасно, облечено тайной и делается потихоньку от учителей, спокон века привлекало учеников. Особенно польщенными чувствовали себя члены Литературного общества из младших классов и вообще младшеклассники — ведь их зовут на помощь! Им казалось, что любое дело, связанное с Литературным обществом и журналом, поднимает их до уровня взрослых юношей и девушек, чуть ли не выпускников. Когда Никола, как бы между прочим, спрашивал, о чем говорится в письме, которое они подписали, ребята угрюмо отвечали, что это его не касается. Заметив, что Станица собирает подписи втайне от учителей, они с видом заговорщиков предупреждали ее, когда поблизости показывался кто-нибудь из ябед.
На последней перемене, когда Станица решила, что подписей достаточно, к ней подошел Никола.
— Берегись, ты у меня теперь в руках! — пригрозил он.
— У каждого есть право бороться за то, что близко его сердцу, — ответила она спокойно, убежденная, что он только пугает и вряд ли решится на что-нибудь скверное.
— Чего же ты тогда одна не борешься?
— Я никого не принуждаю, просто у меня много единомышленников. Тебе же я не предлагала подписывать.
— Ничего бы из этого не вышло.
— Ну, вот мы и квиты.
На последнем уроке все сидели с горящими щеками и сверкающими глазами, у всех был отсутствующий вид. Одни думали над тем, что теперь самое главное отправить письмо и как бы им не помешали прежде, чем оно попадет в почтовый ящик. А там будь что будет! Другие досадовали на то, что Станица у них под носом осуществила то, что задумала, а они не смогли ничего сделать. Глядя на их задумчивые, по-взрослому сосредоточенные лица, Гросмутер спрашивала себя: «Неужели это те самые ребята, которые как угорелые носятся на перемене», — и, растрогавшись, решила, что будет спрашивать стихотворение Гете, которое они проходили несколько уроков назад, считая, что только оно и подходит к их настроению.
НИКОЛА ИЩЕТ СОЮЗНИКА
Когда Станица, собираясь домой, складывала книги, Никола увидел, что из ее сумки выпал листок бумаги. «А вдруг он как-то связан с письмом?» — подумал Никола. Он сделал вид, что ничего не заметил, а когда Станица вышла из класса, быстро схватил оброненный листок. Развернул и вспыхнул от радости. Это был черновик письма, в которое ему так хотелось заглянуть.
От волнения он даже не узнал почерка Дивны. Торопливо пробежал листок и вздохнул с удовлетворением. Не зная содержания письма, он не мог определить степени вины тех, кто его составил и подписал. Станицу могли бы и простить, а он, выдав ее, окончательно восстановил бы девушку против себя, и она никогда бы больше не приняла его рассказов. Он был еще мальчик, но уже в полной мере обладал осторожностью и предусмотрительностью взрослых.
Однако теперь ему стало ясно, что, стоит директору узнать о содержании и о тоне письма в министерство, Станице в школе не удержаться. В таком настроении он не мог оставаться один, его мстительное чувство нуждалось в поддержке. Чтобы отнести черновик директору, он хотел получить хоть чье-то одобрение. В эту пору жизни все, что делаешь вместе с товарищами, приобретает особую прелесть и заманчивость. Подвиг не в подвиг, если некому удивляться и аплодировать! Какой смысл в храбрости, если ее никто не видит? Какой смысл в уме, если он никем не признан? Какой смысл в пятерках, если товарищи о них не знают? Для чего лунный свет, если им нельзя любоваться вместе с друзьями? В классе было мало ребят, которые бы искренне любили одиночество и предпочитали наслаждаться красотой в одиночку, которые, сделав что-нибудь хорошее, не ждали признания и благодарности.
Николе хотелось показать черновик всем своим друзьям, хотелось поделиться с ними радостью удачи. И наоборот, ему страшно не хотелось идти домой, к матери, он понимал, что при ней его радость лопнет, как мыльный пузырь. Лучше пойти к кому-нибудь из товарищей, который, как и он, сочтет эту случайность победой, дающей в руки оружие. И хорошо бы идти подольше, наслаждаясь радостным чувством, что произошло что-то приятное, и хорошо бы, чтоб свежий ветерок обдувал горящие от возбуждения щеки. Никола перешел мост, за которым начинались огороды. Капуста еще не была убрана, кое-где даже виднелись стебли перезревшего красного перца. По невспаханной стерне стаями и в одиночку прыгали вороны. Они то и дело резко вскидывали головы, словно их тревожили какие-то звуки. Это было, вероятно, очень важно, потому что держались они необычайно строго.
Было время обеда, когда Никола вошел во двор, заваленный гладкими фиолетовыми головками капусты, листья которых завились в такой тугой и плотный кочан, что никакая гусеница или капля воды не могла проникнуть внутрь. В огромных корзинах сверкали крупные мясистые перцы — казалось, их только что вытащили из лака. Неманя уже пообедал, и Никола нашел его на огороде вместе с отцом и младшим братом. Неманя всегда занимался только своими делами, утверждая, что это отличительная черта настоящего серба. Лаза, когда слышал это, делался глубоко несчастным. Однако, когда в классе надо было дать отпор левым, Неманя, вопреки своим правилам, вмешивался и в политику, и в «чужие» дела. Вообще-то он предпочитал не участвовать в драках и беспорядках, но если видел, что такая позиция может ему повредить во мнении товарищей, присоединялся к зачинщикам.
Неманя любил осенние дни сбора урожая. Он мог подолгу любоваться каким-нибудь великаном перцем, словно это было произведение искусства, и, когда был поменьше, приносил перец в школу, чтобы показать, что стручок может стоять прямо, опираясь на свои бугорки.
— Возьми, возьми в руку, посмотри, в нем не меньше полкило, — говорил он товарищам.
Неманя решил, что Никола зашел к нему просто так, и обрушился на него со своими рассказами об огородных делах, восхищался огромной, как горшок, свеклой, кочанами капусты, грецкими орехами величиной с яйцо, яблоками и опять свеклой, капустой и орехами.
— Пойдем, посмотришь, какая у нас фасоль! — закричал он напоследок.
— С грецкий орех?
Неманя не почувствовал насмешки в словах Николы и продолжал тянуть его за собой.
— Не с грецкий, но не меньше лесного ореха будет.
Как мог Никола после всех этих рассказов о фасоли и капусте начать разговор о письме и о черновике? Поэтому он лишь расстроенно спросил его:
— Ты видел, что делала сегодня утром Станица со своими дружками?
— Видел. Меня она не просила подписывать, мне-то какое дело.
— А что будет, если директор об этом узнает? — вырвалось у Николы.
— Не суйся в чужие дела! Хватит с нас и тройки по поведению. Все равно ябедам достается так же, как и всем. Ты взгляни только на этот перец!
Недовольный и злой возвращался от Немани Никола, теперь он не видел ни огородов, ни ворон, не слышал говора реки. То, что Неманя не придал письму никакого значения, испортило ему всю радость. Минутами Николе становилось горько, что он не в одном лагере со Слободаном, Станицей и Лазой. Как самоотверженно борются они за то, что любят и во что верят!
Ближе к вечеру он пошел к Стояну и показал ему свою находку.
— Они у нас в руках! — победоносно воскликнул Никола. — Давай расскажем про них!
Стоян, спокойно прочитав черновик, сказал:
— Какая нам польза от того, что их исключат? А ведь ясно как дважды два, что их выгонят.
— Бьюсь об заклад, что сегодня вечером они соберутся у Эмилии, — как бы между прочим заметил Никола.
— Пусть собираются, не в первый раз.
Стоян словно нарочно не желал понять товарища.
— Станем за углом дома Эмилии и посмотрим, кто туда пойдет, — наконец откровенно предложил Никола.
— А зачем нам это?
— Не прикидывайся дурачком. Мы узнаем всех участников заговора.
— А это и так ясно как дважды два.
У Стояна была спокойная мужицкая манера возражать. Он многое не одобрял в Николе, но из уважения к его матери-учительнице делал ему поблажки. Иногда он наблюдал за ним с каким-то злорадным удивлением: мать учит других, как себя вести, а сын вон какой!
Отказ Стояна еще больше раззадорил Николу. Вечером он пошел в маленький сквер недалеко от дома Эмилии и стал ждать, мечтая о том, как было бы хорошо, если бы Станица, проходя мимо, остановилась и сказала, что последний его рассказ приняла для журнала. Тогда Никола, чтобы доказать, что и он может быть хорошим товарищем, отдал бы ей черновик и пообещал, что никому — ни матери, ни директору — не скажет ни слова. Расчувствовавшись, он вдруг вспомнил, как утром, когда он пытался через плечо Станицы заглянуть в письмо, она сказала: «Будь товарищем. Это не только мой журнал. Твой рассказ тоже когда-нибудь в нем напечатают».
А что, если она имела в виду его последний рассказ? Понятно тогда, почему Станицу удивило его злорадство по поводу запрещения журнала, в который ему наконец удалось попасть.
Из боковой улицы показались Лаза и Момчило, веселые, торопливые; потом прошли Туча и Слободан, за ними Дивна и Елена — эти почти бежали. Их бодрый и непринужденный вид неприятно поразил Николу. Стало быть, они вовсе не встревожены, а наоборот, радуются, что наставили нос глупым националистам, сделав по-своему. И ему снова захотелось досадить им, напугать их, пусть не доносом, но любым другим способом расстроить их заговор. А когда вдобавок ко всему Станица, показавшаяся в сквере последней, сделала вид, будто не видит его, в нем снова в полную силу заговорило его злобное упорство, он догнал девушку и спросил тоном следователя:
— Ты куда?
— Не видишь, что ли. Пусти, мне некогда.
Но Никола пошел вместе с ней к калитке Эмилии.
— Будут читать мой рассказ? — спросил он вдруг угрожающим тоном.
— Нет! — оскорбленно ответила Станица вопреки собственному решению.
— Не допускаешь ни одного патриотического слова в Общество.
— Ни одного шовинистического слова!
— Берегись! Я знаю, зачем ты идешь к Эмилии.
— Ты тоже ходишь к своим друзьям. Я люблю ее, вот и хожу к ней.
Он загородил калитку, и Станица, чтобы пройти, отстранила его и, словно маленькому, сказала:
— Не приставай!
ВСТРЕЧА ПЕРЕД КАБИНЕТОМ ДИРЕКТОРА
В тот день учителя так ничего и не узнали о письме. Приближался конец четверти, и все были заняты опросом. Историк, вероятно, раз по десять вызывал каждого хорошего ученика, давая возможность исправить слабую или сомнительную оценку. Тянулись вверх нетерпеливые руки, многим хотелось воспользоваться моментом и повысить отметку — ведь хороших учеников обычно спрашивают реже. Историк, однако, предпочитал вызывать тех, кто не поднимал руки, надеясь застать врасплох. И поэтому Слободану, который не любил лезть вперед, все же приходилось вставать почти каждую минуту, но, к величайшему удовольствию товарищей, догадавшихся о намерении историка, он неизменно давал отличные ответы. После шестого или седьмого вызова при общем оживлении класса Лаза спросил:
— Господин учитель, ваш старый преподаватель, который говорил, что только бог знает на пять, поставил бы Слободану пятерку за этот ответ?
Как ни странно, историк не рассердился, видно, ему тоже надо было сделать передышку, но зато потом, вероятно, чтобы отомстить, он стал каждую минуту вызывать Лазу.
Станица словно не замечала этой почти экзаменационной лихорадки и отвечала на вопросы рассеянно. Утром вернулся из Белграда классный наставник, и она думала, как рассказать ему о том, что случилось, пока его не было. Ей хотелось поскорее увидеть Яковлевича, и в то же время она ужасно боялась встречи с ним. По поведению историка девушка видела, что учителя еще ничего не знают, и может случиться, что и не узнают, пока не придет сообщение из министерства. Но если бы даже произошло чудо и никто из преподавателей никогда бы не узнал о письме, она все равно должна была обо всем рассказать Яковлевичу. Ребята не могли обмануть его доброго отношения к ним, и еще у Эмилии все решили ему рассказать.
На перемене ей так или иначе надо было пойти к нему в кабинет, где проходили заседания Общества, чтобы узнать, какие работы он утвердил для чтения. Но она едва понимала, что он ей говорил, и машинально записывала названия отвергнутых и принятых работ, фамилии их авторов.
— Тебе жаль наших незадачливых писателей — Ольгу и Николу? — спросил Яковлевич, заметив, что она чем-то подавлена.
Сейчас или никогда, решила она и торопливо рассказала ему о своем разговоре с директором, о содержании письма и о сборе подписей. Ей было трудно. Для ее лет это было довольно тяжелое испытание; она не чувствовала себя способной идти к цели напролом, ни с чем не считаясь, и в то же время не могла даже ради тех, кого любила, сойти с раз и навсегда избранного пути. И когда она потом пыталась передать товарищам, как протекал разговор, ей никак не удавалось вспомнить подробности. Сказала только, что Яковлевич задавал много вопросов, удивлялся, укорял ее. Хуже всего, говорил он, было то, что письмо написано в форме требования. С каждой минутой он становился все озабоченнее. Станица вспоминала также, что он ни разу не сказал: вы, мол, поступили плохо, он скорее сожалел о том, что они сделали, а не сердился на них. Потом он, кажется, что-то обещал сделать, как-то им помочь. После его ухода она едва смогла написать объявление о заседании Общества и, совершенно забыв об уроке физкультуры, просидела весь час в кабинете.
Около объявления о заседании Общества толпились ребята из разных классов. Ольга, расталкивая всех локтями, пробиралась к доске с криком:
— Пустите, мне надо посмотреть, когда я буду читать свои стихи!
— Кто? Ты? — засмеялись шестиклассники.
Увидев, что ее в списке нет, она еще раз прочла его, чтобы проверить, есть ли в нем Никола, и, убедившись, что его тоже нет, почувствовала облегчение. Потом крикнула ему через весь коридор, надеясь помириться с ним:
— Тебя тоже нет в списке!
— Чего кричишь! Я ничего и не давал! — обрушился он на нее, чтобы все слышали.
Ольга была счастлива, что наконец-то, пусть хоть и сердито, он ответил ей, побежала к нему и с ходу начала настраивать его против Станицы, возмущаясь, что та опять не приняла его рассказ. Николе сейчас до зарезу нужен был союзник и единомышленник, поэтому он благосклонно отнесся к ее заискиваниям.
— Смотри-ка, что я тебе покажу! — сказал он и протянул ей черновик письма.
Наконец Никола нашел человека, который хотел прочесть черновик письма, который радовался его находке и который считал, что ее можно выгодно использовать. Пока Ольга читала, то и дело прерывая чтение восклицаниями, Никола тоже следил взглядом за уже расплывающимися по бумаге строчками. Они стояли, согнувшись над письмом, у последнего окна в коридоре и выглядели при этом весьма таинственно.
В такой позе и застал их учитель истории.
— Что это у вас здесь за заговор? — бросил он мимоходом, направляясь к кабинету директора.
— Покажем ему? — шепотом спросила Ольга, движимая жаждой мести и желанием угодить Николе.
Никола вырвал листок у нее из рук и пошел за учителем, сказав, что они тоже идут к директору. Выражение лица у него было упрямое, мстительное, в руке он держал бумажку, и историк, догадываясь, что в неприятном ему классе снова назревает какой-то конфликт, имеющий, вероятно, отношение к Слободану и Станице, почти втолкнул их обоих в кабинет. Увидев перед собой учеников, директор собрался было дать им нагоняй за то, что они вошли без спросу, но заметил за ними учителя и узнал Николу и Ольгу.
— А, сын госпожи Ружи? Что тебе надо? А ты, Ольга Попович?
Прежде чем они успели рассказать, в чем дело, историк взял из рук Николы черновик и прочел письмо вслух, смакуя каждое слово: «Сегодня директор гимназии сообщил нам, что наш молодежный журнал «Свет», единственный журнал, который мы редактировали сами, запрещен. Учащиеся нашей гимназии не могут допустить...» Тут директор выхватил листок у него из рук и приказал Николе позвать служителя, которого немедленно послал за Станицей.
Вскоре вся гимназия знала, что Никола и Ольга рассказали директору о письме. Одни были напуганы, другие удивлялись: неужели за такое письмо могут наказать, третьи осуждали Николу и Ольгу, четвертые — Станицу. Передавали, что Станица, выйдя от директора, была очень бледна, что она заявила директору, будто не станет отвечать в присутствии учителя истории, который как вошел в кабинет, так и остался в нем, старательно подливая масла в огонь. Лаза, восхищенный храбростью Станицы, изображал во дворе сцену в кабинете, говоря попеременно то голосом Станицы, то голосом директора:
— «Ученики не могли отнестись равнодушно к тому, что был запрещен их журнал». «Ученики могли через меня вежливо попросить вернуть им журнал». «С несправедливостью можно только бороться». «Моя ученица смеет так со мной разговаривать! Убирайся вон!»
Половина учеников была так покорена смелостью Станицы, так верила в ее правоту, что не представляла себе, что ее может ждать более строгое наказание, чем двойка за поведение. Но Стеван хорошо знал, что зачинщикам грозит исключение из школы, если кто-нибудь из преподавателей не возьмет их под защиту и не скажет, будто письмо было написано и подписи собирались с его разрешения. Стеван чувствовал себя ответственным за то, что произошло, тем более что главная вина пала не на его сестру Эмилию, а на Станицу. И он видел только одного педагога, который захотел бы вступиться за учеников, — Яковлевича.
У Яковлевича не было двух последних уроков, и он не знал о том, что произошло в школе после его утреннего разговора со Станицей. Во второй половине дня к нему зашла Вера, и едва он успел рассказать ей о письме и о своих опасениях, как пришел Слободан Йокич. Слободан долго сидел молча, словно собрался пересидеть Веру, но та, догадываясь, зачем он пришел, не хотела уходить, надеясь своим присутствием уберечь Яковлевича от какого-нибудь рискованного шага.
— Можешь говорить откровенно. Ты пришел по поводу письма?
Слободан еще раз вопросительно взглянул на учителя и, не тратя лишних слов, попросил:
— Могли бы вы сказать директору, что разрешили нам написать письмо?
Вера порывисто встала и подошла к Яковлевичу, словно желая защитить его от удара.
Тогда Слободан добавил, что директор обо всем знает: кто-то ему сообщил (при Вере он не хотел называть имя Николы).
Яковлевич немедленно согласился. Когда юноша ушел, Вера в ожесточении сказала ему:
— Вас могут уличить во лжи. В это время вы были в Белграде.
Он пристально посмотрел на нее: откуда в ней такое упорство? Что это: любовь, которая у девушек часто принимает форму сестринской или материнской нежности и заботы; интуитивное неприятие смелости и свободомыслия учеников; просто женская боязливость или эгоизм?
— Без этой моей, как вы выражаетесь, лжи Станицу исключат из школы, а мне ничего особенного не будет.
— Кроме того, что вас тоже выгонят! Не знаю, были бы вы столь же гуманны, если бы речь шла о ком-то другом.
Ему показалось, что в ее голосе звучит боль, и он стал объяснять: опасность угрожает не одной Станице — она приняла на себя вину за то, в чем замешано несколько человек. Он говорил долго, брал ее за руки и плечи, стараясь пробудить в ней девушку из ночного поезда, но когда он замолк, она вздохнула:
— Вот до чего довела вас дружба с учениками! Если бы вы вели себя с ними иначе, разве Йокич осмелился бы вас просить об этом?
И она с обидой на лице, словно он ее чем-то оскорбил, стала собираться домой, глядя на него исподлобья. Неторопливо укладывала в сумочку вынутые перед этим вещи, будто ожидая, не скажет ли он чего-нибудь другого, противоположного тому, что говорил до сих пор. Но так как он молчал, она бросила:
— До свидания! — Оглянулась на пороге, все еще на что-то надеясь, а потом выбежала во двор, на который уже опускались сумерки.
На следующий день, придя в школу, Яковлевич застал директора в учительской. С той минуты как он услышал о письме, директор не мог оставаться один. Он все время ощущал потребность говорить о письме, выражать удивление, что такое могло произойти в его школе, словно боялся, как бы кто не подумал, что все это произошло с его ведома. Увидев Яковлевича, он обрадовался: можно будет рассказать все с самого начала новому человеку, тем более наставнику злополучного класса.
— Вы слышали, что натворила ваша ученица, ваша Станица? — спросил он Яковлевича, едва тот показался на пороге.
— Вы имеете в виду письмо в министерство? — Яковлевич старался держаться как можно непринужденнее.
— Письмо и все прочее, что за ним последовало. Ев придется уйти из школы.
Когда Яковлевич заявил, что это он разрешил написать письмо и собрать под ним подписи, в учительской воцарилась мертвая тишина. Со всех сторон на него устремились изумленные, вопросительные, злорадные взгляды.
— Вы разрешили написать вот такое письмо?
Директор вытащил из кармана смятый черновик, готовый еще раз, вероятно в сотый, его прочесть. Учитель истории быстро подошел к нему, словно желая помочь.
— Станица достаточно умна, чтобы самостоятельно составить письмо.
Директор это принял как вызов. Он почувствовал себя оскорбленным: молодой учитель — и смеет так с ним разговаривать! Окинув изумленным взглядом всех преподавателей, словно призывая их в свидетели, он опять обратился к Яковлевичу:
— А вы недостаточно умны, если ведете себя таким образом! Знаете ли вы, что вам за это может быть?
Самые трусливые из учителей сочли за благо сделать вид, будто они не в курсе дела. Стоит проявить хоть каплю симпатии к Станице или тень сочувствия молодому учителю, как отношения с директором можно считать навсегда испорченными. Поэтому они поспешили углубиться в классные журналы. Но и эта тихая сдача позиций показалась директору обидной. Он еще не исчерпал своего возмущения поступком ученицы, не исчерпал своего изумления поведением преподавателя. Обычного наказания было бы слишком мало. Он обязан твердо, по-директорски, расследовать это дело. Преподаватель истории понял это и, будто бы веря, что Яковлевичу неизвестен характер отосланного письма, взял его из рук директора и стал не спеша читать. Чем дальше он читал, тем беспокойнее становилась Вера и, когда историк дошел до фразы: «Учащиеся нашей гимназии не могут допустить», — она нарочито громко вздохнула.
Директор прервал историка:
— «Учащиеся нашей гимназии не могут допустить!» Я, я не могу допустить, чтобы ученики, которые пишут подобные письма, и преподаватели, которые благословляют их на это, оставались в школе.
Вера ожидала, что Яковлевич, услышав письмо и второе заявление директора, отступит, скажет, будто он не предполагал, что письмо примет такой характер. Но Яковлевич сохранял полное спокойствие, и она решила, что на опасный путь его толкает не только дружба с учениками, но и симпатия к Станице. Все уговоры Веры не вмешиваться в дела учеников не дали никаких результатов. Однако одной просьбы Йокича было достаточно, чтобы Яковлевич впутался в эту историю!
— Ну, надеюсь, до этого дело не дойдет? — обернулся с порога математик, который с циркулем в руке направлялся в класс.
— Дойдет! — отрезал директор, со злостью взглянув на него.
— Коллега не разрешал никакого письма! Он вообще не знал, что оно послано... он был в это время в Белграде. Слободан Йокич попросил его спасти Станицу... — сказала Вера.
Яковлевич умоляюще протянул к ней руки, пытаясь остановить ее от этого безумного шага. Но она подробно начала объяснять, как было дело, и оправдывать Яковлевича, словно не видела ни его протянутых рук, ни бледности и презрения на его лице, и все говорила и говорила, обращаясь к преподавателям, будто призывая их на помощь. А те делали вид, что не слышат неосторожно сказанных слов или не придают им значения, и старались перевести разговор на другое. Лишь один историк проявил интерес к ее рассказу, уговаривая ее продолжать.
— Помогли, нечего сказать! — процедил математик сквозь зубы, глядя на нее, как на ученика, не умеющего мыслить логично.
Директор опустился на ближайший стул. Слова Веры неожиданно успокоили его. Сейчас ему стало окончательно ясно, что ни ученикам, ни учителю нет прощения. Если до сих пор директор еще колебался, пытаясь криком убедить в своей правоте и себя и других, то теперь, глядя на молодого учителя, словно на безумца, он спокойно произнес:
— В таком случае это сознательный заговор против администрации и существующих порядков, что еще хуже.
Вера с ужасом взглянула на Яковлевича и, вдруг опомнившись, сжала лоб руками. Хотела подбежать к нему объясниться, но он смотрел мимо нее. Ему надо было идти на урок. Ученики с нетерпением ждали его, он должен был раздать им дневники с четвертными отметками.
ВОЛНУЮЩИЙ ДЕНЬ
Уже с десяти часов родители бродили по улицам недалеко от школы. Дети одних грозили самоубийством, если получат плохие отметки, и родители теперь тревожно переминались на другой стороне улицы, боясь пропустить их в толпе ребят. Немногим спокойнее были и те, что сами говорили детям, чтоб они не приходили домой с двойками. К полудню у школы появилась и мать Ольги. Она, правда, надеялась, что дочь кончит без двоек. Так ведь и раньше бывало: сначала Ольга схватит три-четыре двойки, а потом все это как-то исправляется, к тому же в этом году у нее был репетитор. Мать, собственно говоря, больше всего и надеялась на Слободана. На уроках он всегда держался серьезно, никогда не говорил ни одного слова, не относящегося к занятиям, даже отказывался от угощения, ссылаясь на то, что надо заниматься. Ольга обычно первая предлагала сделать перерыв, а он отвечал, что для нее должна быть дорога каждая минута.
— Мне больше ничего в голову не лезет!
— Ты невнимательна, вот и не лезет.
Правда, Слободан несколько раз говорил матери, что у Ольги хуже всего дела с сербским, что она запустила чтение и уроками здесь не подгонишь. Но женщина верила в волшебную силу депутатского мандата своего мужа и его изворотливость, благодаря которой Ольга в конце концов всегда благополучно выплывала! Мать даже затеяла торт, думая к вечеру пригласить соседок, и сейчас поджидала дочь, чтобы вместе с ней пойти в кафану и сообщить Поповичу приятные новости.
Вдруг из дверей школы повалила толпа детей. Одни плакали, другие с веселым смехом бежали по улице. Попович заметила Ольгу и Зору. Ольга тоже плакала: Зора, очевидно, утешала ее. Они шли так быстро, что она не смогла их догнать.
Придя домой, мать застала плачущую дочь, взбешенного мужа и Зору, которая продолжала твердить, что папа все уладит.
— Если бы она не так ленилась, я бы и уладил, — сказал Попович, принимая слова Зоры, как само собой разумеющееся.
— Я же говорю, папа все уладит, — твердила Зора, не вслушиваясь в смысл его слов, а видя только его злость и самоуверенность, которые обычно предвещали Ольге хороший оборот дела.
— И зачем мы только держали репетитора?
— Слободан не виноват! Он честно занимался со мной. Ей-богу, папа, он не виноват, — закричала Ольга.
Ольга и без того чувствовала свою вину перед Слободаном за то, что выдала Станицу, к тому же говорили, что и его тоже накажут вместе со Станицей. А как хорошо было раньше, когда они с Николой еще ничего не говорили директору, и даже тогда, когда она ненавидела Станицу из-за Яковлевича. Лучше бы и сейчас ненавидеть ее, чем раскаиваться из-за своего поступка и жалеть ее, — вся школа говорила, что зачинщиков исключат. Поэтому двойка по сербскому пришлась даже вроде кстати, под этим предлогом можно было вволю нареветься. А плакать было из-за чего: тут и презрение товарищей, и раскаяние, и сознание того, что отец обрадуется, услышав, что она выдала Станицу, — ведь он ненавидел каждого, кто считался левым. О, теперь он еще больше обозлится на Слободана, узнав, что и он был среди зачинщиков.
— Слободан не виноват! — снова зарыдала Ольга в припадке раскаяния.
— Тогда виноват твой распрекрасный учитель.
— И он не виноват, просто я не успела прочесть всех писателей. У меня очень много было запущено.
— «Не успела прочесть всех писателей!» Хотел бы я знать, как это раньше люди кончали школу, не читая всех писателей!
Зору этот разговор еще больше уверил в могуществе Поповича, и она со все большей страстью убеждала подругу, что папа ей поможет.
Выкричавшись, Попович отослал их в другую комнату и остался вдвоем с женой обсуждать двойку дочери по сербскому. Но когда и жена стала доказывать ему, что юноша занимался с Ольгой добросовестно, Попович вспылил и ушел в город без обеда. Уже сидя в кафане, он услышал об истории с письмом.
— Стало быть, ученики подняли бунт против министерства, а учитель пытался это скрыть, — удовлетворенно воскликнул он.
Уездный начальник не сказал Поповичу, что Ольга вместе с Николой донесла на товарищей. Правда, если смотреть с политической точки зрения, это могло бы обрадовать депутата, но кто знает? Одно дело радоваться, что раскрыт какой-то заговор, и совсем другое дело — увидеть своего ребенка среди доносчиков.
Теперь Попович с чистой совестью мог обрушиться и на Слободана, и на нового учителя. Ведь он с самого начала испытывал недоверие и неприязнь к этому свежеиспеченному преподавателю, которому пришло в голову вводить в школе всяческие новшества и требовать от учеников, чтобы они читали от А до Я все, что намарал какой-то сочинитель. И гордость Слободана казалась ему всегда подозрительной. «Почему этот мальчишка отказывается от традиционного стакана воды и ложки варенья в их доме?» — часто думали они с женой. Вот теперь и это стало ясно: все сербское не нравится коммунистам. И чего твердит эта размазня Ольга: не виноват да не виноват? Неужели поганка в него втюрилась? Но он быстро отбросил это предположение, вспомнив, что ему рассказывали, будто девушка Йокича Станица. «Что ж, два сапога пара! Ничего лучшего не придумаешь!»
В таком настроении он встретил на улице Слободана — тот шел задумавшись и не заметил его. И все, что было в юноше приятного, сейчас показалось Поповичу отвратительным и подозрительным: серьезность обличала заговорщика, гордо поднятая голова говорила о высокомерии, аккуратность, с которой он носил старый костюм, выглядела претенциозной попыткой подняться туда, где ему не место.
— Удивительное дело, ей-богу! — грубо остановил его Попович. — Стало быть, мы в сговоре с господином учителем: он ставит двоечки, а мы исправляем!
Попович так неожиданно прервал ход его мыслей, что Слободан не сразу понял смысл того, что тот говорил, и лишь почувствовал, что Попович сердится на Ольгину двойку по сербскому.
— Мне очень жаль, сударь, что не удалось помочь Ольге. Очень уж она ленивая, не хочет заниматься, и все тут, — сказал он извиняющимся тоном.
— А я для того тебя и взял, чтобы ты научил ее прилежанию. Выходит, я на ветер деньги бросал. — Попович понизил голос, в нем зазвучали угрожающие нотки, смотрел он на юношу сверху вниз.
Слободан ожидал, что Попович будет недоволен двойкой, но все же такая грубость поразила его, и он улыбнулся смущенно:
— Вы же видели, я времени не жалел...
— Вольно тебе было хоть целые дни пялить на нее глаза, раз взялся не за свое дело...
Лишь теперь Слободан понял, что грубость Поповича вызвана не только Ольгиной двойкой, и, гордо выпрямившись, заявил, что никому не позволит себя оскорблять.
— Удобный способ прикарманивать деньги! — продолжал Попович.
Лицо Слободана словно говорило: «А, ищешь ссоры, ну что же!» Посмотрев Поповичу прямо в глаза, он гордо бросил:
— Богачи, вроде вас, это лучше умеют.
И пошел прочь, не простившись, а депутат кричал вслед, презрительно называя его желторотым, что он вылетит из школы за свои бунтарские идеи.
На улицах было еще много ребят, они шли кучками и оживленно обсуждали свои дела. Были слышны споры, как обычно после экзаменов, в конце четверти или после контрольных. На время отошли на второй план страхи, слухи, пересуды, вызванные письмом в министерство. Лаза, стоя на углу под акацией, с которой уже осыпались мелкие желтые листья, по своему обыкновению развлекал товарищей. Их восхищало, что ему удается так верно изобразить знакомых ребят.
«Не плачь, твой папа все уладит...» — «Гросмутер недодала мне два балла...» — «Ух, и язва же наш математик!..» — «Все девчонки дуры, даже если они учительницы».
Женщины у калиток взволнованно что-то обсуждали, словно началась мобилизация или наводнение. Раздача табелей с четвертными оценками в маленьких провинциальных городах вызывает такой же переполох, как стихийные бедствия или политические потрясения. Женщины знали, какая мать отлупила сына или дочь из-за двойки. Все оценивали справедливость учителей, их знания, их личную жизнь. В эти дни снова пересчитались годы незамужних преподавательниц, и их лихую долю связывали со строгостью и злостью. На этот раз все обострилось из-за толков о письме и слухов о том, что гимназистам грозит исключение из школы и что от седьмого и восьмого класса не останется даже половины.
Родители ребят, которым не угрожало исключение, говорили, что лучше уж носить челки и пудриться, чем причесываться гладенько, как Станица, и устраивать бунты. Школе не мешает, уверяли они, если девочка следит за собой; но если она занимается политикой — пиши пропало. Ужасались, что учительница разрешила своей Эмилии вмешиваться в политику; жалели Чичу: ведь и его Дивна оказалась в компании бунтовщиков. Одобряли поступок Николы, который отнес черновик письма директору, и поведение еще нескольких учеников, рассказавших в ходе расследования о сборищах у Эмилии, на которых и возникла идея протеста.
После встречи со Слободаном Поповичу были особенно по душе такие разговоры. Он зашел в три кафаны [Кафана — термины, используемые в большинстве бывших югославских стран для определения типа местных бистро, в которых в первую очередь подают алкогольные напитки и кофе, а также лёгкие закуски и другие продукты питания.], постоял у нескольких калиток, всюду подогревая раздражение и тревогу родителей.
— А как ваша? — спрашивали женщины, хотя и сами знали об Ольгиной двойке.
Попович бодро отвечал, что хорошо, и женщины про себя называли его хитрой лисой, раскаиваясь, что говорили ему о неудачах своих детей.
Обойдя чуть не весь город, Попович глянул на часы и решил, что директора еще можно застать в школе; учителя уже разошлись, и он сможет спокойно с ним поговорить. В пустом школьном коридоре, который навевает такую же печаль, как опустевший улей, он неожиданно столкнулся с Яковлевичем. После последних событий Попович был уверен: вместе с учениками-зачинщиками из школы вылетит и их любимый учитель. Поэтому депутат дал волю своим чувствам.
— Хорошего же ученика вы порекомендовали Ольге в репетиторы, — загородив дорогу учителю, ядовито заметил он, едва поздоровавшись.
— Очень хорошего. Он помог ей избежать трех двоек.
— Только не по вашему предмету.
— Если она не станет лучше заниматься, двойка так и останется.
Попович с издевкой улыбнулся, даже не пытаясь скрыть смысл своей улыбки: у тебя больше не будет возможности ставить ей отметки. И добавил, опасаясь, что это получилось недостаточно убедительно:
— Ставите двойки хорошим детям, чтобы ваши любимцы-коммунисты могли зарабатывать на уроках. Берегитесь!
— У меня нет привычки из страха перед депутатами превращать двойки в тройки, — спокойно ответил преподаватель, и Попович остался один, вне себя от бессильной ярости и невысказанных оскорблений.
В гневе он ворвался в кабинет директора и без приглашения уселся в кресло, отдуваясь и вытирая платком пот. Он выглядел таким высокомерным и раздраженным, что в директоре вспыхнуло возмущение. Если папаша пришел из-за двойки, то в конце концов он, директор, слишком долго против своей совести и ценой столкновений с преподавателями, которых он уважал, спасал от двоек его избалованную дочь. А если он пришел из-за письма и подписей, то в школе имеется своя власть, которая разберется в деле и накажет виновных, и посторонним нечего в это вмешиваться, а тем более Поповичу, который за три месяца так и не выхлопотал обещанный участок для расширения школьного двора. И поэтому директор, словно не замечая его хмурого вида, вместо приветствия спросил, что слышно нового.
— Школьные новости вам должны быть известны лучше, чем мне.
— Кажется, о школьных новостях знаю не только я. — Директор старался сохранить спокойствие и независимость. — Я слышал, весь город всполошился.
— Ваши ученики — наши дети. Что поделаешь, нас не может не интересовать, как вы их воспитываете!
Директору все больше казалось, что Попович пытается вторгнуться в область, в которой хозяином является он. К тому же ему хотелось наконец уйти из этого кабинета, где он провел трудное утро. И он сказал гостю так нелюбезно, как не говорил еще ни с кем из политических деятелей:
— Какое вам до этого дело, Попович? Нам платят за то, чтобы мы об этом заботились. В школе мы для них родители.
Однако посетитель решил непременно выложить все, что у него накопилось за день. Начал он с того, что заявил: он, Попович, мол, хорошо знает директора, но вот в городе поговаривают, будто директор потакает ученикам и учителям-коммунистам.
— Сегодня, например, этот ваш Йокич чуть ли не назвал меня ростовщиком!
В директоре, — правда, на короткое время, — неожиданно заговорил студент, мечтавший о дружбе с учениками. Он считал, что неприязнь Поповича к Йокичу скорее всего вызвана Ольгиной двойкой, и, сделав вид, будто ничего об этом не знает, сказал:
— Вот никогда бы не подумал, что Йокич способен на такое — обычно это тихий и замкнутый юноша; его надо очень обидеть, чтоб он забылся.
— Я верю вам, потому что хорошо знаю вас. Но вот другие скажут, что вы сознательно защищаете коммунистов и что вы поддерживаете нового преподавателя, который в Литературном обществе пренебрегает работами хороших детей, а ученикам, подобным Станице и Йокичу, открыто покровительствует.
— Что поделаешь, Попович, Станица и Йокич, если отбросить в сторону их, я бы сказал, политические заблуждения, в самом деле очень одаренные ребята.
— Я верю вам, но повторяю: и в ваших интересах, и в интересах вашей школы как можно скорее покончить с этой историей.
Попович ни одним словом не упомянул об Ольгиной двойке, прикинувшись, будто он пришел только как друг школы, чтобы рассказать о слухах, которые ходят в городе, однако искусно дал понять, что от него во многом зависит и судьба самого директора.
ЯСИКА УЗНАЕТ ОБО ВСЕМ
В коридоре служитель рассказывал ученикам, что донесли на Станицу Никола и Ольга, а несколько учеников из шестого класса, когда их стали спрашивать, кто писал письмо, назвали всех, кто бывал у Эмилии. Он подробно описал, как сначала Никола шептался о чем-то с Ольгой и как потом к ним подошел историк. Ребята, даже те, которые уже знали обо всем этом, слушали, широко раскрыв глаза и возмущаясь. При приближении кого-нибудь из учителей все делали вид, что разговор идет совсем о другом.
Была перемена между вторым и третьим уроком. Мимо группы ребят, окруживших служителя, прошли Ольга и Зора. Ольга, уже третий раз за это утро, поздоровалась со служителем, чтобы проверить, в самом ли деле он не хочет отвечать на ее приветствие, и он опять не ответил ей, прикинувшись, что внимательно слушает одного из учеников.
— Ябеда! — закричал ей вслед второклассник, и за ним это слово повторило еще несколько ребячьих голосов.
Ольга вздрогнула, сжала руку Зоры, и они шмыгнули во двор.
— Это Станица их подговорила, — смущенно шепнула Ольга Зоре.
Только одна Зора у нее и осталась. Ни Анка, ни Стоян с ней не разговаривали.
— Не огорчайся, директор издаст приказ, чтобы тебя не дразнили, скажи только папе, и он это сделает. — А потом Зора шепнула ей на ухо: — Напрасно ты Станицу ненавидела. Знаешь, что ребята рассказывают! Говорят, что Вера любит Яковлевича, а он ее! — И она потащила Ольгу в дальний угол двора, чтобы поговорить на свободе, но и там малыши не давали им покоя криками. Проходя через двор, Ольга здоровалась с ребятами, на которых раньше и смотреть не хотела, а все только для того, чтобы проверить, ответят они или нет. К ее огорчению, отвечали ей немногие.
— Я ведь не виновата, ей-богу, не виновата, — говорила она Зоре. — Я просто сказала: давай пожалуемся на них, а Никола сразу потащил меня в кабинет и все там сказал.
И они опять вернулись к разговору о Вере и Яковлевиче, причем Зора все время повторяла, что Ольга напрасно ненавидела Станицу. Для нее это был, вероятно, единственный способ показать Ольге, что она тоже не одобряет наушничества. Дивна издалека заметила их и свернула в сторону. Неожиданно навстречу им двинулось человек пять восьмиклассников. Они молча шли прямо на девушек, словно и не собирались уступать им дорогу, и подруги убежали. За сегодняшнее утро мальчишки уже второй раз проделывали этот трюк. Вдруг подруги увидели Николу в окружении четвероклассников, среди которых он пользовался неизменным уважением как сын учительницы и как лучший гимнаст школы. В то утро ему необходимы были эти мальчишки, иначе он чувствовал бы себя слишком одиноко. Девушки поспешили к нему.
— Что говорит мама? Она знает?
— Знает, — неопределенно ответил он и убежал с мальчишками, не желая разговаривать при них.
Его самого мучил вопрос, знает мать или нет. Дома он вертелся около нее, тайком заглядывал ей в лицо. У нее был вполне довольный вид. «Неужели потому, что он рассказал директору о письме? — сверкнула в его голове безумная мысль. — Глупый и трусливый самообман», — тут же пристыдил он себя. Его мать не может этому радоваться. Она женщина старого закала и не понимает, что такое политическая борьба. Этим выражением он пытался перед самим собой оправдать свое предательство по отношению к товарищам. А мать не принимала в соображение политических обстоятельств. Самое главное для нее — честь. Ему хотелось сразу, в первый же день, рассказать ей обо всем, чтобы поскорее пройти и это испытание, так как он знал, что будет гораздо хуже, если она узнает обо всем от других.
Утром он встал пораньше, без напоминания наколол дров и натаскал воды из колодца. «Что-то натворил», — подумала Ясика, видя необыкновенное усердие сына и с трепетом раздумывая, что бы это могло быть. «Он ничего не делает без расчета».
— Госпожа Ружа, — начал он, ставя ведро с водой, — подумай только, что сделала Станица...
Она с беспокойством обернулась к нему. Никола понял, что не сможет ей рассказать. Смалодушничав, он стал жаловаться, что Станица и последний его рассказ не приняла.
— Естественно, что не приняла. — У нее отлегло от сердца. — Ты взял исключительный случай и представил его так, словно это бывает каждый день. Опиши заход солнца и увидишь, что она примет.
— До чего же наивная у меня мама! Да я писал об этом в пятом классе!
— Ну тогда напиши о чем-нибудь таком, что объединяет, а не ссорит людей.
На мгновение он забыл, ради чего начал разговор, и разозлился, что мать ни в чем не поддерживает его.
— Люди, госпожа мама, враждовали и до моего рождения.
Они еще поспорили немного, пока она возилась по хозяйству, а он собирался в школу. У ворот он еще раз нерешительно оглянулся, но когда она заметила это, выбежал на улицу. Мать пошла в школу, испытывая смутное беспокойство.
В школьном коридоре при ее появлении наступила тишина. Ученики, толпившиеся вокруг служителя, глядели на нее так, словно видели впервые. Ей показалось, что и старик смотрит на нее как-то по-особенному и что поздоровался он с подчеркнутой любезностью, как здороваются с человеком, которого хотят уверить в своей неизменной преданности. Когда она вошла в учительскую, среди учителей тоже возникло замешательство, сменившееся подчеркнутой предупредительностью.
Гросмутер тихо сказала математику:
— Бедняжка, похоже, она еще не знает, что ее Никола доносчик. Вот истерзается!
— Способный, но неприятный мальчишка, — ответил тот так же тихо.
Тут вошел историк в приподнятом настроении, чисто выбритый, словно собрался на праздник; увидев Ясику, он тотчас же подошел к ней:
— Никола рассказывал вам, что натворила Станица со своей компанией?
Ясика положила на место взятую было карту и вопросительно взглянула на него. Что могла сделать эта девочка? Только два дня назад они вместе дежурили, разговаривали, и девочка показалась ей такой же собранной и рассудительной, как всегда. Что они могли выдумать и натворить за два дня? Потом она вспомнила, как Никола утром начал разговор о Станице. Гросмутер стремительно поднялась со стула и пошла к историку, пытаясь отозвать его в сторону.
— Они написали оскорбительное письмо в министерство, — продолжал тот, не обращая внимания на Гросмутер, — и собирали подписи учеников. Словом, класс заражен коммунизмом!
Ясика облегченно вздохнула и снова взялась за карту.
— Их надо строго наказать, — сказала она, — хотя не каждую ребячью вольность следует сразу объявлять коммунизмом. — И вдруг, предчувствуя неладное, спросила: — Директор знает об этом?
— Коллега, на минутку! — Теперь историка звал математик. Он не мог понять, на самом ли деле историк считает, что он сообщает матери радостную весть или он просто не может скрыть своего злорадства от того, что наказание ждет учеников, к которым он не слишком-то расположен.
— А разве вы не знаете? — продолжал историк, делая вид, что не слышит и математика. — Да ведь это ваш Никола раздобыл черновик этого протеста и принес его директору.
Он собрался подробно рассказать, как он застал Ольгу и Николу у кабинета директора и как он привел их к нему, но она больше его не слушала — немое изумление сменилось криком:
— Мой Никола! Мой Никола! Неужели он это сделал? Доносчик!
Преподаватели окружили ее и стали успокаивать, историк же удивленно и испуганно отшатнулся.
— Вы меня поражаете, — бормотал он. — Он ведь выполнил свой долг.
— Стал доносчиком! Выдал товарищей! — продолжала кричать Ясика, порываясь к двери. — Я должна немедленно все выяснить!
Математик положил руку ей на плечо и усадил на стул.
— Сейчас не надо, дома разберетесь.
Ослабев, она так и осталась сидеть на стуле и говорила словно про себя, тихо и задумчиво:
— Теперь все станут показывать на него пальцем: вот что сделал сын учительницы, вот каковы националисты.
Учителя убеждали ее, что она преувеличивает, что такие вещи случаются с учениками, это было минутное заблуждение, он, вероятно, ничего бы и не сказал, если бы не подошел учитель истории и не затащил его в кабинет директора. Вот и сам коллега это признает.
— То же самое сделали бы и те, которые, по вашему мнению, станут показывать на него пальцем, — опять начал историк, видя, что она немного пришла в себя.
Ясика прервала его, взглянув на него так, словно он был виноват в ее несчастье.
— Я не хочу, чтобы это делал мой сын! Это бесчестно! — крикнула она.
— Что поделаешь! У него своя голова на плечах! — надменно заметил учитель истории и отошел к окну.
ЗАСЕДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Чича отдыхал после обеда, а Дивна усердно наглаживала его костюм, пришивала пуговицы к рубашке и пиджаку. Работая, она думала: как странно, что никто не заметил, что черновик письма написан ее рукой. А вдруг кто-нибудь на заседании снова возьмет письмо и узнает ее «т». И другие буквы имели у нее характерные хвостики и черточки, так что распознать, чей почерк, было совсем нетрудно. И вот посреди заседания историк может обратить внимание на почерк и сказать Чиче:
— Посмотрите, коллега! Вам не знаком этот почерк?
То, что писала черновик она, делало ее роль особенно важной. По справедливости, думалось ей, она тоже должна быть в числе главных виновников. Поэтому она раскаивалась, что сразу не призналась хотя бы Чиче. Но как только началось разбирательство, все, начиная от Стевана и кончая Лазой, запретили ей говорить об этом. Жалея и ее и Чичу, они не могли допустить, чтобы и ее постигло наказание, грозящее зачинщикам. Стеван уже в первый день, видя волнение Дивны, прочел ей мораль:
— Во-первых, дорогая моя, тебе не очень-то хотелось писать. И если говорить чистую правду, ты прежде всего должна будешь сказать об этом, и выйдет, будто тебя заставили писать мы, чтобы свалить вину на того, кто меньше всех виноват.
Она почти вскрикнула:
— Неправда! Я сама хотела...
— Успокойся, пожалуйста, у тебя и без того немало провинностей; честная двойка по поведению тебе обеспечена: во-первых, ты подписала протест, во-вторых, дружишь с теми, кто его написал, в-третьих, присутствовала на собраниях у нас в доме...
И хотя в ходе разбирательства никого не спрашивали, кто писал черновик (всех занимали другие, более важные вопросы), Дивна постоянно возвращалась к этой мысли. Ее удивляло, почему Чича ведет себя так, словно не знает, что и она замешана в этой истории. Может быть, ему никто до сих пор ничего не сказал? Но на заседании пойдет речь обо всем, что выведали от учеников, в том числе и о том, в чем она сама призналась. Или он все знает, но не хочет говорить с ней об этом, пока не будет решен вопрос о наказании? Дивне было тяжело и оттого, что в школе все говорили только о вине Станицы, Эмилии и Слободана, а ведь она, казалось ей, виновата не меньше, чем они. Поэтому она все время уговаривала Чичу спасти товарищей хотя бы от исключения.
Увидев, что отец проснулся, Дивна шутливо сказала ему:
— Папа, что ты делаешь со своими пуговицами? Наверняка крутишь во время урока. Целых пяти штук не хватало.
Чича взял пиджак и рубашку и уныло стал их разглядывать. Неужели можно потерять за месяц столько пуговиц? Как знать, может быть, и в самом деле он крутит их во время урока? Но сейчас не время думать об этом, пора идти на заседание. И он заторопился, боясь, что Дивна опять примется просить за товарищей. Он уже взялся за ручку двери, когда она подбежала к нему:
— Папа, спаси их!
— Видали! Как же я могу их спасти?
— Уговори директора простить их. Ты ведь знаешь их, они хорошие ученики и вообще ребята хорошие.
Чича попытался выскользнуть за дверь, он и без нее это знал и сам собирался защищать их, но говорить об этом Дивне не хотел.
— Хорошие, хорошие, а поступили плохо. Вот к чему приводит политика! — вскипел он и опять попытался выбраться на улицу.
Дивна вдруг почувствовала огромную жалость к отцу. Какой он измученный, рассеянный, ребячливый, хотя все еще считает ее ребенком и старается быть строгим. Нет, нет, сама она не может сказать ему, насколько она замешана в этой истории, пусть услышит в школе, на заседании. И словно она была старше, чем он, мягко сказала:
— Папа, если ты называешь политикой то, чего хотят Эмилия, Станица и те, которые с ними, тебе придется признать, что поступок Николы... тоже...
— Видали!..
— А теперь скажи по совести: чья политика лучше? И потом, не только они трое виноваты. Многие из нас были против запрещения журнала. Скажи, чтобы всех нас наказали одинаково.
— Все вы никуда не годитесь! — взорвался Чича, он был смущен и торопился. — Через десять минут начнется заседание. Отпусти же меня наконец!
— Папа, я верю в твою справедливость.
Уже у ворот Чича оглянулся с добродушной улыбкой и произнес:
— Видали! Девочка верит в меня.
Улыбка отца и его теплый взгляд, показалось Дивне, что-то обещают, и ей стало немного легче. Но все же она не могла оставаться одна и пошла к Эмилии. Там она застала всех, кто был, когда писали письмо. Учительница тоже оказалась дома. Держалась она так, словно тоже была виновата. Дивна сразу догадалась, отчего: в ее доме все это готовилось, Стеван поддерживал ребят, и теперь она, наверное, опасается, что Станице, которая собирала подписи, выпадет самое суровое наказание. Напрасно Лаза старался рссмешить ее, говоря, что теперь ей не удастся доказать, будто ее Эмилия играет более важную роль в этой борьбе, чем Станица.
— У вас просто старинное представление о чести, — добавил кто-то.
— Скажите, пожалуйста, госпожа учительница, а кто будет воевать с историком, если всех нас выгонят? — пошутил даже молчаливый Слободан.
— Я сказала папе, что мы все виноваты, — тихо отозвалась Дивна, присутствие которой только сейчас заметили.
— А ведь мы с тобой договаривались иначе? — мягко упрекнул ее Стеван.
Дивна испуганно заморгала, и Эмилия, как всегда, взяла ее под защиту:
— Успокойся, родная, что ты могла ему сказать? Не больше того, что он узнает от директора или прочтет в протоколе.
Ребята пытались храбриться и шутить, но традиционное угощение учительницы так и осталось нетронутым, даже Лаза не взглянул на него. Наконец все встали и вышли из дому. По улице, ведущей к школе, бродили и другие ученики. Сейчас особенно ярко проявлялись их характеры, как бывало всегда, когда в школе происходили серьезные события. Одни жалели, что сами не заявили о том, что подписали протест. Другие отрицали, что подписали, хотя пошли на это охотно. Третьи во всеуслышание ругали зачинщиков. Среди ребят попадались и такие, которые походили на своих отцов и дядей, разглагольствующих в коридорах судов и скупщин. Те, что посмелее, заходили в коридор школы, чтобы узнать у служителя, началось ли заседание, а потом, когда стемнело, пошли на школьный двор и стали заглядывать в окна учительской, пытаясь увидеть, что там делается. Из учительской были слышны приглушенные голоса.
— Смотрите, директор встал и размахивает руками. Ясика ему что-то доказывает, а Чича шепчется с Гросмутер. Смотрите, смотрите, историк что-то диктует!
Лаза, Эмилия и Дивна долго бродили по берегу реки и по парку и в конце концов тоже оказались во дворе школы. Они пришли в тот момент, когда в освещенном окне комнаты появился Яковлевич, он заговорил, и все учителя повернулись к нему. Лаза тотчас стал изображать его, но на этот раз не для того, чтобы рассмешить товарищей, просто ему казалось, что Яковлевич там, за окном, и в самом деле говорит то же, что он здесь.
— Я не могу допустить, чтобы по моей вине была испорчена жизнь молодых людей. Я разрешил им сделать это, и если надо кого-то наказать, наказывайте меня.
Ученики поеживались от волнения. Они еще не знали, что учительница географии своим заявлением разрушила благородные намерения Яковлевича.
— Лаза, я готова тебя поцеловать! — воскликнула Дивна.
Ее восхищение вдохновило его, он покачал головой, как Ясика, и сказал то, что, по мнению ребят, собравшихся под окном, она должна была сказать.
— Если наказывать этих учеников, то прежде всего надо наказать доносчика, моего Николу, иначе я не смогу показаться детям на глаза.
Ребята из младших классов дружно захлопали.
В освещенной комнате опять поднялся историк, казалось, он читал нотацию Ясике, и Лаза словно повторял за ним слово в слово:
— Надо выгнать зачинщиков всех беспорядков. В классе станет легче дышать, когда их не будет, мне станет легче дышать...
— Правда, правда, по его лицу видно, что он это говорит, — соглашались ученики.
И хотя многие боялись исхода заседания, хотя история с письмом вызвала в семьях переполох и многим пришлось солоно, ребята как будто даже радовались тому, что в их жизни произошло нечто серьезное, нечто такое, о чем можно страстно спорить и что можно глубоко переживать.
На улице было холодно — ударил первый мороз. Земля под ногами смерзлась и стала твердой, как сталь. От реки пахло свежим снегом. Но возбужденным молодым людям этот запах скорее напоминал аромат распускающихся деревьев. Служитель уже несколько раз выходил и знаками просил их уйти, но ребята делали вид, что ничего не замечают. Наконец он сердито крикнул, что заседание сейчас кончится, и только этим разогнал их.
Между тем заседание было еще в полном разгаре. Историк в ярости говорил Ясике:
— Я не узнаю вас, сударыня! Вы защищаете коммунистов!
Ясика и раньше не слишком-то была расположена к историку, а с тех пор, как он ей радостно сообщил, что Никола выдал товарищей, она просто не могла его выносить.
— Что поделаешь, все перевернулось, — резко ответила она, не глядя на него.
Ясика испытывала невыносимый стыд перед коллегами. Они знали ее двадцать три года и были словно частью ее семьи. А теперь она не могла смотреть им в глаза. Какая польза от того, думала Ясика, что она голосовала против исключения, если она не сумела внушить сыну элементарных принципов порядочности, которых придерживалась сама. Она проверяла себя: голосовала ли бы она за исключение, если бы о проступке ребят стало известно не от Николы, а от кого-то другого. Может быть, поведение сына прояснило для нее то, чего она, воспитывая детей около двадцати лет, не понимала. Она старалась представить себе, что бы она чувствовала, если бы были исключены ее дети, и ужасалась при мысли о встрече с их матерями.
— Два года, два года! — произнес как бы про себя Яковлевич, вероятно, в десятый раз, избегая Вериного взгляда, полного мольбы и ужаса.
— Не могу представить себе эти классы без Станицы, Слободана и Эмилии, — отозвался математик.
Он пытался вспомнить, какими были эти классы шесть лет назад, когда он еще учил их умножать на сто и тысячу. Как тогда выглядели ребята? Какие у них были провинности? Слободан и в то время сидел позади Станицы. Маленькая кудрявая голова, смуглое и зимой и летом лицо, задумчивые голубые глаза. На переменах он ходил один. И больше смущался, когда его хвалили, чем когда ругали. У Станицы за спиной болтались русые косы, которые в третьем классе она перебросила на грудь. Никола дергал за косы девочек, сидевших перед ним. Анка плакала, когда у нее из парты крали булочки. Ольга каждую неделю ябедничала: «Господин учитель, мальчишки пишут мне любовные письма!» — «А что же они тебе пишут?» — «Что у меня красивый курносый нос. А один пишет, что любит меня». Неужели и тогда из-за них собирался педагогический совет? Конечно! Однажды Слободан подрался с Лазой и ударил его по голове. В другой раз Петар скверно выругал девочку. Потом как-то в классе участились пропажи и долго искали воришку. Как его нашли? Выдал кто-нибудь? Нет, просто украденный перочинный ножичек выпал у него через штанину. Тогда они были еще детьми. На каждом уроке просили, чтобы их повели на прогулку, хотя бы на реку. Посреди урока кто-нибудь мог встать и сказать: «Господин учитель, а Стоян может сразу выпить два литра молока! — «Они врут, господин учитель!»
Чича погрузился в чтение письма. До него только теперь, когда решение было уже вынесено, дошел черновик, написанный рукой Дивны. Может быть, ему подсунул его кто-нибудь из тех, кто тоже узнал ее почерк. Да, это ее завитушки, лишь одна она во всем классе так пишет. Видали! Говорит, все мы виноваты. Я-то думаю, она еще ребенок, а она связалась с политиками. И что теперь делать! Какое счастье, что он, даже не зная об этом чертовом черновике, добился для нее такого же наказания, как и для всех участников собраний у Эмилии. Он обрадовался, увидев ее имя первым в списке учеников, которые сами заявили, что подписали письмо, предварительно прочитав его.
Преподаватель физики придерживался примерно того же мнения, что Чича и Яковлевич, и утверждал, что он не видит здесь преступления, это просто юношеская жажда деятельности наподобие той, которая охватывает пчел во время роения.
Впрочем, большая часть учителей, преподающих в седьмом классе, в этот момент чувствовала себя несчастными, потому что педагогический совет отверг их предложение о смягчении наказания. Они забыли сейчас, что и сами бывают строже к ученикам, которым не преподают, с которыми их не связывает та, почти родственная, близость, возникающая за долгие годы между преподавателями и учениками.
Всех вывел из задумчивости директор, обратившийся к секретарю:
— Прошу вас отметить в протоколе, что Станица Лазич, Слободан Йокич и Эмилия Стошич большинством голосов исключены из школы на два года с правом сдачи экзаменов...
Он еще не закончил, как заговорил Чича:
— Пожалуйста, запишите меня первым среди тех, кто голосовал против.
— Не беспокойтесь, нас еще не раз помянут! — бросил кто-то.
— С каких это пор вы записались в бунтовщики? — ядовито спросил директор Чичу.
Угадав его мысль, Чича ответил:
— Видали! С тех пор, как моя дочь доросла до этого. — И потом с ожесточением добавил: —Но если вы помните, я никогда не был сторонником подобной строгости по отношению к несовершеннолетним.
— Их исключили не мы, а существующие законы! — крикнул директор.
Пока секретарь записывал решение, в учительской снова возник легкий шум. Те учителя, которые, испугавшись последствий, голосовали против совести и убеждений за исключение, с завистью смотрели на тех, кто проявил мужество. Учитель физкультуры шептал своему соседу:
— Чиче хорошо, ему до пенсии осталось всего полгода. Квалифицированный математик у нас один на всю школу, ему тоже ничего не могут сделать. Ясике из-за ее сопляка просто иного выхода не было, это даже директору ясно; о Яковлевиче вообще не стоит говорить. Ну, а Вера грехи замаливает.
— Все равно будет ужасно тоскливо входить в класс, — так же тихо ответил ему собеседник.
Учителя расходились подавленные. Даже на служителя не могли поднять глаз, а тем более на учеников, которые еще попадались на улицах, несмотря на поздний час.
Ясике встретилось несколько ребят из класса Николы, они смотрели на нее, стараясь по ее лицу угадать, чем кончилось заседание. Она прошла мимо, понурив голову, стыдясь своих учеников, и пока дошла до дому, поняла, что не сможет остаться в этом городе и в этой школе. Ясно было, что и Николе нельзя продолжать учиться в классе, которому он принес столько несчастья. Как бы он ни хорохорился, ему не выдержать — все одноклассники отвернутся от него. Временами ей становилось жаль сына. «Он ведь еще по существу ребенок и на предательство его толкнула минутная вспышка злости и разочарования, вызванная скорее темпераментом, чем глубокой испорченностью или серьезными убеждениями», — думала она. Но большинство товарищей не поймет этого, и у нее нет другого выхода, как побыстрее забрать его отсюда. Внешне это будет воспринято как наказание, и она хотела, чтобы он именно так это и понял. По сути же дела переезд в другой город поможет ему легче перенести последствия своего поступка и избежать влияния среды, разжигающей в нем чувства, которые благородны только до тех пор, пока не переходят в насилие и ненависть. А это особенно важно теперь, когда он становится взрослым.
Придя домой, Ясика с облегчением обнаружила, что сын еще не вернулся. Мать не знала, как встретить его. Она надеялась, что и ему будет тяжело, когда он узнает, как сурово наказание. «Может быть, он сейчас бродит по улицам, — мучительно думала она, — страдая от беспокойства и раскаяния». Чтобы излить тоску, она села писать письмо сестре, но вдруг услыхала шаги сына. Беззаботно насвистывая, он возвращался домой. Она быстро встала и подошла к двери комнаты. Не взглянув на нее и не поздоровавшись, Никола прошел мимо, увидел письмо и, похолодев от внезапного предчувствия, наклонился над ним и громко прочел: «Никола совершил поступок, который не позволяет ему оставаться дальше в той же школе и той же среде. Я не могу сразу получить перевод. Поэтому прошу тебя взять его к себе до конца года. Здесь я все устрою, лишь бы у вас нашлось место в гимназии...»
Он обернулся и вызывающе спросил:
— Ружа, что это значит?!
Наглость сына — после всего, что он сделал, после решения педагогического совета, о котором он, вероятно, уже знает, — заставила ее оцепенеть.
— Что? — едва произнесла она.
— Что значит это письмо?
— Ты прочел и видел, что это значит.
Он стал кричать. Неожиданно ее, казалось, маленький сын, который до сих пор слушался ее и верил ей, превратился во взрослого юношу, совершенно ей чуждого, и разбушевался, как взрослый.
— Это все старомодные глупости! Ты не понимаешь, что такое честь, и думаешь о ней, как думали сто лет назад. Ты не понимаешь времени, в котором живешь.
— Честь всегда остается честью. Выдать товарища всегда было и будет позором!
— Для меня товарищ только тот, кто думает и чувствует, как я.
— Выдать человека, с которым ты десять лет играл на школьном дворе, всегда было и будет позором, — повторила она. — Тот, кто уважает себя, никогда на это не пойдет.
— Я никуда не поеду! — заорал он снова, не обращая внимания на ее слова.
Ясика взяла себя в руки и холодно сказала:
— Иди ужинай. Не могу тебя видеть.
Изумленный ее спокойствием, он вдруг затих и вышел из комнаты. Она ожидала, что немного погодя, как бывало раньше, он придет просить у нее прощения, поцеловать ее, но тут же с болью вспомнила, что вспышек раскаяния у него уже давно не было. «Я не девчонка, чтобы просить у тебя прощения», — говорил он уже с пятого класса. «Не в этом дело, просто у тебя черствое сердце и ты чересчур самонадеян», — «Это только девчонки каждую минуту просят прощения и каждую минуту совершают ту же ошибку, — защищался он тогда, — а я не хочу просить прощения, если знаю, что снова могу ошибиться».
Три года назад они со Станицей вместе готовили уроки по математике. Единственное, что осталось с тех времен, это то, что он никогда не называл Станицу дурой, хотя, разозлившись, мог сказать это любой девушке. «Может быть, тогда и родилось его ревнивое отношение к ней,— думала Ясика. — Станица всегда решала задачи быстрее, чем он. Поэтому он и перестал заниматься вместе с ней, уверяя, что она заранее все делает дома». Тогда Ясика впервые поняла, насколько он тщеславен.
Ей страстно захотелось вернуть те дни, когда она водила сына за ручку, когда он просил ее объяснить все, что видел и слышал вокруг. «Почему папа ушел от нас?» — «Потому что ты плохо ведешь себя». Он верил в это и старался не драться с детьми. А через год Никола заявил, что папа нехороший — не приезжает, хотя он слушается. А еще через три года сын спросил у нее: почему не они ушли от папы — пусть бы плакал он, а не они. «Может быть, сын был бы совсем другим, если бы рядом был отец, — бог знает в который раз подумала она, — может быть, он чувствует себя обделенным судьбой и отсюда его озлобление». Ее снова захлестнула волна материнской нежности и сочувствия. Так до самого рассвета в ее душе гнев и горечь сменялись печалью и состраданием.
ЗАЩИТНИКИ СТАНИЦЫ
С урока, на котором он сообщил о решении педагогического совета, Яковлевич вышел, окруженный толпой ребят. И пока они шли по коридору, в дверях каждого класса стояло человек по десять; несмотря на все напоминания дежурного, никто не хотел расходиться. Эмилия, Лаза, Момчило, Слободан и Станица из уважения к учителю шли чуть позади него, хотя сейчас им было особенно трудно расставаться с ним. Никола бродил по коридору в одиночестве. К нему не подходили даже те, кто потом, выйдя на улицу, может быть, стали бы обнимать и подбадривать его. Из этого питомника, который мы называем школой, выходили храбрые, честные люди, но отсюда же выходили трусы, лицемеры и малодушные. Рядом с Ольгой была одна Зора, толстая, добродушная и глуповатая; как всегда, она уверяла ее, что папа все уладит. Но все равно Ольга продолжала плакать и оправдываться, что она не виновата, что у нее нет никакой неприязни ни к Слободану, ни к Станице, ни к Эмилии, что ей их очень жалко и она попросит папу помочь им. Анка, которая, обычно держалась возле Ольги и Зоры, сейчас шла, опустив голову, и тоже обливалась слезами. Несколько восьмиклассников подошли к Яковлевичу с вопросом, который звучал как обвинение:
— Почему вы не спасли их?
— Вот дуры! — бросил Никола. Чувствуя все большее презрение товарищей, он все сильнее ожесточался.
Станица, выходя из класса, от волнения забыла проститься с Яковлевичем, поэтому она подошла к нему в коридоре и, улыбаясь, сказала:
— Не переживайте из-за нас, мы все же имеем право сдавать экзамены. Ваше положение сейчас хуже.
Слободану от всего сердца хотелось попросить у Яковлевича прощения за неприятности, которые они ему доставили, но он постеснялся — чем меньше слов, тем лучше, решил юноша.
На улице за исключенными и теми, кто получил двойку по поведению, устремилась толпа учеников из разных классов. Здесь шли и те, кто не подписывал письма, но больше было тех, кто подписал его, но побоялся признаться в этом и теперь сожалел о своем малодушии.
На углу улицы, где жила Эмилия, сестру поджидал Стеван. Силясь скрыть волнение, он встретил друзей шуткой:
— Поздравляю с боевым крещением!
— Мама уже знает? — спросила Эмилия.
— О таких вещах узнают быстро. Сейчас она уже немного успокоилась.
Часть учеников пошла с ними, а часть — со Станицей и Слободаном.
— Куда вы, люди добрые, направились? — улыбнулась Станица. — Не пойдем же мы так все вместе до самого моего дома. Мама перепугается.
Несколько ребят из младших классов двинулось за Слободаном, стараясь не видеть, как он оглядывается на Станицу. Не такие уж они маленькие и глупые, понимают, что, когда ученики старших классов любят друг друга, надо делать вид, будто ничего не замечаешь. Огнен вот только в четвертом классе, а уже влюбился в пятиклассницу: не любить же ему какую-нибудь малышку из третьего!
Наконец Станица осталась одна. В голове все время вставали картины последнего урока: мертвая, напряженная тишина, бледное лицо учителя, Слободан нервно пишет одну и ту же цифру — номер своего дома. В ушах звучал голос Яковлевича: «Вчера педагогический совет вынес решение исключить из школы на два года с правом сдачи экзаменов экстерном...»
Неожиданный плач Ольги и опять голос учителя:
«...Станицу Лазич, Слободана Йокича и Эмилию Стошич за протест, направленный Министерству просвещения в связи с запрещением молодежного журнала «Свет», и за сбор подписей без разрешения администрации школы; поставить двойку по поведению Лазе Томичу, Момчило Петровичу, Чедомиру Мишичу и Дивне Зорич за участие в составлении письма и тройку по поведению всем ученикам, поставившим свои подписи под протестом».
Ветер с реки дул прямо в грудь, твердые белые крупинки, похожие на рис, хлестали по лицу. Станица не видела, что ее неказистая, похожая на деревенскую улица стала красивой и торжественной, что даже на курятниках серебряные крыши, что серое низкое небо по сравнению с белизной земли кажется грязным; снег сразу же заметает черные следы прохожих, и все снова становится чистым и нетронутым, словно на рассвете. Она не заметила, как дошла до дому. Остановилась у ворот. Входить или подождать?
— Чего ты стоишь на ветру? Ведь холодно! — разрешил ее колебания голос матери.
Станица быстро вошла во двор, белый от первого снега. Пока она была в школе, он засыпал дровяник и хлев, пригнул ветви деревьев, белой каймой оторочил забор. «Бедная мама, как она постарела», — с болью подумала девушка и, прикинувшись веселой, схватила комок снега и бросила его через забор.
На кухне как ни в чем не бывало обедали братья. Мать немного поправилась после болезни, встала и вот даже обед сегодня сварила, а Станица сейчас все испортит. Она наклонилась к матери и поцеловала ее.
— Что, доченька? — откликнулась мать, привыкшая, что Станица всегда так делает перед тем, как спросить или попросить ее о чем-нибудь.
— Ты уже накормила корову? — смутилась девушка, не зная, с чего начать, и тут же добавила:— Прости, я хотела сказать другое.
Есть она отказалась и на вопросы отвечала рассеянно, поэтому все трое смотрели на нее с удивлением. Очень редко бывало, чтобы Станица отказывалась от обеда или отвечала невпопад. «Наверное, чего-нибудь не выучила, — сочувственно подумала мать. — Легко ли учиться в седьмом и так много помогать по дому. А может быть, опять схватилась с учителями, она ведь вечно за кого-нибудь заступается».
«Как они испугались одной только мысли, что у меня в школе неприятности», — думала девушка, делая вид, что садится за уроки. Она писала, читала, решала задачи, но делала все это словно в полусне, думая лишь о том, как рассказать матери — ведь все равно когда-нибудь надо будет сказать!
Но ни вечером, ни утром она так и не собралась с духом.
Будто ничего не произошло, собралась в школу. От дверей дома до ворот, а потом до первого поворота Станица шла спокойно, но, свернув за угол, торопливо, словно кто-то гнался за ней, побежала по улице, ведущей в поле. С реки дул ветер и наметал сугробы. Тропинку, по которой она было пошла, быстро замело снегом, и она шла по целине. Время от времени укрывалась от ветра за стволом дерева или старым сараем. Чтобы подбодрить себя, принималась петь, но каждый раз ошибалась и начинала сначала. Наконец засмеялась сама над собой: «Нет, у тебя, дорогая, никакого слуха!»
Так она бродила до полудня и, хотя погода прояснилась и потеплело, вернулась домой мокрая и иззябшая, быстро разделась и легла в постель, улучив момент, когда мать вышла на кухню. В окно было видно, как на улице играют в снежки и катаются на санках дети. Вскоре пришли из школы братья. Станица видела, как дети с криками бросились к ним, стали дразнить их и смеяться, а братья пустили в ход кулаки и снежки. Даже в комнате было слышно, как они кричат во всю глотку: «Врете! Врете! Она самая лучшая ученица! Самая лучшая!» Потом они влетели в дом и, не заметив сестру, лежавшую в постели, бросились в кухню к матери и одним духом выпалили:
— Знаешь, что говорят ребята на улице? Что Станицу исключили?! Ну, мы им показали, надолго запомнят!..
Неожиданно они увидели сестру: в ответ на их вопросительные взгляды у нее полились слезы. «Плачет?! Лежит в постели?!» Они переводили недоумевающие взгляды со Станицы на мать, которая, выйдя из кухни, тоже только сейчас обнаружила Станицу.
Она сразу поняла: то, о чем кричали дети на улице, — правда, и тихо спросила:
— Из-за Слободана?
Станица покачала головой.
— Выдала кого-нибудь?
Дочь сделала то же движение головой и улыбнулась вопросу матери. Она была сейчас опытнее, чем мать, и знала, что бывают случаи, когда устоявшиеся веками понятия о чести не играют никакой роли.
— Тебя обвинили в том, что ты взяла чужое?
Станица улыбнулась сквозь слезы:
— О, я зверь покрупнее. Понимаешь, запретили ученический журнал, в который я писала и для которого собирала работы в нашей школе. И я убедила ребят выступить против запрещения. Слободан, Эмилия и я — всех троих нас и исключили.
Дети отошли к печке и слушали не дыша.
— Больше вы ничего не сделали? — коротко спросила мать. От изумления она все еще не могла прийти в себя.
— Мы написали в министерство, чтобы нам вернули наш журнал, и собрали подписи учеников.
Письмо в министерство, сбор подписей не входили в число нарушений морали, известных матери, и поэтому она спросила еще раз, не глядя на дочь, чтобы облегчить ей признание:
— И больше ничего?
Девушка опять отрицательно качнула головой.
— Я думала, вы сделали что-нибудь похуже. Ничего, пройдет год...
— Два года, — прошептала Станица, умоляюще глядя на нее.
— И два года пройдут. А экзамены вам можно сдавать?
Когда Станица ответила утвердительно, женщина вздохнула с облегчением и вышла из комнаты, чтобы наедине с собой подумать о неожиданно свалившейся на них беде, а мальчишки сейчас же помчались на улицу, чтобы найти тех ребят, которые смеялись над ними, и сказать им, что Станица очень важный человек в школе, что она подняла бунт против решения министерства и ее исключили за это, а вовсе не за двойки. В школе бунтовать запрещается, но она храбрая и ничего не боится. А экзамены Станица все равно сдаст, да еще и на пятерки. И пусть кто посмеет открыть рот — увидит тогда, что будет!
Братьям, правда, не удалось все это выложить мальчишкам, которые продолжали кричать свое, но зато они здорово закидали их снежками. Борьба так пришлась им по вкусу, что они даже пожалели, когда противник стал отступать. Все время вдохновляемые новыми доказательствами отваги Станицы, братья то и дело выбегали на улицу, полные воинственного пыла.
— Мы им скажем, что сегодня вся школа перебывала у Станицы, — храбрился старший.
— Скажем, что даже школьный служитель приходил, — прибавил младший, которому служитель представлялся не менее важной персоной в школе, чем директор.
— И он сказал, что Станица может, если только захочет, хоть десять раз сдать экзамены на аттестат зрелости.
И на другой день в доме Станицы было полно учеников. Служитель зашел опять и в третий раз рассказывал:
— Я своими ушами слышал, — дверь в учительскую была открыта, — как Яковлевич сказал, что это он разрешил вам собирать подписи и послать письмо в Белград. А тут новенькая-то учительница как закричит — неправда, мол. Что поделаешь, женщина!
Говорил он не спеша, с крестьянской обстоятельностью, и Лаза нетерпеливо перебил его:
— А как директор рассвирепел! «Вы, говорит, сознательно вставляете нам палки в колеса!»
— И не говори, рассвирепел — ужас! Я, говорит, заявлю о вас в министерство!
Ученики слушали внимательно. Школьники больше всего любят рассказы об учителе, который защищает учеников. Они всегда звучат для них сказкой о добром младшем брате, побеждающем зло и спасающем старших братьев, хотя те и доставляли ему много огорчений. И напрасно служитель со всеми подробностями описывал, как было дело в учительской, фантазия ребят, увлеченная жаждой справедливости, рисовала другое: Яковлевич неожиданно врывается в комнату в ту минуту, когда совет уже готов принять решение всех их и навсегда изгнать из школы. Им представлялось, как директор испуганно вздрагивает и прикрывает рукой листок бумаги с роковым решением. А Яковлевич превозносит благородные человеческие чувства.
— Правда, что директор смотрел на него страшными глазами? — прозвенел тонкий девичий голос.
— А кто еще защищал учеников?
— А что сказал Яковлевич, когда Вера его выдала?
— А что делала бедная Ясика? Ругала она Николу?
Пока служитель отвечал на сыпавшиеся со всех сторон вопросы, братья Станицы то выбегали на улицу, чтоб рассчитаться с обидчиками, то снова возвращались домой за новыми доказательствами храбрости и значительности сестры, которые бы окончательно сразили неприятеля. Из разговоров они поняли, что главные виновники всех этих двоек и троек по поведению и исключения — Ольга и Никола, и поэтому несколько раз пытались подстеречь их. Но Ольга и Никола, по мнению мальчишек, нарочно забаррикадировались и носу не показывали из дому. Мальчишки готовы были схватиться хоть с кем-нибудь из их домашних, но и те не выходили из дому.
— Ничего, — сказал младший из братьев, весь посинев от холода. — Мы их все равно найдем завтра или послезавтра. А сейчас пойдем немного погреемся.
Но старший не хотел возвращаться домой, не отомстив. Дома Ольги и Николы стояли неподалеку друг от друга, и они стали бегать от одного к другому. И вот наконец в доме Поповича загорелся свет, Ольга подошла к окну, чтобы опустить занавеску.
— Пли! — скомандовал младший, запуская снежком в окно. Стекло звякнуло и посыпалось.
— А теперь ходу! — снова скомандовал он, вдруг лишившись смелости, и братья бросились в темноту, провожаемые криком и бранью.
Когда братья, запыхавшись, ворвались в дом, младший победоносно заявил:
— Ну мы ей показали. Теперь пусть идет и жалуется.
Все с удовольствием выслушали рассказ героев, как их отныне стали величать, о засаде перед домом предательницы и об удачном нападении. А мальчишки до того расхрабрились, что тут же двинулись было сводить счеты с Николой или хотя бы с его окном, но мать втащила их в кухню и, накормив, утолила на время их жажду подвигов.
— Вы завтра после уроков подстерегите их и задайте им перцу! — подбодрил мальчишек Лаза, заглянув в кухню, откуда пахло свежим хлебом.
Служитель, уже исчерпав рассказ о Яковлевиче, перешел к описанию отчаяния Ясики и ее единоборства с историком.
— И как это, дядя, ты умудряешься все слышать? — с лукавой улыбкой спросил Лаза. — Неужто в учительской всегда двери открыты?
— Слышу не слышу, не все ли тебе равно, главное, я знаю, как было дело, — ответил тот, слегка обидевшись.
У Станицы был сильный жар, она едва слышала, что говорили вокруг нее, и все думала: постепенно товарищи перестанут приходит к ней, и она останется одна, не будет больше ходить в школу, а ведь только там она хоть немного отдыхала от домашних забот. Может быть, ей не надо было писать письмо и собирать подписи? — спрашивала она себя, и ей сразу становилось стыдно этого вопроса. Станица не думала о том, что наказана слишком сурово; если она не могла поступить иначе, то, по всей вероятности, и учителя, следуя своим убеждениям, должны были поступить так, как они поступили. И, признавая за ними право на свободу действий, она со спокойной душой признавала и за собой право бороться против того, что ей казалось несправедливым.
Постепенно и гости погрустнели. Они поняли: то, что произошло, не так уж радостно, как им хотелось думать. Дома их ждали родители, недовольные оценкой по поведению; они обрушат на них град упреков. О чем они думали, спросят родители, когда подписывали письмо, может быть, надеялись, что учителя их за это похвалят? А стоит начать выкручиваться и уверять, будто они не знали, о чем письмо, как дедушка с ехидством спросит: может, они так же, не глядя, и вексель подпишут? Придется отвечать, где они были до сих пор, и не у всех хватит смелости признаться, что у Станицы, ведь родители считали, что к ней ходить опасно. От всего этого становилось страшновато, хотя и прекрасно! Казалось, они превратились во взрослых, и это рождало гордость. Уходя, ребята обещали прийти завтра. Разговоры, которые велись теперь в доме Станицы, были интереснее, чем забавы на улице, игра в снежки и катание на санках. Перед ними приоткрылись двери жизни.
И они приходили опять, озабоченные в одно и то же время оценками в дневниках и судьбами мира, приносили свежие политические и школьные новости, болезненно, по-детски, тревожась за свою страну. Разговоры об учителях сменялись разговорами о политических деятелях. И после стихов о заходе солнца и о любви звучали свободолюбивые строки о рабочих и студентах, убитых во время недавних антивоенных демонстраций в Белграде.
— Ребята, а где мы теперь напечатаем это? — спросила Дивна.
После этого вопроса все вдруг затихли, пока Лаза не прервал их подавленное молчание сценой беседы Чиано с Риббентропом, что было новинкой в его репертуаре.
БОЙКОТ
Через два дня после исключения учеников рассеянная Жанетта, глядя на опустевшие парты, предложила на время контрольной тем, кто сидит по трое, перейти на освободившиеся места.
На одной парте втроем сидели Анка, Зора и Ольга, на другой — три мальчика.
Все они притворились глухими и продолжали спокойно открывать тетради и доставать ручки.
— Вы что, не слышите?
Тогда встал худощавый паренек и сказал, что они все трое небольшого роста и им не тесно, второй, умоляюще глядя на учительницу, объяснил: они не могут сидеть там, где еще вчера сидели их товарищи. А третий добавил: если уж обязательно надо пересаживаться, пусть туда переходят Ольга и Никола. Но Ольга тоже заявила, что она не сможет писать контрольную, если ей придется сидеть на месте Станицы. На ее слова откликнулся ломающийся мальчишеский голос:
— Поздно спохватилась!
Ольга вздохнула — она мучительно переживала бойкот товарищей. Прежде они всегда окружали ее и потому, что она была дочерью влиятельного в городе человека, и потому, что она одевалась лучше других и казалась мальчикам интереснее, чем ее подружки, носившие халатики, простые мальчишеские башмаки и чулки до колен, как в младших классах, и потому, что она была дружелюбной и не любила ссориться. Сейчас ей представилась возможность показать, что она раскаивается в своем поступке. К тому же ей не хотелось во время контрольной уходить от своих подружек, на помощь которых она рассчитывала. Уже три дня Ольга думала о том, что предпринять, чтобы товарищи опять стали с ней разговаривать. Мало было просто заявить о своем раскаянии, необходимо было доказать его.
Но чтобы добиться их расположения, ей надо было предать отца. И она не колебалась. В последние несколько дней в ней и без того родилось какое-то враждебное отношение к нему. Она забыла, что сама виновата в ненависти отца к Яковлевичу, ведь это она каждый день твердила, что новому учителю никак не угодишь, никогда не угадаешь, где, по его мнению, должны стоять запятые (она поставит, он перечеркнет, она пропустит, он обязательно допишет). Она уже забыла о, том, как часто жаловалась отцу, что учитель отчитывает ее всегда при всем классе, как рассказывала, что к Станице он относится с таким уважением, словно она дочь министра просвещения или директора. Забыла, как ее обрадовали письма отца в Министерство просвещения, которые она случайно увидела на его столе в тот день, когда выдавали табеля и у отца было столкновение со Слободаном и с Яковлевичем. Она долго тешила себя мыслью, что эти письма ухудшат дела учителя и поправят ее собственные. Могло ведь, например, министерство отдать распоряжение, по которому ученикам вовсе не обязательно читать произведения писателей, а достаточно знать их биографии. Или принять решение, чтобы все работы, переданные председателям Литературных обществ, читались на заседаниях и судьба их решалась самими учениками.
Но, с тех пор как Ольга услышала, что новому учителю угрожает опасность, она со страхом смотрела на письма, которые писал отец, и со страхом слушала, как он по вечерам говорил матери, что покажет Яковлевичу где раки зимуют. Те качества отца, которые раньше заставляли ее восхищаться и трепетать перед ним, теперь обернулись другой стороной. Попович тоже заметил эту перемену в дочери и не переставал удивляться. Вместо того чтобы радоваться отмщению и возможности снова показать всем, чья она дочь, Ольга уперлась: «Не виноваты, и все тут». Перед тобой не виноваты, но зато теперь передо мной виноваты! Ему казалось, что с годами она становится глупее. Было время, когда она с радостью и гордостью рассказывала отцу, как однажды, когда ей не хотелось заниматься физкультурой, новому учителю сказали, что она дочь депутата, и учитель тут же разрешил ей уйти с урока, если у нее болит голова. Но стоило другой девочке заявить, что она тоже нездорова, как он оказал, что всех освободить не может. А сейчас она рассказывает, как само собой разумеющееся, что ученики на переменах и заседаниях Литературного общества кричат: теперь не смотрят, кто дочь и кто отец, каждого оценивают по его уму и знаниям. Ну вот, доченька моя, я дал тебе разум, одел и накормил тебя, твое дело учиться, а решать, кто виноват, я уж буду сам.
На следующий день после исключения гимназистов, Ольга снова застала отца за столом. Он писал письмо. «Хорошо бы его украсть, — подумала она, — и показать товарищам». Эта мысль ее испугала: раньше она никогда таких вещей не делала, но теперь большая часть ее жизни была связана с одноклассниками, и она во что бы то ни стало должна была завоевать их расположение. Сделав вид, будто не обращает на отца никакого внимания, Ольга села за свой стол и стала рыться во французском словаре. Шепча про себя слова, она шумно перелистывала страницы, чтобы отец видел, что она полностью погружена в работу. Потом встала, подошла к отцовскому столу (будто за ручкой) и прочитала через его плечо начало второй страницы письма, над которым тот трудился: «...Я послал тебе уже два письма о здешнем учителе Ненаде Яковлевиче, надо узнать о его прежней жизни в Белграде...» Ольга спокойно отошла от стола, делая вид, что продолжает учить французский, и все перелистывала словарь, негромко повторяя: ле пурбуар, ле пурбуар... Заметив, что отец закончил письмо, она поднялась и, как бы невзначай сказав, что устала и хочет прогуляться, небрежно предложила отцу по пути занести конверт на почту. Ольга была способна ради своих прихотей со спокойной совестью обмануть и отца, как раньше заставляла его идти на обман — доставать ей фальшивые справки от врача с освобождением от школы, когда она не была готова к уроку, заставляла ненавидеть тех учителей, которых она сама ненавидела.
Попович обрадовался, что дочь вызвалась оказать ему услугу, и дал ей письмо. Еле скрывая радость, она побежала на почту, положила в новый конверт чистый лист бумаги и отправила его заказным, а письмо отца спрятала в портфель.
Она едва дождалась наступления утра, так хотелось ей показать украденное письмо Момчило и Лазе и, может быть, купить их прощение, снять бойкот, которому подверг ее класс. С нетерпением ждала она конца урока. «Двойки не миновать», — подумала она. Зора и Анка, вопреки ее надеждам, отказались ей помогать. С того дня, как стало известно о наказании, постигшем товарищей, даже они постепенно стали переходить во враждебный лагерь. Подруги, правда, здоровались с ней и разговаривали, когда бывали одни, но при других держались сдержанно. Даже Никола предпочитал проводить время с шестиклассниками, среди которых он еще пользовался любовью.
Сразу после звонка Ольга пошла за Момчило, Лазой и Эро, но рядом оказался Никола, и она не заговорила с ними. И только когда он отошел на другой конец двора, Ольга подошла к Момчило и протянула ему письмо.
— Твой отец послал не одно такое письмо, — с горечью сказал мальчик, не притрагиваясь к письму, хотя и сгорал от желания прочитать его. — Порви его и брось в огонь.
— Но ты не поверишь, — настаивала она, разочарованная тем, что все ее старания напрасны.
— Поверю, не будешь же ты каждый день переходить из одного лагеря в другой.
Она проглотила оскорбление и сказала:
— Теперь я все письма стану сама носить на почту и сжигать их. Я на вашей стороне.
— Ты еще ни на чьей стороне, по крайней мере пока. Вот у нас сейчас этнография, и все мы уйдем с этого урока, даже в класс заходить не будем, пускай Вера застанет пустую комнату. Пойдешь с нами? — небрежно спросил мальчик, повернулся и пошел, не дожидаясь ответа.
Несчастная и одинокая, Ольга вышла во двор. В самом конце его, у ограды, она увидела почти весь свой класс, в том числе Зору и Анку; ребята о чем-то договаривались. Потом один за другим они направились к входу в гимнастический зал. Прошмыгнул один, другой, третий, через минуту исчезло еще человек пять, и, наконец, двинулись Анка и Зора. Ольга сразу догадалась: ребята сбегают с урока этнографии, и бросилась за подружками. Зора смущенно призналась; они в самом деле удирают с урока этнографии, чтобы отомстить Вере за предательство, и потом доверительно шепнула Ольге, что учительница наверняка никому об этом не посмеет сказать, а тем более директору. Но Ольга и без этого пошла бы с ними, счастливая тем, что представилась наконец возможность показать, что она порвала с Николой и теперь заодно с ними.
За минуту до прихода учительницы в класс вошел Никола, но и он, увидев пустые парты, поспешил спрятаться где-то в коридоре. Две минуты спустя, проходя мимо, Яковлевич удивился мертвой тишине, которая царила в его классе. Он приоткрыл дверь — в пустой комнате сидела Вера и плакала, — хотел было подойти к ней, но сдержался и потихоньку притворил дверь.
МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ САМИ
— Господа, прошу вас на урок, — повторил директор, но учителя не расходились.
Вера плакала у окна. Ясика ходила взад и вперед, бормоча, что во всем виноват Никола. Физкультурник вслух удивлялся, что учителя можно выгнать, словно провинившегося ученика. Физик уверял, что Яковлевичу в министерстве кто-то подложил свинью, а математик швырнул классный журнал так, будто никогда больше не собирался брать его в руки.
— И что вы теперь будете делать? — спросил он директора.
— Сообщу ему, — ответил тот на вид спокойно. — А вас еще раз прошу — на уроки.
— Выгнать человека со службы из-за поступка, совершенно естественного для человека, который любит людей и понимает порывы молодости.
— А вы чего же ждали? — словно дразня их, спросил директор, которого снова подхватила волна озлобления.
Он испытывал в эти дни к Яковлевичу самые разные чувства. Директор никак не мог до конца объяснить себе его поведение. Порой молодой учитель казался ему необыкновенно смелым, по-юношески непреклонным и возбуждал легкую зависть: вот ведь он может себе позволить то, на что другие не решаются, и поступать так, как ему кажется справедливым. Директор спрашивал себя, не поторопился ли он сообщить обо всем министерству, и сожалел, как и в случае со Станицей, что самый энергичный среди преподавателей, освободивший его от стольких забот, связанных со школьной столовой и со многим другим, навлек беду и на свою, и на его, директора, голову. Но когда он вспоминал, как племянница, учившаяся в шестом классе, упрекала его за то, что он наябедничал в министерство на Яковлевича, директора снова охватывало бешенство, как бывает с людьми, которых жизнь или собственный характер заставили изменить идеалам молодости. И он обвинял Яковлевича в том, что тот дезертировал с позиций учителей и перекинулся к ученикам. «Смотрите, мол, ребята, только я один в этой школе хороший, только я вас люблю и понимаю, а остальные вам враги, хотят вам зла». И все это вместо того, чтобы дать им хорошую взбучку, вместо того, чтобы объяснить детям, что такое закон: ведь если сейчас они осмеливаются нарушать школьные законы, взрослыми они будут нарушать и другие, за что может полететь голова с плеч. И с этой точки зрения настоящий враг детям он, Яковлевич, а не другие учителя и не директор. А поскольку Яковлевич не понял этого, ему придется убираться из школы, ибо он плохой воспитатель, не говоря уже о прочем.
Словно забыв, что директор призвал учителей расходиться по классам, математик громко обратился к одному из учителей, все еще толпившихся в учительской:
— Что ж, так мы и разойдемся на уроки без единого слова протеста, а ведь наши ученики перевернули всю школу, когда запретили их журнал. Да, видно, стареем мы и жизнь нас портит. Если бы возмутились мы, учителя, Яковлевича бы вернули!
Кто-то пробормотал: «Математик, и такая наивность!»
Преподаватели, которые до сих пор оставались глухими к призывам директора приступить к занятиям, стали расходиться, боясь, что вспыхнет ссора.
— Где уж сладить безрогому с рогатым! — с горечью заметила Гросмутер.
— Сладить, вероятно, нельзя, но вот драться-то можно. Мы для своих учеников как раз и есть эти самые рогатые, а видите, они же дерутся с нами, — отозвался математик.
Не прошло и получаса, как вся школа знала, что новый учитель сербохорватского языка уволен. И не было класса, где бы не возникло глухого или открытого столкновения, подобного стычке в учительской. Девочки плакали, мальчишки возмущались. Одни старались держаться подальше от тех, кто говорил об этом, другие ликовали. Ученики ругались и рычали друг на друга, как молодые зверьки! Человеческое общество в миниатюре!
Малыш из второго класса горько плакал.
— Эх ты, запятая! Думаешь, что, кроме Яковлевича, никто не может рассказать о знаках препинания?
— Если бы я был директором...
— Если бы ты был директором, ты не был бы запятой!
— Если бы я был директором, я бы сегодня же ночью поехал в министерство...
Момчило, Лаза, Петар Эро и Чедомир о чем-то договаривались. Какая-то маленькая сплетница перед самым звонком открывала дверь каждого класса и сообщала:
— А вы знаете, что ответил Яковлевич, когда служитель позвал его к директору? «Скажите господину директору, что я приеду, когда закончу урок».
— Это неправда, — кричали ученики. — Директор вовсе не вызывал его с урока.
Еще три года назад все ученики были похожи друг на друга, как бывают похожи друг на друга растения, пока не расцветут. Сейчас они уже расцветали, и их можно было различить издалека по голосам, взглядам и манере держать себя. Среди них были мстительные, равнодушные, благородные, бездарные, деспотичные. Были и такие, которые считали, что их неудачи не зависят от них самих, а от каждой перемены в жизни ждали для себя чего-то лучшего. О некоторых можно было сразу сказать, что они спокойнее всего чувствуют себя за брустверами устоявшихся законов и привычек. В их глазах уже угадывалась печаль будущих консерваторов. А подстрекателей выдавала наивная уверенность, что никто не понимает истинных мотивов их поступков.
Взволнованные, ученики разошлись по домам и разнесли эти драматические новости. Мать Эмилии узнала о них в школе два часа спустя и вернулась домой подавленная. Весь город, как и тогда, когда были исключены ученики, говорил, что ее дом — рассадник коммунизма, что ее дети совратили с праведного пути скромных юношей и девушек, что ее детям хорошо сдавать экзамены экстерном — она может прокормить их, а вот что будут делать Станица и Слободан, как они перебьются эти два года. Теперь уже говорили, что и нового учителя уволили по вине ее детей: он хотел спасти ребят, которых Стеван и Эмилия толкнули на необдуманные поступки, и вот бедняге приходится за это расплачиваться. Ей было трудно, но детям она решила ничего не говорить.
Впрочем, нечто подобное она уже пережила, когда Стеван был исключен из восьмого класса гимназии. Мать огорчило, что желания сына расходятся с ее, что на многие вещи он смотрит по-своему, что он тянет за собой и Эмилию, что дети не согласны с нею даже в вопросе, как должна быть обставлена комната. Но она не хотела разрушать их мир; она знала — в своих поступках и дома и в школе дети руководствуются искренней верой в то, что, если осуществятся их мечты, люди станут счастливее. Когда исключили Стевана, ей тоже пришлось вынести немало косых взглядов, намеков, злых предсказаний; от такого сынка только и жди пакостей, но втайне она даже гордилась тем, что у сына своя голова на плечах, что он верен идеям, которые кажутся ему самыми передовыми.
Подходя к дому, мать услышала, как друзья Эмилии смеются, словно жизнь не подставила им ножку перед самыми выпускными экзаменами. Мать со страхом думала о беде, с которой ее такая еще юная девочка должна будет справляться сама. Ее ждут косые взгляды, впервые она испытает горечь разочарования, встретившись со злорадной улыбкой какого-нибудь вчерашнего товарища: «А, ты хотела быть умнее и лучше нас!» Ей придется сносить упреки учителей, которым ее поступок представляется оскорблением школе и им лично. Ее будет мучить мысль о том, что Яковлевич потерял место, стараясь спасти их.
Но все же мысль обо всех невзгодах, ожидающих Эмилию, для матери менее тяжела, чем тот страх, который ей пришлось пережить десять дней назад, когда в школе и в городе заговорили, что будет наказана только Станица, ну, возможно, и Слободан, поскольку их видели при сборе подписей. Она не могла надивиться новой логике в дружбе детей — каждый забывал о себе и думал только о деле, которое им дорого, которое увлекло и сблизило их. Однажды мать едва сдержалась, чтобы не вмешаться в их разговор. В тот день к ним неожиданно прибежала взволнованная Станица и рассказала, что кто-то из учеников сообщил директору о встречах у Эмилии. Ведь будет ужасно, если и Эмилия не сможет остаться в школе! Учительница с трепетом ждала, что скажут ее дети. Ей стало стыдно, когда Стеван согласился со Станицей: действительно нехорошо, если восьмой класс останется без своего человека. К радости матери, Эмилия воскликнула, что в классе есть кому продолжать работу и что она предпочла бы разделить наказание со Станицей и Слободаном. «Дети, дети, — шептала тогда учительница, — вы еще заставите меня отказаться от представлений, которым, мне думалось, я не изменю до конца дней. Боже мой! Удивительны ваши молодые сердца! Вам под силу вырвать с корнем старые, корявые, вековые дубы, изменить русла коварных или застоявшихся рек!»
В комнате стало шумно. Кричали все разом. Каждый что-то предлагал, о чем-то спрашивал — разговор шел об уволенном преподавателе. Все хотели помочь ему, и возможно скорее, но никто не знал, как именно это сделать. Чувствуя, что даже мысль о том, будто их слышит кто-то из старших, была бы им неприятна, она ушла в кухню. В комнате между тем продолжался разговор.
— Сомневаюсь, что мы можем что-нибудь сделать для него, — подавленно заметила Эмилия.
Дивна нетерпеливо, почти враждебно спросила:
— Почему ты сомневаешься?
Лаза с видом заговорщика подмигнул Эмилии.
— Наша Дивна раньше не хотела ни во что вмешиваться, а сейчас не дает мне и слова сказать, — с улыбкой сказала Эмилия.
— Мы не можем сделать то, что бы нам хотелось, — подхватил Стеван. — Невозможно немедленно вернуть его в школу, но помочь ему продержаться первое время мы в состоянии. Я кое-что придумал...
— А я считаю, если уж помогать, то помогать до конца. Какая ему будет польза, если он не вернется в школу! — опять поспешно вмешалась Дивна.
Стеван слушал ее так, как слушают иностранца, который старательно говорит на чужом для него языке, снисходительно отмечая его ошибки благосклонной улыбкой.
— Будет дело, раз уж и тихони сделались решительными, — весело сказал он.
— Стеван, Стеван! — по обыкновению, взлетел над общим шумом ясный голос Эмилии. Она уже забыла, как только что сама откликнулась на слова Дивны подобной же репликой.
— Не забывайте, тихие тоже могут быть храбрыми, одно другому не мешает, — бросил Слободан.
— Конечно, и ты самое лучшее тому доказательство, — живо отозвался Лаза.
Стеван обвел взглядом ребят, начиная с Дивны и кончая только что пришедшими Милицей и Еленой, и пожалел, что не может повести их на борьбу, о романтике которой они так мечтают, на борьбу, полную опасностей, чтобы Яковлевич увидел, на какие жертвы они способны ради него. Он боялся, как бы не угас их боевой пыл, когда они узнают, что дело, которое им придется выполнить, гораздо проще, чем они хотели бы, и вовсе не похоже на подвиг.
— С ним расправились просто с кинематографической быстротой, — заметил Момчило, словно только сейчас осознал это.
— Поэтому и наша помощь должна быть не менее быстрой, — подхватил Стеван. — Нельзя допустить, чтобы он так и уехал, не узнав о нашей любви и благодарности.
Ученики насторожились; не спуская со Стевана глаз, они слушали, как он объяснял им, что Яковлевичу необходимо в течение завтрашнего дня найти частные уроки. Станица, которой нет здесь из-за болезни, полностью с ним согласна. Стеван подчеркнул, что сделать все нужно быстро, и это требование в какой-то степени возместило недостаток романтики. Задача перед ними была поставлена нелегкая. Ребята кинулись лихорадочно перебирать своих младших сестер и братьев, которым мог понадобиться репетитор. Девочки, впервые попавшие в дом Эмилии, пошептались между собой и объявили, что попросят мам уговорить соседок, у которых дети не слишком хорошо успевают, взять им учителя. Мальчишки при упоминании о мамах вспыхнули:
— Никаких мам! Мы все должны сделать сами! Матери все испортят. Это наше дело.
— Если нет учеников, мы их выдумаем!
Эмилии с трудом удалось усмирить и ввести в разумные рамки это бурное стремление к независимости. Главное сейчас организовать помощь, пусть и с помощью матерей. А потом уж можно будет позволить себе роскошь все делать только своими силами.
Учительница из соседней комнаты с гордостью слушала слова дочери. Ей был особенно приятен легкий юмор, которым ее дети приправляли даже самый серьезный разговор. Она с грустью подумала, как быстро промчалось время, — ведь, кажется, совсем недавно Стеван начал говорить и бабушку звал «мое золотко» — бабушка учила его ходить и все повторяла: «Иди сюда, мое золотко!», а Эмилия называла свои первые башмачки «как раз», потому что родные, надев ей на ножки новые башмачки, радостно воскликнули: «Как раз!» В то время дети думали, что волы, у которых в прохладные дни из ноздрей идет пар, курят табак.
Ближе к вечеру мать пришла в комнату с яблоками и принялась угощать ребят. Казалось, решение уже было выработано, и Лаза говорил голосом Ольги:
— Папа, пожалуйста, разреши мне брать уроки у нового учителя, знаешь, у того, на которого ты жаловался в министерство. Он лучше всех умеет объяснять, где надо ставить запятые и как читать стихи Якшича...
Завидев учительницу, Лаза радостно подбежал к ней:
— Я тоже считаю непозволительной роскошью отказываться от помощи матерей, особенно когда они угощают нас яблоками. Разрешите, я помогу вам.
— Я уже давно вышла из детского возраста и потому охотно принимаю помощь.
Она немного задержалась в комнате, хотя знала, что ее присутствие будет ребятам в тягость. Больше половины из них она учила в начальной школе; среди них были и те девочки, что предложили прибегнуть к помощи матерей, и мальчишки, что восставали против этого, и те, кто едва мог дождаться, пока она оставит их одних, и те, кто питал к ней прежнее уважение и вежливо улыбался, стараясь загладить бестактность товарищей, которые всем своим видом показывали, что посторонний человек им мешает.
— Что это я хотел сказать! — смущенно проговорил Лаза, первым беря яблоко, и добавил: —Вам разрешается присутствовать в нашем парламенте, пока мы не опустошим тарелку!
Уже пора было зажигать свет, учительница подошла к окну опустить занавеску и тут увидела, что по направлению к станции на санях едет Ясика с сыном. Никола сидел рядом с кучером, а на сиденье возле Ясики стоял большой чемодан.
И хотя колокольчики звенели на всю улицу, возвещая о радости снежного дня, и в синеватых зимних сумерках еще была видна уздечка с красными кисточками, а на заднем сиденье пестрел веселый коврик, учительнице стало грустно и неприятно. Ей показалось, что между матерью и сыном, сидящими на этих веселых санях, пролегла глубокая пропасть, что их обоих гнетет мучительная забота.
— Госпожа Ясика проехала куда-то с Николой, похоже, что на станцию. Куда это они?
Все взглянули в окно, но сани уже исчезли, только печально блестел серебристый след полозьев.
— Говорят, что Ясика взяла Николу из нашей гимназии. Хочет послать его в другой город, — коротко объяснила Эмилия.
На минуту всем взгрустнулось, и одна из девочек вздохнула, как старушка:
— Бедная Ясика!
ОДИНОЧЕСТВО
Ольга вернулась домой, проводив вместе с другими уволенного учителя, и с порога закричала:
— Нового учителя уволили! Все ребята плачут.
— Жалеют, что теперь будут без двоек, — отозвался отец, едва подняв глаза от газеты.
— Он не ставил двоек!
— А тебе?
— Я не учила, что ему оставалось делать! Папа, спаси его! — заплакала она.
Попович бросил газету и встал. Вот и пойми этих баб: сначала жалуется, а теперь жалеет!
— Папа тебя спасает, детка. И, вместо того чтобы обнять и поцеловать его, ты делаешь все наоборот.
Он снова пустился разглагольствовать о своем могуществе, стараясь пробудить в ней тщеславие: пусть чувствует, из какой она семьи. Это не шутка, не раз подчеркивал он, быть дочерью депутата Поповича. Ей только бы сдать выпускные экзамены, а там плевать она хотела на учителей. Сава увидит, что через месяц после экзаменов, которыми их всех стращают, ей все будут кланяться на улице, как кланяются ее отцу. Она станет первой барышней в городе.
«Может быть, папа не такой уж страшный? — думала она, слушая его. — В самом деле, это будет восхитительно! Вот она сдала экзамены и, задрав нос, проходит мимо этих скорпионов-учителей. Только с Яковлевичем она и станет здороваться. Ну с Жанеттой иногда. Ведь француженка всегда в конце четверти исправляла ей двойки. А может, и с беднягой Чичей. Правда, Яковлевич хороший учитель, но Чича не хуже, да к тому же на его уроках можно было делать что угодно. И Гросмутер не так уж страшна, просто ей немного обидно, что она уже старая, а мы молодые...»
Так она пыталась вырваться из-под всесильного влияния отца и среды, в которой выросла. После бойкота товарищей, после исключения Станицы и Слободана она, словно ребенок, который сначала бежит за мчащимся по дороге экипажем, а потом, утомившись, отстает и возвращается к своим играм, пыталась держаться рядом с учениками, которые шли во главе класса, готовая, впрочем, в любую минуту отстать и отойти в сторону.
Ее охватывал озноб при мысли о том, что сказал бы отец, если бы увидел, как она вертится около дома Станицы в надежде, что ее увидят и пригласят внутрь. Ведь она уже столько сделала, чтобы убедить их в искренности своего раскаяния. С тяжелым сердцем слушала она на перемене импровизацию Лазы, притворяясь, будто ей это тоже доставляет удовольствие.
— Доигрался-таки любимец детворы, адвокат Джюры Якшича. Теперь у моей Ольги будет пятерка.
Ольга сделала вид, что не заметила, как Дивна кивнула ему на Ольгу, и тихо сказала:
— Надо или прощать до конца, или совсем не прощать...
Лаза пробормотал себе под нос:
— Как видишь, я и не простил.
Но когда он стал изображать директора с историком, Ольга тоже смеялась, хотя ей было жаль их так же, как и отца.
— Коллега, я сожалею, то есть мне очень приятно, что Ненад Яковлевич уволен со службы. Так ему и надо, раз он не хотел диктовать уроки и учить учеников уму-разуму.
Слушая Лазу, Ольга думала: а вдруг здесь окажется отец и услышит, как она смеется вместе со всеми. Чего доброго, он заберет ее из школы или выгонит этих ребят!
Однажды вечером мать Эмилии встретила Ольгу в сквере. Это была та же самая девочка, которая когда-то занималась у нее: беленькая, ребячливая, только чересчур хитрая и самоуверенная. Если кто-нибудь проходил мимо, не обратив на нее внимания, она еще выше закидывала голову, словно говоря: «Как можно меня не заметить, не заметить моих кудрявых волос, причесанных парикмахером, — такой прически нет ни у кого в школе!» Учительница вспомнила, что в начальной школе Ольга ходила в белых, как снег, накрахмаленных халатиках, вспомнила ее завтраки, завернутые в тонкую бумагу. На уроках она отщипывала кусочки, и бумага шелестела при каждом ее движении, отчего казалось, что в парте поселились мыши, а Ольга делала вид, будто внимательно слушает объяснения. На переменах девочка постоянно вертелась у дверей комнаты, где раздавали завтраки детям из бедных семей, хотя все уроки тайком глотала лакомые кусочки, принесенные из дому. Врала она часто и бездумно, уличить ее было нетрудно: забыла, что было задано на дом, так как не было карандаша, чтобы записать.
— Там Ольга Попович бродит в сквере, — растрогавшись, сказала учительница детям, придя домой.
Стеван понял мать и ответил, что хватит того, что с ней в школе разговаривают, не приглашать же ее в дом! Погуляет и уйдет. Из-за ее глупости они вот теперь не могут учиться, закончил он, поймав взгляд матери, не одобрявшей такой непреклонности и жестокости.
— Ну скорее не из-за ее глупости, а из-за чьего-то слишком большого ума.
— Ты это, мама, сказала так, будто ты на уроке: все сразу поставила на свое место.
Возвращаясь домой со своих одиноких прогулок, опечаленная безразличием товарищей, которые с трудом выносили ее, Ольга запиралась в своей комнате и весь вечер читала Змая, Якшича и Доситея. Читала громко, с чувством. Попович просыпался от ее голоса. Сначала она читала:
— Падайте, братья, в крови плывите!.. Села оставьте, жгите костер. И детей в него побросайте! Рабство стряхните и смойте позор!
Потом ему казалось, что он слышит ее плач, и снова звучали стихи.
Как-то утром он спросил жену:
— Сколько лет нашей дурехе? — И, встретив удивленный взгляд жены, прибавил: — Ведет себя, как девушка на выданье, то надо было брать репетитора, чтобы он читал с ней стихи, а теперь, когда выгнали этого голоштанника Яковлевича и никто стихов с нее не требует, она ночь напролет декламирует Якшича! Скажи ей, что я больше не намерен этого терпеть, я хочу спокойно спать!
ШКОЛА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ
Два раза в день Слободан проходил по улице, которую внезапно выпавший снег сделал неузнаваемой, но по-прежнему милой. У него было такое чувство, словно именно по такой улице он шел однажды еще совсем ребенком и увидел что-то очень хорошее, от чего у него и сейчас тепло на душе, но что это такое было, он не мог вспомнить. Или такая улица была изображена на картинке в книжке, которую он в детстве держал у себя под подушкой; может быть, ему запомнилась сказка о том, как люди зачерпнули из колодца полные ведра снега вместо воды, и о том, как над синими глазами домов вдруг выросли белые брови.
Порог дома Яковлевича был заметен снегом, значит, учитель дома и, может быть, ждет, что к нему заглянет кто-нибудь из учеников или коллег. А что, если зайти и рассказать Яковлевичу, как его, Слободана, мучает, что из-за его просьбы защитить Станицу, так все вышло? Впрочем, Яковлевич это и сам знает. Лучше не давать воли сердцу и идти своей дорогой.
Когда он проходил второй раз, в конце улицы ему встретились братья Станицы.
— Вашего учителя тоже выгнали, — подбежав к нему, тихо сказали они.
Авторитет Станицы в их глазах вырос еще больше: ведь она разделила судьбу учителя!
— Знаешь, как Станица бредила сегодня ночью! — доверительно продолжал младший (видимо, это тоже воспринималось как подвиг). — Все с Яковлевичем разговаривала! Вы, говорит, господин учитель, всегда были наш, мы со Слободаном это знали. Поедемте с нами в министерство! Нельзя допустить, чтобы запретили наш журнал... И еще, говорит, вы не должны чего-то разрешать директору и историку. Мама все время кладет ей на голову компресс из уксуса...
— Это француженка сказала так делать, — опять вмешался старший, — она вчера вечером приходила с кем-то, и Станица все путала имена. Но доктор сказал, что Станица скоро поправится, воспаление не очень сильное. Пойдем, посмотришь, она и нас путает.
У Станицы они застали Эмилию, Лазу, Дивну и Момчило. Сейчас у нее не было жара, и, едва Слободан вошел в комнату, она сразу спросила:
— Был у Яковлевича?
— Ты его плохо знаешь! — подскочил Лаза. — Ему надо три раза пройти мимо, три раза захотеть войти, три раза побороть в себе это желание, и тогда, может быть, он на что-нибудь и решится. Если бы мальчишки тебя не привели, ты и сюда не зашел бы с первого раза, правда?
— Оставь, Лаза! Ты заходил к Яковлевичу? — повторила вопрос Станица.
Братья никак не желали уходить из комнаты, наперебой предлагая свои услуги Станице и ее товарищам. Выполнять мамины приказания — это так обыкновенно, они делают это каждый день! Но выполнять распоряжения учеников, которых наказали так же, как и их учителя, учеников, которые подняли бунт, это уже походило на геройство.
Они спросили сестру:
— Станица, сколько у тебя денег?
— Денег? Ни гроша...
— А у мамы?
— Да на что вам деньги?
— А у тетки?
— А ну, признавайтесь, — прикрикнул Лаза, — на что вам деньги?
Помявшись немного, они признались, что тоже хотели бы брать уроки у Яковлевича. Если Лале может с ним заниматься, то почему они не могут. А учитель никогда бы не узнал, что они братья Станицы, они договорятся с мальчишками, чтоб те не говорили ему.
— Да ведь вы учитесь в начальной, а он занимается только с гимназистами, — вмешался Момчило, любивший подразнить мальчишек.
— А мы не станем говорить, что мы не гимназисты. А сербский мы знаем не хуже троечников из первого класса гимназии.
— Ишь храбрые какие! — откликнулся кто-то, и скоро о них на время забыли.
Потом о ребятах снова вспомнил Лаза. Решив хоть немного утолить их жажду подвигов во имя общего дела, он подозвал братьев и шепнул им с видом заговорщика:
— Идите на улицу, где живет Яковлевич, и внимательно следите, кто по ней проходит. Потом сообщите нам.
Слободан запротестовал:
— Зачем это? Они еще скандал устроят.
Но Лаза настоял на своем:
— А что такого? Это даже педагогично, если хочешь знать...
Дальнейший разговор и споры мальчишек не волновали. Они уже неслись по улице, подбрасывая пятки к самому заду.
А Станица тем временем все реже вступала в разговор; ее словно вдруг перестали занимать их общие заботы, которые томили ее сильнее, чем других; она уходила в свой мир, мир больного человека. Щеки у нее раскраснелись. «Снова температура поднимается, — подумал Слободан. — И вчера в это же время она стала такой же румяной и ее захлестнуло что-то свое, похожее на опьянение или неотступную заботу». Она протянула ему руку и сказала:
— Очень горячая?
Рука и в самом деле была горячая, но это было тепло, которое не влекло, а, наоборот, пугало и отталкивало, которое невозможно было ни с кем разделить. Будут ли они когда-нибудь снова гулять по кладбищу? И случится ли так, что руки их случайно встретятся и по ним пробежит то тепло, которое соединяет? И отнимет ли снова Станица руку, говоря о каких-то совершенных пустяках, словно она не переживает того же, что и он. И покажется ли ему в ту минуту, что от него улетает какая-то мечта?
Когда он видел ее, мечущуюся в жару, он испытывал такое чувство, как будто она забыла о школе, о том, что случилось с ними, о Яковлевиче; все это сейчас отступало на задний план по сравнению с тем, что происходило в ней самой. Станице было все чуждо: и друзья, и эта маленькая комната, где она выросла и где два года назад как-то сказала ему, что ее удивляет, почему это к ней не приходит то странное состояние, которое бывает у всех девчонок в пятнадцать лет. Она была тогда еще совсем ребенок и говорила об этом свободно, словно рассказывала урок по истории.
— Писатели говорят, будто с девушкой в это время происходят удивительные вещи. Она то грустит и плачет, неизвестно почему, то вдруг развеселится безо всякой причины. А то, говорят, бросится ласкать и обнимать кошку. У некоторых даже появляется желание целовать вещи. Ну, разве не смешно?
В то время Слободан не мог вспомнить, что он про это читал.
— Ты не помнишь, потому что это касается девочек, а не мальчиков, вот ты и не обратил внимания. Ты знаешь, я ужасно не люблю, когда нас так делят. Правда, неприятно?
После она никогда уже больше об этом не говорила. Может быть, у нее тоже наступило это состояние и ее угнетало, что с девочками происходит то, чего не бывает с мальчиками? А когда они гуляли по кладбищу, появлялось ли у нее желание обнять все вокруг? Может быть, сейчас, во время болезни, она совсем забыла об этих прогулках? И юноше стало очень грустно, он жалел, что ни разу не рассказал ей, как, затаив дыхание, искал и ждал ее случайных и коротких прикосновений и как упорно молчал о них, словно мстил себе, потому что понял свое слабое место, понял, что здесь ему не совладать с собой. Почему он не признался ей, когда и к нему пришло то, о чем в книгах писали обычно только о девочках? Она, быть может, тоже поделилась бы с ним, как тогда, когда они были детьми и вместе удивлялись тому, что пишут писатели.
Пришел врач, за ним ворвались братья Станицы и, не обращая на него внимания, победоносно закричали с порога:
— Ольга только сунула нос на улицу Яковлевича, как мы ее закидали снежками. И другие ребята тоже на нее напали. А она дурочкой прикинулась и орет: «Что вы делаете, безобразники! От снега с ума посходили?»
Услыхав шум, врач нахмурился.
— Мы тихо разговариваем, — смущенно оправдался Лаза. — Это вот мелюзга...
Встретив вопрошающе-тревожный взгляд Слободана, врач сказал:
— Через недельку, она выздоровеет, тогда и наговоритесь, а сейчас ступайте все по домам, больной нужен покой. Позовите маму, — попросил он братьев Станицы.
С тяжелым сердцем уходили друзья от Станицы. На улице они расстались и грустно разошлись по домам. «Пошли уроки делать, — с болью подумал Слободан, глядя им вслед, — завтра на занятия». Школа продолжает работать. И все будет так же, как было, когда и он ходил туда.
И если незадолго перед этим ноги влекли его к дому уволенного учителя, то теперь они привели его к школе. Большое здание, похожее на здания судов в Сербии, было занесено снегом и безмолвно. Во дворе ни единого следа. Окна и двери закрыты. «Сегодня воскресенье», — впервые после исключения подумал он о дне недели. В расписание он не смотрел, и все дни были для него одинаковы. Он шел по противоположной стороне улицы, и ему показалось, что все тридцать окон школьного здания ослепли, завеянные белой снежной пылью, что кто-то белыми чарами заколдовал и усыпил учеников и учителей в классах, директора и служителя. И неожиданно все, что было пережито в этих стенах — все страхи и радости, детские игры и юношеские увлечения, контрольные, борьба с учителями, — все куда-то ушло, будто со дня сбора подписей минуло несколько лет, а не несколько дней. «Так и товарищи постепенно отойдут», — подумал он. Они по-прежнему останутся в школе, а ему придется жить теперь по-другому. Надо помочь им. Пусть не оглядываются на него и делают свое дело. Он заметил, что Лаза и Момчило стараются теперь бывать с ним дольше, чем раньше, опасаясь, что он обидится, если они скажут, что им надо учить уроки. Слободана тяготила не собственная участь сама по себе, а то, что нынешнее его положение осложнит жизнь товарищей; и исключение из школы его тревожило гораздо меньше, чем увольнение Яковлевича. Слободану вдруг показалась глупой затея идти искать уроки Яковлевичу, хотя до этого он тоже увлекся ею. Можно найти хоть сотню учеников, но разве это возместит учителю то, что он потерял. Он обвинял себя и в том, в чем был вовсе не виноват, даже вину за недоразумение, которое возникло между Яковлевичем и Верой, брал на себя.
— Усложняешь, брат, — отозвался Стеван на сетования Слободана. — Да и не удивительно: ты оканчиваешь школу жизни по слишком уж сокращенной программе. Существует, по меньшей мере, целая цепь виноватых, и мы в ней лишь ничтожное звено.
Они встретились в парке, который зима превратила в настоящий лес. И парк и улица, где жил Яковлевич, казались сейчас другими — таинственными. Дети играли в снежки на поляне, а здесь снег стоял нетронутым, словно он только что выпал, ветки сгибались почти до земли, низкие кусты укутала белая пелена. Серебристая корочка, покрывавшая тонкие ветки, крошилась, и ледяные чешуйки, падая на разогретый солнцем снег, тонули в нем, образуя на поверхности бесчисленное множество крохотных дырочек.
Они шли по узенькой тропке, и, когда попадались встречные, им приходилось сходить с нее, ломая белые стены сугробов. Это напомнило Слободану опасную и потому самую привлекательную игру детства. Мальчишки отправлялись по узкому, неустойчивому бревну, переброшенному через поток, одновременно с противоположных берегов, и тот, кто проходил меньшую часть пути, должен был уступить дорогу партнеру, стоя на самом краю бревна и держась за перекладину, которая тоже качалась и грозила каждую минуту сорваться. Из девочек только Станица отваживалась принимать участие в этой игре. И хотя она ловко бегала по бревну, она часто нарочно медлила, чтобы ей пришлось пропускать Слободана. Крепко держась за перекладину, она касалась бревна только носком одной ноги, а другой болтала над водой.
На снежной полянке у тропинки две девочки падали в снег, стараясь оставить на нем ровный след. Перед глазами Слободана возник двор начальной школы, все ребята под снегом, и он «воскрешает» Дивну и Станицу, поднимая их из снежных могил, в которых они покоились по собственной воле. Обе посинели от холода, а учительница, мать Эмилии, ругает их и запрещает эту забаву.
Вероятно, и Стевана засыпали снежинки детских воспоминаний, потому что он тоже молчал и чему-то мягко улыбался.
НЕОЖИДАННЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
На третий день после увольнения, к вечеру, Яковлевич начал укладываться. По всей комнате были разбросаны книги. С каждым переездом их становилось все больше и приходилось заводить новые чемоданы, зарекаясь при этом покупать книги. Несколько раз он принимался перекладывать книги, ему казалось, что, если их положить по-другому, в чемодан поместится больше. Удобнее всего укладывались издания Нельсона в белых переплетах. И он взялся за них. «Нума Руместан», ты, давай, ложись на самое дно, рядом с тобой лягут «Набоб» и «Рассказы с холмов», а там дойдет очередь и до поэзии, она полегче. Разрешите, Виктор Гюго, ваше «Искусство быть дедушкой» и «Контемпляции» я устрою вот здесь.
Неплохо разместились сочинения Ипполита Тена, положенные на самое дно, и русские классики в издании Сербской литературной задруги. Миниатюрные томики стихов удачно заполняли пустоты между большими книгами. И лишь тщетно ожидала своей очереди тяжелая груда грамматик, словарей и философских сочинений. «Ваша громоздкость не позволяет вам ехать первым классом — в чемодане, — по-мальчишески подшучивал он. — Мы вас завернем в оберточную бумагу и перетянем веревкой. Таким способом ездят обычно те, без кого нельзя обойтись».
И тем не менее художественная литература в чемодан не вмещалась. Вдруг в голову ему пришла восхитительная мысль: надо оставить Станице и Слободану книги, которые могут быть им полезны и интересны. Он снова опустошил чемодан, и начал перебирать книгу за книгой. И чем дольше он смотрел, тем больше ему хотелось то плакать, то смеяться: в самом деле, у него нет ничего, что могло бы их обрадовать. «Да, жизнь идет вперед, — думал он. — Книги, которые мы читали в восьмом или седьмом классе, эти ребята, кажется, прочли уже в пятом и сейчас хотят двигаться дальше». Все-таки он отложил несколько книг Горького и Чернышевского, прибавил к ним Толстого, пошутив про себя, что эти трое, вероятно, доросли до ребят.
Послышался стук в дверь, и в комнату вошли два первоклассника. Первым заговорил смуглый:
— Мы из гимназии, мы хотели бы, чтоб вы занимались с нами сербским.
А второй гордо добавил:
— У нас четверки, но мы хотим знать еще лучше.
Яковлевич пригласил их сесть. «Должно быть, — подумал он, — это Чичины ученики или соседи, старик придумал эту хитрость, чтобы помочь мне».
— Не знаю уж, как и быть. Я вот, видите, уезжать собираюсь, — сказал он. — А кто это вас послал?
Мальчишки быстро, как заговорщики, переглянулись.
— Мамы! Они еще месяц назад собирались, потому что в начальной у нас были пятерки, а сейчас четверки.
Яковлевич развеселился, укладка вещей пошла живее. Он считал, что гораздо хитрее Чичи, поскольку сразу уличил его.
— Ну раз вы хотите пятерку, то мне не остается ничего другого, как отложить отъезд.
Он взглянул на них краешком глаза. Мальчишчи радостно вскочили, полагая, что он согласился, и поспешили к двери, чтобы как можно скорее сообщить об удаче старшим, которые ждали их на соседней улице. Но тут снова раздался стук, и вошла девочка из четвертого класса. Мальчики хмуро взглянули на нее, как на конкурентку в этом увлекательном предприятии.
— Здравствуй! Ты с чем пришла? — добродушно спросил ее Яковлевич.
— Простите, господин учитель, я хотела бы брать у вас уроки сербского языка.
— Но ты ведь хорошо учишься! Лучшая ученица в классе!
И хотя девочка всю дорогу репетировала, что надо говорить, она смутилась и выпалила:
— Сестра говорит, если у вас будут частные уроки, вам не придется уезжать.
Мальчишки собирались тихо и незаметно выразить ей свое негодование, но вместо этого у них вырвалось неожиданно громко и сердито:
— Эх ты, болтушка!
Яковлевич сделал вид, будто не заметил ни их возмущения, ни того, что сказала девочка, и снова усадил гостей на стулья.
— Значит, вы хотите улучшить оценки, — рассеянно говорил он, укладывая книги. — Всяких похвал достойны родители, которые хороших учеников хотят сделать отличными. Будь у меня человек десять таких учеников, я, возможно, и смог бы остаться в вашем городе.
Все трое открыли было рот, чтоб сказать, что учеников будет достаточно, но вовремя сдержались. Девочка начала рассказывать, как в ее классе все, даже те, кто учится плохо, плакали, когда узнали, что он уходит из школы.
— А вы помните Йована Марковича, того, что всегда на уроках разговаривает, — продолжала она. — Йован сказал, что, когда станет учителем, тоже будет спасать учеников. А потом он подрался с Петровичем, потому что Петрович говорит, будто Йован никогда на учителя не выучится.
— Подрался? — удивился Яковлевич. По виду он внимательно слушал рассказ девочки, а на самом деле растроганно думал о том, как милы эти маленькие люди в своем стремлении спасти взрослого человека.
— Ну да! Подрался! И знаете, кто еще дрался? Миливое Крстич с Бранко Церовичем. Каждый уверял, что он вас больше любит. А потом им пришлось признать, что больше всех вас любит Мирьяна: с тех пор как вы ушли, она перестала ходить в столовую.
Неожиданно Яковлевичу стало грустно. Он оставил книги и сел против ребят, у которых был такой вид, будто они совершили подвиг. Вдруг безо всякого стука в комнату влетел пятиклассник Лале и остановился разочарованный: еще бы, трое ребят его опередили. Напрасно старшие ученики устанавливали очередность, чтобы все выглядело возможно естественнее: сначала должны были прийти только двое, на другой день — еще один или двое, Лале должен был явиться лишь на четвертый день. Ребята пообещали так и сделать, но потом каждый решил, что первым должен быть он, и со спокойной душой нарушил обещание.
— Ты тоже хотел бы исправить свою тройку, не так ли, Лале? — смеясь, встретил его Яковлевич. — Признаюсь, с вами становится интересно и радостно жить. Садись, Лале, вот сюда, на ящик!
Ребята гордо переглянулись. Он благодарен им! Они были довольны, что он раскрыл их заговор. Ведь главное-то они ему не выдали. Ух, если бы в жизни было побольше таких приключений! Вот, например, снова уволили бы какого-нибудь хорошего учителя, а они бы его спасали, но уже теперь сами, без помощи взрослых. Нет ничего интереснее, чем устраивать заговоры и совершать что-нибудь необыкновенное. Делаешься сразу таким значительным и добрым, ночью долго не можешь заснуть, смотришь на луну и обдумываешь, как осуществить свой замысел.
Когда снова постучали в дверь, Яковлевич закричал сквозь смех:
— Больше мы не пускаем!
Стук повторился громче, послышался грубый мужской голос:
— Отворяй!
Ребята испуганно встали и подошли к учителю — на сей раз, чтобы найти защиту у него. Резкий стук в дверь и грубые голоса мгновенно вернули им их настоящий возраст.
Вошедшие подозрительно взглянули на детей, а те словно сжались и стали выглядеть еще моложе, чем на самом деле.
— Вот так и пропадает молодежь, — хмуро сказал один из вошедших.
Второй прибавил мягче:
— А ну, живо домой, сопляки!
Ребята еще смогли увидеть, что они показали Яковлевичу какую-то бумагу и грубо приказали следовать за собой.
НОЧЬ БЕЗ СНА
Жена Поповича читала газету, когда перепуганные и заплаканные Ольга и Зора ворвались в дом с криком:
— Яковлевича арестовали!
Мать, словно не очень удивленная этим, сказала, не поднимая глаз:
— Арестовали, так выпустят...
— Мама, как ты можешь быть такой бесчувственной! — зарыдала Ольга. — Где папа? Он знает?
— И Стевана, сына учительницы, сегодня арестовали, — прибавила с упреком Зора.
В дверях кабинета появился Попович и спросил раздраженно и чуть ли не обиженно:
— Что это вы тут нюни распустили? Из-за учителя?
И хотя Ольга только что спрашивала, где отец, в надежде на его помощь, а Зора шептала ей, что папа все уладит, теперь она не ответила на вопрос отца. Уж слишком он был спокоен! А может быть, и он своими письмами способствовал аресту учителя? Она плакала, уткнувшись в плечо подруги.
— Хватит! Что, у тебя отец умер? — рассердилась мать и встала. — Я не желаю больше видеть твоих слез.
Поповичу слова жены показались чересчур резкими, и он, подняв голову дочери, стал говорить как можно ласковее:
— Перестань, послушай, что тебе папа скажет! Вместо того чтобы сначала спросить, как и что, ты начинаешь реветь. Не останется ваш Яковлевич в тюрьме, через день-два его вышлют на родину и там выпустят на свободу.
— И мы, значит, больше никогда его не увидим? — прервала его Ольга и снова, рыдая, опустила голову на плечо Зоры.
— Поэтому его и убирают, — объяснил Попович, уже гораздо холоднее. — Достаточно вы им любовались, мы уже видели, что из этого получается.
Потом он быстро предложил Зоре проводить ее домой. Было уже поздно, и Ольга ушла в свою комнату, сказав, что хочет спать. Не зажигая света, она смотрела в окно. Ольга чувствовала себя вдвойне одинокой: родителей оскорбляли ее слезы, а товарищи избегали ее, давая понять, что она не имеет права страдать вместе с ними.
Наступила ночь, и остальным гимназистам тоже пришлось разойтись по домам, хотя им хотелось быть вместе, бродить по улицам, разговаривать. Было страшно лечь в постель и чувствовать, как от страха и разочарования сжимается сердце. В сотнях маленьких, еще кое-где освещенных домов лежали дети, которые уже становились взрослыми, и смотрели в морозную ночь. Все вокруг постепенно погружалось в сон, смолкли людские голоса, и тишина заговорила тоненьким голоском, похожим на отдаленное стрекотание кузнечиков. Может быть, это испуганно перекликались под порогами сверчки, или где-то в глубоком водовороте журчала подо льдом вода, или с заледенелых болот доносилось мягкое кваканье лягушек. Неожиданно завыла собака, завыла как-то странно, не так, как воют городские псы, а жутким волчьим отчаянным воем, и старые вербы, растущие у реки, ответили таким же угрожающим воем. Эти страшные голоса ночи заглушили и тихое журчание воды, и стрекот сверчков, и гортанную лягушиную песню, и дыхание садов под снегом, и сонное тиканье будильников, которые поблескивали в полутьме комнаты своим серебристым лунным глазом.
Месяц и облака словно знали, как много сегодня молодых людей не спит и страдает, глядя в небо. И они превращали небо то в озеро, в которое упал золотой липовый лист, то в огромный зеленовато-синий луг с белыми рядами скошенного сена, между которыми пробирался круглый жук, один не тронутый косой. Потом месяц делался златорогим бараном и вел куда-то беспокойные овечьи стада. Облака устраивали состязания, боролись, прыгали, бегали наперегонки, потом превращались в толпу светлоголовых ребят, боровшихся на школьном дворе за большой светлый мяч. Много картин нарисовали ребятам в ту ночь облака! И когда миновала полночь, послышались дружеские голоса петухов.
Где сейчас Яковлевич? В какую холодную темницу бросили его? И спасать его некому. Чича стар, а у старых людей нет сил. Историк — злой человек. Гросмутер, Жанетта и Вера — женщины, и, конечно, робкие, они побоятся директора. Математик и физик не от мира сего. Они даже, может быть, и не знают, что их товарищ в тюрьме. Только ученики могут спасти учителя, так, во всяком случае, им казалось. Сотни планов были задуманы и осуществлены в эту ночь, а часы, как машинистки, отбивали мгновения на бесконечной ленте времени.
Ребята видели себя перед дверью директорского кабинета. В дверях поочередно появляются Чича, Ясика, математик, и каждый спрашивает:
— Что вам, дети?
Теплый, человеческий голос после всех наказаний, после увольнения и ареста любимого учителя звучит обнадеживающе. Они смело отвечают:
— Мы идем к директору, чтобы он вызволил Яковлевича из тюрьмы. Пусть директор выйдет к нам.
Они видят, как Чича возвращается в кабинет и снова выходит вместе с хмурым и холодным директором. Наступает мертвая тишина, в которой они ясно слышат свой голос:
— Потребуйте, чтобы нашего учителя выпустили из тюрьмы, мы просим вас.
...и звучащий металлом ответ директора:
— Вам ведь известно, что Ненад Яковлевич не является больше учителем нашей гимназии.
Мальчишки уже становятся взрослыми, они не спят в эту морозную ночь и чувствуют, что директор говорит именно так, как он говорил бы на самом деле. Они его ненавидят в эту минуту и ощущают свое превосходство над ним.
Ученики отвечают ему решительно и дерзко:
— Он был лучшим учителем нашей гимназии!
Директор смотрит на Чичу, стараясь уловить на его лице ревность и склонить на свою сторону. Ребята столько раз видели, как директор искал поддержки у старого учителя.
— Да, он был лучшим, — слышат ученики слова Чичи.
Дети уже становятся взрослыми и начинают разбираться в людях. Они знают, от кого чего можно ожидать. И снова слышат голос директора:
— Не устраивайте беспорядков! Спокойно разойдитесь. Администрация школы не может просить за уволенного учителя.
Ученики становятся взрослыми, и они уже понимают, что администрация школы действительно не может просить за уволенного учителя, особенно хорошо это знают Слободан, Станица, Лаза, Эмилия, Дивна, Момчило, но они молоды и все-таки они еще дети. Поэтому они ожесточенно стоят на своем:
— Но ведь вы знаете, вы должны знать, какой он был учитель!
— Спокойно разойдитесь! — повторяет директор. — Именно потому, что я это знаю, я не могу просить за него.
Ученики много раз слышали директора наяву и знают его манеру выражаться.
— Раз вы не хотите нас слушать, мы пойдем просить в полицию.
Ученики становятся взрослыми, и они не одни в эту морозную ночь, к ним приходят те, кого они любят и кто — они это знают — любит их. Взволнованно кричит Чича:
— Стойте! Не спешите! Одним вам нельзя!
Видят математика — он подходит к директору и говорит ему:
— Мы не можем отпустить учеников одних.
Появляется историк, он пытается сорвать задуманное ими благородное дело и с издевкой произносит:
— Прекрасные плоды оставило пребывание вашего Яковлевича. Такого раньше никогда не бывало!
Ребятам хочется броситься на него с кулаками, кое-кто с ожесточением кидается на него, отталкивает в сторону, и ребята выходят на улицу. Там они снова кричат:
— Раз нас не хотят слушать в школе, мы пойдем прямо в полицию!
Ребята видят, как к ним присоединяется и новая учительница географии, ведь они становятся взрослыми и уже начинают понимать, что такое любовь. Они молоды и верят в раскаяние, и поэтому слышат, как она говорит:
— Это я должна вместо Яковлевича сидеть в тюрьме. Я во всем виновата!
Они прощают ее и принимают в свои ряды, но поскольку они все-таки еще дети, они радуются, что на это опасное предприятие вместе с ними идет и учитель. Они принимают в свои ряды и Ясику.
И потом по-солдатски печатают шаг по середине улицы, а оглянувшись, видят за собой бегущего Чичу, старик едва поспевает за ними, слышат, как математик кричит им вслед:
— Юношеское увлечение! Подождите старших! Не бегите!
А они ускоряют шаг. Собрались все. Здесь и те, которых два месяца назад не было бы, не случись того, что случилось. Подойдя к тюрьме, они кричат:
— Верните нам учителя! Долой тюрьму!
Миновала полночь. Глаза устали от бдения. Путаются лица и слова. Ребята только успевают увидеть, как Яковлевич, услышав их крики, показывается в окне тюрьмы, как он улыбается им, Чиче и даже Вере. Сердце постепенно успокаивается. Теперь, по крайней мере, Яковлевич знает, что за него будут бороться. И ребята с улыбкой засыпают под холодным светом луны.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





