ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

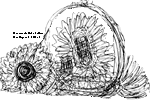

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Николаева Олеся
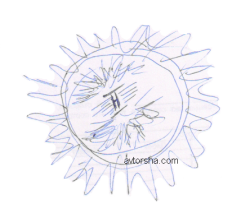
Сейчас
в моде — подчеркнуто неуклюжие пиджаки,
сшитые как бы на будущее, на вырост, с
торчащими огромно-озорно наростами
плеч, точно, простите за каламбур, с
чужого плеча, и заниженными, будто
опоздавшими взобраться куда положено,
наскоро и небрежно состроченными
лацканами и кое-как пришпандоренным
хлястиком. Рукава приспущены ниже
запястий, удлинены по самые кисти.
Единственная, как правило, незастегнутая
пуговица на животе — почти муляж.
Котелок, широкополая шляпа или просто
шляпка, сдвинутая чуть на бок. Брюки,
напротив,— обуженные в «чулок» и
окороченные выше щиколотки — цвет
условный, рисунок абстрактный. Голая
лодыжка намекает на то, что «растем, как
видите, перерастаем... еще вчера, казалось
бы, а уже сегодня...» Узкий носок с
достоинством ковыряет равнодушную
землю.
Эта нарочитая
эклектика, эта неадекватность образа
и фигуры, расхождение очертаний одежды
и линий тела, это почти уже неприличное
в хорошем обществе замалчивание,
отнекиванье, перемигиванье, шушуканье
в рукавах и разоблачение там, где этого
совсем не ждали, это, как постепенно
выясняется, вранье ради вранья и правда,
напоминающая сплетню,— заставляет меня
вспомнить кое-какие свойства моей сестры
и определить все это как тоскующую
«неуютность в себе», пытающуюся попросту
заговорить вам зубы, отвести глаза,
обвести вокруг пальца да и замести следы
в те некогда жилые комнаты, которым
когда-то и утро было впору, и ночь
расстилала стеганое красное
одеяло-пододеяльник в цветной горошек,
и будильник звонил вовремя, и отрывной
календарь верхним своим листком
соответствовал и числу, и месяцу, и даже
году. А теперь, простите, там у нас уже
давно не живут. Там, знаете, и тревожно
и как-то сыро...
У
сестры моей, имевшей какие-то застарелые
счеты с одеждой, какие-то затянувшиеся
претензии и придирки к ней — «ну не
знаю: там висит, а там тянет, перекручивается,
сползает, не по мне, не к лицу, просто
выводит из себя, так раздражает» — и
потому менявшей ее в течение дня по
нескольку раз в порядке чередованья —
уход на службу, возвращение домой,
праздно-шатанье из угла в угол, усаживанье
за работу (сестра моя — литературный
редактор: стол, заваленный словарями —
орфографический, толковый, синонимов,
рукописи, пачки бумаги) — вдруг после
некоторых обстоятельств, распространяться
о которых не так интересно,— ну обычные
обстоятельства обычной жизни, когда ей
уже за тридцать, вскармливающие в
человеке синдром огульного недовольства,—
так вот, у сестры моей появилась настоящая
мания.
Она вдруг
стала резать направо и налево, вдоль и
поперек все свои носильные вещи. Нельзя,
однако, это назвать и актом полнейшего
безумия.
Лязгая и
щелкая нетерпеливыми ножницами, не
отмеряя не то что по семь заповеданных
раз, но и вряд ли прикидывая на глазок
дважды, она сохраняла при этом такую
трезвую серьезность и даже суровость,
словно, стоя перед этим ворохом
располовиненных платьев, выстриженных
воротничков и вырезанных рукавов, она
чувствовала себя опытным хладнокровным
хирургом, взявшимся не только отстригать
мучающие организм аппендиксы и
прибегнувшим к мощным кровопусканиям,
но и решившим вообще «знаешь, перекроить
на фиг всю эту низкопробную, в сущности,
жизнь».
Там — платье
раздражало своей занудной обстоятельностью
и потому обрезалось единым махом,
становясь весьма миленькой и бойкой
блузкой. Тут — претило своей кургузостью
и потому, сложенное поперек где-то на
уровне вытачек, прикладывалось на миг
к талии, делаясь чуть длиннее и вызывая
одобрение в своем новом качестве как
бы уже юбки, после чего кромсалось и
раскидывалось в две кучи: во вторую
попадала куцая кофточка, которая,
впрочем, тоже могла пойти в дело —
«подшить покороче и, пожалуйста,— летний
ан-самблик».
И
хотя мне лично было бы затруднительно
прокомментировать все конфигурации ее
фантазии, соответствовавшие все новым
и новым кусочкам для непредсказуемых
швейных аппликаций,— к тому же сестра
моя, кроме пресловутого воображения,
не обладала ровно никакими способностями
в этом искусстве: зашитая ли ею по шву
дырка, пришитая ли пуговица кричали и
вопили концами торчащих ниток, выдавая
с головой мастерицу,— и тем не менее я
готова поставить девяносто девять
против одного (одно — на допустимый
прорыв в иррациональное), что каждое ее
движение ножницами было мотивировано.
Отрезанные от подола полосочки
орнаментальной ткани должны были пойти
на непритязательные сарафанные бретельки,
поясок или на рифмующийся со всем нарядом
тюрбан. Из распоротых юбок выглядывали
будущие обшитые оборками летние
сумочки-мешочки. Брючины, отброшенные
от получивших статус самостоятельности
шортов, обрекались на участь
хваталок-всего-горячего: противней,
сковородок.
Все было
располосовано и сшито азартно и
вдохновенно, на скорую руку. Стоило
зацепиться за какой-нибудь там гвоздь
или крючок, которые торчат у нас отовсюду,
и все моментально расползалось. Казалось,
жизнь мстила обнажением своих лекал за
то бесконечное аутодафе, которое
устраивала ей сестра.
Впрочем, все
эти хрупкость, эфемерность и составляли
для нее материю Настоящего, зыблемого,
как трава, всеми ветрами,— и потом, что
оно такое, в самом-то деле? — сегодня
оно есть, а завтра оно уже будет вчера,
уйдет под землю, окостенеет, станет
твердым камушком, отполированным корнем,
прошлым, покоящимся на антресолях и
подвергающимся формальному пересмотру
дважды в год: перед жарой и перед холодами.
Сестра любила
перекладывать эти давно вышедшие из
употребления вещи, испытывая удовлетворение
какого-нибудь музейного хранителя,
устраивающего ревизию в запасниках и
загашниках. И хотя она знала, что наверняка
нигде и никогда, кроме как перед зеркалом
в прихожей — и то из неких ритуальных
соображений,— их не наденет, она не то
чтобы жалела, она боялась суеверным
страхом расстаться с ними.
Как раковина,
извергнутая морем, уносимая от него все
дальше и дальше на метр, два, сто, тысячу
миль, все полнится его звуками, так и
эта одежда, некогда покрывавшая некогда
ее угловатую, беспокойную фигуру,
продолжала, как ей казалось, хранить
изломы ее линий, импульсы, биоритмы,
уподобляясь магическому мешку, потряся
который можно получить массу забавных
вещиц, милых сердцу безделиц, послуживших
нам на дорогах судьбы, высокопарно
выражаясь.
И
даже можно снова войти в ту же самую
реку... И окаменевший аорист вернет нам
былые глаголы: застывшее, историческое
время — это уже вечность.
Потому-то,
наверное, любой ущерб, причиненный
носимой когда-то вещи, невольно
представлялся ей угрозой для всей
жизненной ткани — прорехой на экзистенции,
грубо говоря, в которую могла набиться
какая угодно нечисть.
Так хранят
старые фотографии все, кто имел
предусмотрительность вовремя запечатлеться
на морских берегах, в парках отдыха, у
опознавательных точек города, в центре
и на местах и вообще где угодно: охотно
застигнутые врасплох или прошедшие
тщательную подготовку в выборе ракурса,
позы и выраженья, втянувшие напряженные
губы или распустившие их бутончиком в
непринужденной улыбке,— дескать,
остановись, мельтешащее мгновенье
жизни, пока ты нас, как монетку, не
закатило в угол, не вымело помелом со
своей дороги, чтобы и мы, некогда
переступившие за тридцать — сорок,
разменявшие свои последние десятки,
пятерки, гривенники, могли, раздвинув
серебряную амальгаму, застывшую
фотоэмульсию, весь этот бумажный глянец,
солнечный лоск, блеск, все эти ширмы,
занавеси, жалюзи, опять влезть на прежнее
место, приспосабливая корпус к прежнему
положенью и осторожно выглядывая из
роковой рамки.
Словно можно
опять надеть это платье, и снова... Этот
плащ, в котором... Это пальто, и окажешься...
«Да ты увидишь
— эти вещи опять войдут в моду — лет
через десять!»
Еще более
церемонными и мистическими были ее
отношения с Будущим, с его несовершенным
видом — Футурумом Первым и даже Вторым,
куда торопились удачи, задерживающиеся
в дороге, появлялись новые люди, не
успевающие добраться к нам из-за
распутицы, тумана, позднего часа,
распускались цветы, которые должны были
это делать хотя бы потому, что им так
положено законом природы. Для него-то,
этого обозримого ближайшего будущего,
и кроилась неудобоносимая одежда
настоящего, и ломались иглы, натыкаясь
на его толстые швы.
Но
совсем иного качества было у нее другое
— далекое Будущее, Футурум Третий. Там,
там — на его альпийских лугах — английских
газонах, не имевших географического
местоположения, осуществлялось,
торжествовало, царило. Для него,
обетованного, остающегося за горами,
за заколдованным лесом времен и залогов,
берегла она лучшие свои наряды, которые
никогда не носила.
Это были и
не платья как бы, а облаченья, ризы,—
часа священнодействия никто не знает,
события подделываются под него, кричат:
вот, пробил! — но сестра закрывает
гардероб с ледяной улыбкой: прочь,
житейские наважденья, поденные обольщенья,
парадиз для наивняков и простушек!
Иногда мне
казалось — если она по какому-то
однопроцентному импульсу вдруг да и
наденет какой-нибудь из сакральных
своих нарядов, жизнь ее, исходя из
собственной логики, тотчас оборвется
или — настанет вечность.
«Мне почему-то
хотелось бы лежать в гробу в собольей
шапке, а почему, и сама не знаю. Красиво!»
Полной
противоположностью ей в этом смысле
была Надюшка — ее подруга. Она совсем
не дорожила прошлым и легко разделывалась
с его аксессуарами и свидетельствами,
относя помеченные им свитера и шубки в
ближайшую комиссионку, а то единственное
будущее, которое у нее было всегда
ближайшим, проживала и снашивала уже в
настоящем. Она как бы сама себе наступала
на пятки и рисковала бы с хрустом
раздавить свою ахиллесову черепаху,
если бы не обгоняла ее на полшага.
Два-три
переодеванья, более похожие на примерки,—
и будущее, ставшее настоящим, делалось
безнадежно прошедшим и уже не принадлежавшим
ей прошлым: дольше она вещи никогда не
носила, да и вообще не любила в них
повторяться. «Все в этой жизни должно
происходить однажды».
Эту однократность
она смогла позволить себе лишь тогда,
когда вышла замуж за своего Бобби —
толстяка с шерстяными руками, кусочком
меховой груди и недоуменным язычком,
который высовывался у него, как у
старательного школьника, каждый раз,
когда речь заходила о чем-то для него
непонятном.
Он
любил показывать похожий на портмоне
раскладывающийся фотоальбом с видами
своего дома — от сада и общей панорамы
до парадной лестницы, которую можно
было и видеть целиком и рассматривать
фрагментарно: каждая ступенька была
взята крупно и украшена цветочным
горшком в добротном кашпо. Внутренность
дома могла быть восстановлена по кадрам,
обилие и насыщенность которых превосходили
воображение, то ослепляя его блеском
подзеркальной полки со всякими
бутылочками, баночками, пузырьками,
тюбиками, щеточками, пилочками и
расчесочками, то побивая его тузом
домашней оранжереи с орхидеями и
фонтанами, то просто ставя его на место
квадратом накрытого стола с игрою узоров
на утренней порцеляне и кулинарными
вытребасами, затейливыми, как ребус.
«Завтрак», — пояснял Бобби.
На вопрос,
сколько у него комнат, он не сразу мог
ответить, а дважды прикидывал в уме и,
как видно, сбивался, потому что вдруг
подергивал головой и начинал снова
водить из стороны в сторону и пульсировать
глазами.
Поэтому, как
я догадываюсь, когда он слушал нашу
болтовню, порой синхронную и, словно
бабочка, перелетавшую с предмета на
предмет, и вдруг начинал высовывать
свой непонимающий язычок,— а слушал он
поначалу с тем выпуклым любопытством
глаз, когда кажется, что интерес обладает
плотностью, вроде слезы, и потому заметен
по утучнению радужной оболочки, так
вот,— постепенно это его любопытство
начинало пятиться, откатываться и бежать
куда-то в глубь зрачков, по темному их
коридору,— не исключено, что последний
вел именно в этот таинственный
многокомнатный мир, а глаза Бобби вдруг
из выпуклых делались вогнутыми и
порожними, и, казалось, можно было даже
ступить в них и пойти, как ходят после
отлива по влажным камням и песку, которые
только что были морским дном. И если
пойти, пойти, не нагибаясь, за оставленными
здесь полуфразами и зацепившимися за
корягу дежурными полувопросами и
междометьями «Амм!», можно было попасть
туда, куда, собственно, и убежал его
интерес, к тем самым потайным дверям за
очагом папы Карло, в те самые комнаты —
несть им числа — со всякими там
разложенными по поверхностям отчетливыми
полезностями, приспособленьицами и
разумностями, потребными для всякой
нужды и прихоти.
Моя сестра
пожала плечами и сказала мне на это
вполне серьезно: «Что ж, Бобби кажется
таким большим и вместительным, что
делает эту возможность весьма реальной
— по крайней мере, Надюшка все-таки
добралась до далеких комнат. И это
понятно — каждый находит психологическую
нишу».
А
пока Надюшка не занырнула в темный
коридор своего ближайшего будущего,
она делилась опасливыми предположеньями,
что Бобби, возможно, и скупердяй и скряга
— снашивает ботинки до дыр, одежды —
на всю катушку и вообще пользуется всем
на полный износ, пока предмет не откажется
выполнять свои функции за полной
негодностью.
Он
действительно не очень-то брал в расчет
диахронный мир — пространственные
связи занимали его куда больше, чем
временные. Он был гурман и кулинар, но
не какой-нибудь там профанирующий
пищеглотатель, эстетствующий шарлатан,
лакомка, винопийца, нет: его торжествующее
и помпезное чревоугодие содержало такие
трансцендентные бездны, из которых
рождалась стройная концепция бытия:
метаморфозы Овидия, умозрение
неоплатоников, перерождения Будды
Акишвара.
Редкостная
коллекция кулинарных книг, собирателем
и обладателем которой он являлся, теряла
свои концы в смутных временах императора
Траяна между строками латинского
манускрипта.
Ах, если бы
он взбивал омлет до высоты полета шмеля
и лепил вареники величиною с головку
спички, — это ровно ничего бы не говорило
уму и сердцу, кроме того, что Бобби
готовит весьма недурно!
И
хотя Надюшка настаивала на том, чтобы
свадьбу отгрохали в каком-нибудь
сногсшибательном ресторане со всею
валютной пышностью, Бобби удалось
убедить ее в обратном: маленький интимный
ужин с пятью-шестью самыми близкими и
женихом в качестве повара-фокусника,
загадывающего гостям загадки, наподобие
этакого феодала-эстета в кругу съехавшихся
к нему на уик-энд титулованных рыцарей,
из чего приготовлено то или иное кушанье,
может остаться куда более изящным
воспоминанием и украшением дальнейшей
супружеской дороги.
Надюшка
сказала мне накануне свадьбы, как бы
между прочим: «Завтра будут такие
малоинтеллектуальные, скучные люди —
тебе там будет очень неинтересно — не
о чем поговорить, ничего общего, ну
просто потерянный для тебя вечер —
поверь мне!»
Сестра же,
попавшая в сей узкий круг, но так и не
пожелавшая и по этому случаю надеть ни
одно из футурумных платьев, описывала
мне сей застольный бал-маскарад так,
словно она побывала на каком-нибудь
ориентальном сеансе развоплощения и
повального перерождения друг в друга
обезумевших до неузнаваемости продуктов.
Ее сбивчивый перечень, более напоминавший
каталог, чем меню, трудно назвать научным
— видно было, что она путалась и заполняла
пустоты плодами собственного воображенья.
Неизменным оставался сам методологический
принцип, сводящий разнородные элементы
к цельности и единству, закрепленному
в конкретном образе.
Был подан
Поросенок — из мозгов, бобов, фисташек,
каштанов, каперсов, шампиньонов;
Шампиньоны — из баклажанов, арахиса,
белуги, севрюги, осетрины, анчоусов,
дичи; Дичь — из вяленой дыни, сушеных
бананов, грецких орехов, перепелиных
яиц, сои, кальмаров, крабов; Крабы — из
клубники, черешни, вишни, артишоков,
мадеры, телячьих языков, поросенка...
Главный,
собирательный образ оставался условным
и сродни Метапродукту, способному
накормить весь мир — утолить, насытить
и осчастливить...
Пока я
развивала сестре эти идеи, валяясь на
диване и поглядывая в окно, за которым
бушевало лето, похищавшее своей зеленью
у нас Надюшку, сестра что-то от чего-то
отпарывала и, наконец, перекусывая
нитку, сказала, что все это у меня уже
попахивает профессиональной шизофренией.
«Все, кто в этой жизни хочет быть не от
мира сего, в этом мире начинают выглядеть
как просто придурки».
Тут она
осеклась и в компенсацию живописала
последний тост, произнесенный молодым
мужем: «Россия для меня — это русские
женщины и икра, икра и русские женщины.
Поэтому я и забираю ее с собою!» И он
приобнял Надюшку и потряс в воздухе
килограммовой банкой черной икры,
которую ему подарили на свадьбу.
«Ты бы там
выглядела ну просто белой вороной»,—
заключила сестра. «Или ученым верблюдом»,—
усмехнулась я.
Чтобы замять
ситуацию, она рассказала вдруг о своем
приятеле-литературоведе, который был
в то время ее «психологической нишей»:
«Послушай, ты ведь любишь такое».
На
него, оказывается, так сильно повлияла
органика гастрономического мира, что
она проникла в самую глубь подкорки, не
только оплетая собою мыслительные
клетки, но и покрывая весь речевой центр.
Его литературоведческая терминология
перешла на такое интеллектуальное
чревовещание, что достигла определенной
емкости и изящества в оперировании
«вкусными образами», «смачными
гиперболами» и «сочными эпитетами». В
конце концов, он сбился на какое-то
ресторанно-кухонное наречие, а потом
прочно перешел на язык прямой аналогии
с поварским делом. Там — ему не хватало
соли, тут — сахара, туда — переложили
перца, сюда — вбухали слишком много
воды. Наконец, он обрел такую поразительную
свободу в прогулках по этой развернутой,
точно скатерть-самобранка, метафоре,
избрав главным критерием питательность
и свежесть, что мог позволить себе с
полной ответственностью утверждать,
что «не все у Пушкина леденцы».
Самым большим
его переживанием — жизненным, а не
литературным — было появление над
Землей «летающих тарелок». Предположение
о том, что они могут оказаться пустыми,
казалось, ставило под сомненье
целесообразность его собственной жизни.
Сестра моя, сжалившись над беднягой,
сокрушенным возможностью столь
трагического обмана, тут же уверила
его, что, по сведениям одного очень
просвещенного американца (тут она
назвала фамилию Бобби), эти тарелки
полны самой высококачественной горячей
пищи, несгораемого питательного
синтетического Продукта, который
посылают нам высокоразвитые инопланетные
цивилизации, видя наше бедственное
низкосортное существованье.
Итак, выйдя
замуж за американца, Надюшка побила
все, даже собственные рекорды, переодеваясь
по пять-шесть раз на дню, если ей, конечно,
предоставлялся случай, и никогда более
не возвращаясь к апробированным нарядам,—
казалось, прикосновение Настоящего
обжигало ее, и она сбрасывала его, как
змея — кожу, устремляясь все дальше:
берите, хватайте за верткий хвост —
обернется ящеркой с Надюшкиной головой,
ускользнет и не прогадает.
Все это хотя
бы единожды надеванное барахло не
выбрасывалось, но и не хранилось на
черный день голого воспоминанья, а
приволакивалось на родину в таком
неимоверном количестве, которого бы,
наверное, хватило на открытие нескольких
комиссионок, и частично препровождалось
в оные, остальное же — раздавалось.
Однако это не было похоже ни на импульсивный
жест разгулявшейся миллионерши, сыплющей
щедротами направо-налево от своего
избытка, ни на милосердное подаяние
добродетели, не смеющей забыть о сирых
и бедных сестрах (дополнительные
предложения, зависящие от глаголов,
выражающих заботу). Казалось, совсем
иное владело Надюшкиной рукой, когда
она колдовала над летучим ворохом,
словно совершая жертвоприношение.
Ее
заморские перья летели и долго кружились,
прежде чем опуститься на плечо
предполагаемого претендента или вдруг,
пренебрегнув таковым именно в силу его
очевидного соискательства, не опуститься
вовсе, а, помаячив у него перед носом,
стремительно прилепиться к какому-нибудь
плечу, попавшему на этот пир щедрости
совершенно случайно — так, забредшему
за солью, книжкой, трешкой.
«Вот, это мой
маленький сувенир — я в нем имела большой
успех на берегах Средиземноморья. Может
быть, вам подойдет?»
Возьмите,
возьмите Надюшкино недавнее прошлое и
сделайте его своим ближайшим будущим,
торопящимся через голову в рукава
настоящим, желанным, обетованным,
запертым в гардеробных глубинах
неприкосновенным Футурумом!
Вот оно —
долгожданное согласованье времен,
выражение притяжательности, взаимные
местоименья! Все становятся в круг.
Начинаются игры: догонялы-горелки,
пряталки-жмурки, колдунчики, вышибалы,
штандр. Мяч катится по траве, подлетает
к краю обрыва, вот-вот упадет в пропасть.
Меня привели,
поставили, стали считаться: кому «водить».
Каждый кричит: «Чурики, чур-чура, чур!»
Я говорю: «Я так я. Dixi». Я всегда в центре
внимания, меня пропускают вперед,
провожают взглядом, со мною разговаривают
на языке придаточных предложений,
выражающих уступку, только могила меня
исправит! Палочка-выручалочка у меня в
руках — я умею образовывать пятьдесят
форм одного глагола, не считая причастий:
особенно удаются страдательные залоги!
Я
сижу под зеленой лампой за столом,
накрытым бывшей плюшевой занавеской.
Я записываю всех в коричневую коленкоровую
тетрадь в голубую клетку. Я рассматриваю
события на плоскости по методу, который
предлагает вечность. Раз-два-три, на
бегу фигура замри!
«Знаешь,—
сказала сестра, как бы между прочим,
поправляя волосы и перекладывая на
столе рукописи и книги,— я опять выпала
из своей «психологической ниши» и тут
же попала в другую».— «Да? Кто же он —
неужели очередной синоним ?» Она
перелистнула несколько страниц и вдруг
посмотрела на меня долго и страшно: «А
ты, ты — горбунья, юродивая, кликуша,
каракатица, изверг! »
—
Сестра моя,
сестра моя, ласточка, голубица, Марфа!
Чувствую я страшное борение души моей,
тяжкое восстание моего духа!
—
Лицо мое
замаскировано прядью, украшено золотой
серьгою, заколкой с перламутровой
блесткой, — на нем нарисованы глаза,
убегающие к вискам, брови, изогнутые
тончайшим луком!
—
Сестра моя,
сестра моя, точеная лилия, яблоня, цветок
граната,— претерпеваю палящие скорби,
жгучие муки, лью невидимые миру слезы
ожесточенья!
—
Бусинки из
сердоликов лицу придают свежесть, волос
гладкий каштановый — тонкость, обруч
на голове — женственность, мягкость!
—
Сестра моя,
сестра моя, черемуха, хризантема, ветвь
олеандра,— давай поговорим о понятье
Единого у Платона и Прокла, переведем
святоотеческую страничку Каппадокийцев,
на худой конец — проспрягаем во всех
временах и залогах древнегреческие
неправильные глаголы!
—
Глаза мои
окружены густыми ресницами, будто
стражей, губы мои — под плотной алой
печатью, на щеках моих — пыльца персика,
абрикоса, и вся я — в ожидании лучшего,
в хлопотах, в подготовке!
—
Ну тогда и
мне — закрой же лицо белилами, румянами,
тоном, гримом, налепи на веки свинцовые
тени и проведи серебряно и багрово
волнистую линию верхней губы, которую
я закусываю от печали!..
Я
спросила сестру: «Почему все-таки Надюшка
вышла за этого толстого — не из-за денег
же?» Она ответила мне с достоинством:
«Из-за денег выходят только расчетливые
прохвостки, а Надюшка вышла за саму
возможность покупать события. Самое
страшное в этой жизни,— добавила она
невесело,— это потерять возможность.
Вот у меня был ухажер. Ничего — хороший
парень, славный малый, звали Сережей.
Знаешь, почему его дело было проиграно
у меня сразу? Потому что все — от матери
до друзей — называли его Серенький,
Серый...»
Меня поразило,
как однажды Надюшка, увидев у меня книгу
по хиромантии, написанную по-латыни,
попросила перевести ей, что означает
глубокая линия у нее на бугре Венеры. Я
сказала: «А теперь посмотри — можно ли
определить по ладони, будет ли он меня
содержать?»
И
она произнесла «содержать» так уважительно
и округло и при этом так выразительно
потрясла вогнутою ладонью, точно давая
почувствовать сферичность и полновесность
сего глагола, лежащего в основании
миропорядка: яблоко в пальцах розовой
Афродиты, чаша, полная влаги жизни, не
дающая ей расплескаться, грозный скипетр
в руке Пантократора.
О,
обволакивающая магия материального
мира, полагающая границы между телом и
хаосом, ибо там, в его черной бездне,
крутятся, как осенние листья, взметаемые
пасмурным ветром, рано стареющие, рано
темнеющие женщины с неприветливыми
мешковатыми лицами, в стоптанных
сапогах-босоножках, в потертых под
мышками дохлых платьях, в рейтузах
волчьего цвета,—перечислять тошно,—
в синтетических каляных шубках. Вот они
— перемещаются из общественного
транспорта в сторону общепита и
ширпотреба, с сумками и авоськами,
пригибают спины, смотрят друг на друга
подозрительно и ревниво, каждая раньше
другой норовит влезть в очередь, отпихнуть
локтем: Вы здесь не занимали, гражданочка!
— Нахалка! — От нахалки слышу!
Вот они —
нянчат своих детей в диатезе, в линялых,
испачканных манной кашей
распашонках-квартирках, пеленки свалены
в совмещенный санузел, по пути от получки
к получке — холодильник в рассрочку,
бабку в Дом престарелых, в жэк за справкой,
с квитанциями в сберкассу, в абортарий
на сутки, торт «Сказка» на выходные...
Дудки! Ковыляй
же, Иаков, борец полночный, волоча
уязвленную ногу, напрягая бедро без
жилы! Укрывайся, Гомер, спасительною
слепотою! Шелести, Логос, кожурою понятий,
раздувая оболочку слова, наполняя паруса
фразы,— и неизведанные земли, сливающиеся
воедино за тьмой, окажутся ойкуменой.
Расставляй средь хаоса свои спасительные
опоры — клеточки, коленкоровые переплеты,
определи наши координаты на географической
карте, запиши нас в хронологические
таблицы, рассыпь по горячим точкам
названья, поставь перед нами источник
света, спроецируй нас на экран звездного
неба, растянувшегося до самого горизонта.
Наблюдайте
за тем, как вы слушаете, говорите, едите...
Вот и зашуршало
складками Надюшкино новое платье,
застучали ее неношеные каблучки по
камушкам-тротуарам. И пока не успели
еще ничего на ней разглядеть как следует
и запомнить, она проходит под своим
покровом неузнанной, неразоблаченной,
а как только крикнули: «Ба, да ведь это
та самая, знакомая нам Надюшка!» — она
выскакивает из кадра, оставляя нам
пейзаж, да еще свое слабое очертанье,
ауру — пожалуйста, пользуйтесь, заполняйте
полую скорлупу собою!
Высятся
молчаливые скалы табу, шелестят леса
эвфемизмов. Вопрошающие бездны застланы
ее хитоном, угрожающие провалы заткнуты
ее накидкой, вопиющие к небесам обрывы
занавешены ее драпировкой. Здесь она
покупает события и каждой своей покупкой
закрывает черные дыры.
Ряженые стоят
у ворот, звонят в дверной колокольчик.
В руках у них тимпаны, свирели, бубны,
трещотки, дудки. На палке у них петух, в
горшочке — воск для гаданья. «Что вы,—
говорю я,— вы ошиблись дверью. Я ношу
только собственную одежду — мне ее шьют
на заказ, отдельно, по специальной
выкройке: строгие балахоны, белый
воротничок, манжеты...»
Вообще
Надюшка, называвшая меня за глаза
«оракул», уважала мои скромные познанья,
которые относила к области сакраментальной,
свидетельством чего ей казалась моя
экзотическая наружность: неотъемлемая
тяжелая трость — бронзовый набалдашник,
обоюдо-выпуклое плоскогорье торса, за
которым шелестели крыльями праотцы,
апостолы, пророки и прочие духовидцы,
отмеченные «жалом в плоть» апостола
Павла,— хромотою Иакова, гугнивостью
Моисея, слепотою Иоанна Евангелиста
или, по крайней мере, хотя бы плешивостью
Елисея, над которым потешались дети.
Почитала она
и мою косвенную причастность к культуре,
к которой питала особенный пиетет за
ее качественность, добротность, за ее
духовную «фирменность»: «Античность»,
«Средневековье» или, на худой конец,
«Улисс» Джойса. Та представлялась ей
чем-то внушительным, монументальным,
куда допускают только избранных, а
прочим разрешается постоять снаружи и
полюбоваться, фасадом — высотою арок,
правильностью фронтона и золотом купола.
Экскурсовод объясняет,— туда, на
смотровую площадку ведет тысяча триста
девяносто одна ступенька, резные двери
весят четыре тонны. Непосвященные стоят
и записывают в откидной блокнотик,
чтобы, приехав домой, поделиться с
соседями, сослуживцами или просто — на
всякий случай: захватывает, впечатляет...
Зато в
лабиринтах финансовых хитросплетений
Надюшка ориентировалась отлично, ловко
умея балансировать между расточительностью
и скупердяйством. Пока она жила здесь,
у нее были специальные конверты с
надписями: «На такси» — и было вложено
несколько купюр на красивую дорогу, «На
занавески» — вложено и туда, «На новый
наряд» — и там лежало, «На коммунальные
нужды» — и там водилось, «На еду для
дома» — и там не пустовало, «На еду для
гостей и праздников» — и там шелестело,
«На кино и книги» — и туда попадало, «На
летний отдых» — и там зеленело, «На
кутеж и прожигание жизни»—и там шуршало,
«На непредвиденные расходы» —и там не
оскудевало.
Деньги имели
для нее плотность «достояния», широту
«имущества», тяжесть «капитала», крепость
«состояния», надежность «обеспечения»,
полноту «содержания». Они раскладывали
по полочкам неразбериху жизни, приводили
к единому знаменателю конфликты и
противо-речья, позволяя получить круглую
сумму разности и произведение частных,
и полагали предел безумной чехарде
мира, закручивая сверху донизу расшатанное
бытие винтом единого действа.
Потому было
в Надюшкином отношении к ним какое-то
целомудрие и бескорыстие — ей мерещилась
в них музыка сфер, симфония обнаженных
идей, полет неподкупных абстракций,
торжество чистой формы.
Между прочим,
она даже хотела было пойти учиться в
какую-то специальную американскую
школу, где изучают банковское дело и
бизнес. И я думаю, из нее мог бы выйти
отличный работник финансов, чующий эту
острую всепроникающую эквивалентность,
компактно свернувшуюся фосфоресцирующей
цифирью только что отпечатанного
банкнота, как и высокую концентрацию
водяных знаков, на которых всплывает
из водорослей-камышей золотая яхта —
Возможность.
—
Сестра моя,
сестра моя, если я — Марфа, то ты, конечно,
Мария! Кто к нам стучится в столь поздний
час, столь ненастное время? — путник ли
запоздалый, лист ли черный, осенний иль
молодой влюбленный, который перегоняет
события?
—
Нет, сестра
моя дорогая, дочь отца моего, дочь
родительницы моей,— то не странник, не
дождь, не молодой влюбленный.
—
Сестра моя,
сестра моя, кто к нам стучится в столь
шаткие стены, тонкие двери, заглядывает
в мутные стекла? — может, вестники
роковые, гонцы недобрые, посланники
Черного Князя?
—
Нет, сестра
моя дорогая, золотой первенец, голубая
гроздь первородства! То не странники,
не посланники, не гонцы Черного Князя.
—
Сестра моя,
сестра моя! Сердце мое разрывается от
беды и страха,— выгляни, выйди, кто
сотрясает ветхий дом наш до самого
основанья?
—
Нет, сестра
моя дорогая! От утробы матери моей я —
горбата, от семени отца моего — колченога,
от сложения мира — гугнива,— коротка
языка моего уздечка. Лучше сядем рядышком,
засветим лампу, почитаем Святое
Благовествование от Матфея!
—
Сестра моя,
сестра моя! — смоковница, накренившаяся
от ветра, шелковица, надломленная
ураганом, согнутая в три погибели
лавровишня, омега, альфа! Вот уже и двери
распахиваются в нашей землянке, вот уже
и стекла звенят в нашей кибитке!
—
Сестра моя,
сестра моя! И двери распахиваются, и
звенят стекла. Не за мною грядут
цельбоносные херувимы, ангелы-костонравы,—
за тобою пришел твой Автор, недовольный
купюрами, перестановкой абзацев, вкусовой
правкой...
Ну
что еще рассказать о Надюшке? Когда она
вышла замуж и укатила в Штаты, у нее
здесь оставался десятилетний сын от
первого брака, которого не отпускал с
нею его отец. Она писала мальчику
трогательные и назидательные открытки
из каждого пункта своего пребывания и
тщательно комментировала изображенную
на них картинку, так что эти открытки
имели еще и познавательный характер.
На одной из таковых был сфотографирован
премилый домик с широкой лестницей,
балюстрадкой и стеклянными дверями. На
его фоне красовался коралловый лимузин,
из которого выглядывала белозубая
ледяная красотка.
«Это все,
малыш,— писала Надюшка,— ты здесь
сможешь с легкостью приобрести, если
выучишься в каком-нибудь неплохом
колледже, каких здесь много, а потом в
институте — на врача».
Сейчас мальчик
уже там, с Надюшкой. Правда, она осталась
без своего Бобби — он ушел от нее, кстати
сказать, к какой-то русской. Уходя, он
выдал ей документ, в котором обещался
содержать ее до самой кончины.
Что касается
сына, она то ли уговорила, то ли подкупила
своего первого мужа, привезя ему цветной
телевизор, видеомагнитофон и зимний
дутик. Что там оказало свое решающее
воздействие — не знаю, но факт остается
фактом: мальчик учится в хорошем колледже,
а Надюшкин первый муж смотрит потрясающие
киноленты.
На
днях он встретил мою сестру, пригласил
и ее. Та было достала из шкафа одежду
будущего века, но покрутила, повертела
да и повесила обратно. После чего надела
свое обычное, перешитое, никакое, словно
говоря, что ее час еще не пробил. А жаль.
Уже жасмин отцветает, но пахнет еще
безумно.
В
прошлом году у нее обнаружили в груди
затвердение и сделали операцию. «Распороли
кое-как да и зашили»,— спокойно говорит
она, пожимая плечами.
Теперь ей
уже тридцать шесть. А она все ждет,
прислушивается к неслышным шагам,
всматривается в ночные деревья и
полагает, что все так или иначе происходящее
и творящееся, случающееся и свершающееся,—
в индикативе ли, в обтативе, конъюнктиве
или императиве,— все это обступающее,
прикасающееся, обжигающее и уходящее
не достойно даже того, чтобы пройти,
покачивая плечами, профланировать,
красуясь, пробежать сломя голову,
простоять на ветру в тех палевых,
терракотовых, бело-фиалковых, медно-зеленых
одеждах, которые Надюшка наскоро обновила
несколько лет назад на побережьях
Флориды и в переулках Калькутты, на
корабле, приближающемся к Патмосу,
Наксосу, Криту, и в строгом уединенном
замке, озирающем с высоты юг Франции
поры начала июня, когда так выразительна
и многоголоса юная зелень и поет неистовый
самозабвенный россиньоль, он же
найтингейль, он же серенький соловей,
пока хватает певчего горла — до самого
пика ночи, совсем как у нас, в родном
Чертановском, Солнцевском Подмосковье.
Или — все же
добравшись до этих вещей, моя сестра
хладнокровно, безоговорочно и на глазок
выпорет подложные плечи, широкое
расставит, узкое обузит и, устав возиться,
вовсе откинет или — ну, может, еще,
презрительно зажав между губ иголку,
вдруг да и сошьет все заново — на живую
нитку.
1988
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





