ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
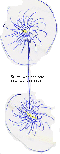
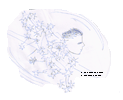

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Гиппиус Зинаида 1906
I
Восемь лет прошло — целых восемь лет! А Вике искренно казалось, что этих восьми лет совсем не было.
Так же пахнет геранью и кухней в маленьком домике за оградой Спасо-Троицкого монастыря, так же обедают они в зальце с окнами в палисадник, и мать с отцом совсем такие же. Старообразные, тихие, всему, чего не понимают, раз и навсегда покорившиеся. Без злобы и без особенной доброты, а просто.
Вот только брат Тася — новый. Вика едва помнит его, трехлетнего, ревущего и буйного. А теперь за столом сидит худенький тихий мальчик в парусинной блузе и смотрит на Вику большими, чужими глазами. Кто он — неизвестно. Вика про него знает только, что он не гимназист, а семинарист, сам пожелал; что у него теперь каникулы и что он смирный и задумчивый, совсем не шалун.
О том, что было с Викой за эти восемь лет, почему за все время не выбралось недели, чтобы повидаться, — родители не расспрашивают.
В общем знают, письма получали, а расспрашивать что же? Не поймут они, только горько и страшно.
Мать, в сущности, довольна, что у Вики здоровый вид, ей уж начинает казаться, что и перемен особенных в лице нет; мало-помалу и она забывает, что прошло восемь лет. Так, расставались — а вот, слава Богу, и свиделись. И она свое рассказывает, торопится, о том, что у них в углу случалось, чего Вика не знает.
— А помнишь ты, Вика, отца Геннадия нашего? Протоиерея? Уж такое близкое нам семейство было, такое близкое...
Вика вспоминает ясно и семейство, и самого толстого, крикливого и рослого отца Геннадия.
— Так вот, нет их здесь больше, Витенька, в Нижний перевели. Жалость такая. А тут еще несчастие у них случилось...
— Ну, какое ж это несчастие... Сказать несчастие — нельзя, — вставил кротко отец.
— А счастье, по-твоему? Уж помалкивай, Пал Федорович. Одно только: гляжу я и думаю — обойдется это. Ты, Виктуся, помнишь сына их второго, Васюту?
— Да, кажется, помню, мама.
— Он постарше, должно быть, тебя будет. А не то помоложе. Такого ума был мальчик, такого ума... Первым шел в семинарии, мало этого — в Петербург поехал да академию кончил. И что ж ты думаешь? Отец Геннадий в полной уверенности, что ему дорога открывается — а он, на тебе, в монастырь!
— В монастырь?
— Да ведь что! При его образовании он бы вскоре архиереем мог быть, хоть и молод очень. Это ведь тоже какая дорога! А он — ни два ни полтора, постригаться — не хочу, иереем — недостоин еще, а в послушники пошел! В простых послушниках уж год, в нашем же монастыре. Отец Геннадий радуется, что хоть в знакомом месте. Приходит к нам часто, ну так я присмотрюсь, что из него дальше будет.
— Всякому свое, — сказал отец покорно и скучно. — Вот хорошо у меня место частное, тихое, домик свой, и так мы и проживаем век без метанья. Да я к духовенству, хоть и жили все рядком, склонности не имел никогда. А есть призвания... Подвижническое стремление...
Вике не было скучно. Так хорошо, тихо, время не двигается, все все равно. После обеда отец пошел спать, Тася куда-то безмолвно исчез. Было жарко, но не мучительно жарко, а ласковая духота стояла.
Зазвонили к вечерне, тяжело и близко. Сад монастырский — точно лес, деревья высокие, густые. До самого обрывистого берега реки.
Сидеть так, на этом обрыве, в ласково-душный июльский вечер, слушать колокола вечерен, а больше ничего не нужно.
Впрочем — это кажется только, что хорошо. Кажется, что не было восьми лет. Но если б и не было? Ведь когда не было, и Вика, упрямой и розовой гимназисткой, сидела на берегу и слушала колокола, — тоже было нехорошо, тоже хотелось совсем другого, и даже до ненависти к тишине, к реке и колоколам — хотелось!
Теперь ненависти нет. Тихая грусть — и радостное удивление. Точно восемь лет Вика не видала неба, воды, деревьев. А они есть. И это почему-то ужасно хорошо, что они есть. Но почему?
II
Пришел дня через два, вечером, и сын отца Геннадия, Васюта.
Вошел робко, весь узенький, высокий, в черной ряске с кожаным поясом. Волосы у него отросли и слабо, вяло закручивались у плеч. Бороды и усов почти не было. Лицо испуганное, нежное и строгое.
Вика с любопытством на него поглядела. Он взглянул раз и потом долго не глядел.
Он помнил ее хорошо. Слышал уже, что дочка Павла Федоровича вернулась. Знал о ней все, что другие знали. Как она в семнадцать лет на курсы уехала, как «революционеркой» стала, в заключении год провела, потом в Женеву ездила... Пока он в Петербурге жил, в академии, — ничего не слыхал там о ней, это здесь все слухи.
А такая простая. Курсисток он мельком в Петербурге видал. Но вообще с женщинами никогда не разговаривал. Боялся очень, и не было интереса.
— У Васи голос хорош, — сказала Анна Ивановна. — На клиросе поет. Вот пойди, Вика, послушай как-нибудь.
— А разве вы в церкви бываете? — проговорил Вася как-то в сторону и вдруг покраснел и сжал брови.
— Я давно не бывала... Здесь же, в нашем монастыре бывала, когда дома жила, — ответила Вика с удивлением: ей пришло в голову, что за восемь лет она в первый раз вспомнила, что люди в церковь ходят. Точно там, где она жила, не было церквей, так же, как не было воды, леса и неба.
— Я теперь почти никогда не пою, — продолжал Вася. — Но вы все-таки пойдите. У нас хор славный.
И замолк. У Вики было красивое, смуглое, очень строгое лицо. Почти до тупости строгое. Вася и так боялся, потому что это была женщина, а от строгости у него даже внутри дрожало что-то.
Вышел брат Тася, взглянул, странно, неуклюже поздоровался с Василием Геннадьевичем, вспыхнул весь и тотчас же скрылся.
Мать говорила. Вика послушала-послушала и вышла на крыльцо. Мигали теплые, большие, предавгустовские звезды. Деревья сада монастырского недвижно чернели впереди.
— До свиданья, — кто-то сказал около нее. Вика обернулась и сразу не сообразила, что это Вася-послушник. Не узнала его в длинной рясе.
— Вы уходите? Вам прямо? Я с вами сойду. Мне пройтись хочется.
Вася ничего не ответил. Пошли молча. Вика сообразила, что, может быть, нельзя ходить с послушником-монахом ночью.
— Может быть, вам нельзя со мною? — спросила она неловко.
— Нет, отчего ж? Вы за оградой живете, да, пожалуй, и ворота еще не заперты. Мне недалеко, вот через две аллеи.
А Вике все-таки чудилось, что она что-то неловкое ему делает. Отстать хотелось, но вместо того она вдруг спросила:
— Вы ведь не монах?
— Нет, я послушник.
Вика это знала. Ей захотелось, чтоб он с ней поговорил просто.
— А я слышала... Вы ведь академию кончили... Вы могли бы сразу... как это? Священником-монахом быть, если б захотели.
— Да... Но я чувствовал себя недостойным пострижения. И вообще... Да, впрочем, что об этом. Извините.
Вика ободряюще повернулась к темной узенькой тени, которая двигалась немного сзади нее. И ей стало жалко почему-то, что он идет сзади и боится.
— Вы меня боитесь? — спросила она.
— Нет, так... Я не привык разговаривать.
— Ни с кем не привыкли?
— Да, и вообще...
— Грех это, что ли?
— Отчего грех? Нет, что вам? Вы даже не из любопытства спрашиваете. А так. Ну и не стоит.
Вике сделалось неприятно и странно. Зачем она спрашивает? Ведь он точно с другой планеты. Совсем не человек для нее. Монах. Она и забыла совсем, что есть монахи. Потом она вспомнила, что он академию кончил. Не просто же монах. Да и не монах он еще.
Они уже повернули во вторую аллею.
— Ну, прощайте, — сказала Вика. — Я теперь пойду одна. Еще к обрыву, может, пойду.
Вася остановился и нерешительно, как-то издали, протянул ей руку.
— А не боитесь? Там темно очень теперь.
И прибавил торопливо:
— Вы меня простите, не сердитесь. Я редко с кем разговариваю, не приходится. Может быть, не так что-нибудь... Вы спрашиваете меня, а я не отвечаю. Я из-за непривычки. У вас жизнь, вы приехали и опять в свою жизнь уедете, а я жизни и не видывал никогда. Я мертвый.
— Что вы? Отчего мертвый? Вы...
Но она не знала, что сказать еще. Так ей было странно.
А он безмолвно поклонился и как-то сразу исчез за деревьями. Вика постояла и пошла к обрыву. Река чуть светлела под звездами. Хорошо, душно и странно. Живая вода, мертвые люди...
Здесь нет жизни для людей, это правда. Живые звезды, живая вода... Вике вспомнилось, как она восемь лет тому назад рвалась отсюда, из монастыря, в «жизнь», к «живым людям».
И ушла. Что ж, жила? Видела живых людей, за которых отдала живую воду и звезды?
Вика не знает. Она мало думала об этом. Некогда было. Никогда не умела заниматься долго своей психологией. И теперь она не знает, когда была жизнь у нее, ее собственная, и где она. Там, здесь, — везде как будто монастыри. Ужасно разные, со звездами или без звезд, но монастыри. И везде — не то что очень душно, но все же нет чего-то, что, может быть, как раз и есть «жизнь».
Вике давно стыдно.
От глухого стыда она и приехала домой, в ямку спрятаться. Ей стыдно, что то, что она всегда признавала настоящей жизнью, настоящим делом, за что страдала и боролась, — вдруг ей... не то наскучило, не то ее утомило; почти физически. И не наскучило, и не утомило, а как-то отпала она, точно больная стала, безучастна, без вкуса. Сначала думала, что пройдет. Особенно яркого участия в кружке она никогда не принимала, прямого: террористкой не была; не любила и говорить о «действиях», которые, однако, молчаливо признавала как необходимые. Тут и в слабости себя не укоряла, и все знали, что она сама на прямое «действие» не пойдет, не из трусости, а по своему характеру. Она своей смерти не боялась, а чужой. К чужой смерти не могла близко подойти, тут тупа была и упряма.
Однако много делала, все время, все восемь лет в одном этом пробыла, как один день восемь лет. Столько разного страшного, неожиданного, — а обернуться назад — как один день, потому что все в одном круге, в одних этих чувствах и мыслях. Одиннадцать месяцев в тюрьме — и это то же самое, как одна минута в том же дне.
Так шло, а потом она заметила, что устала. Устала от этого бесконечного дня. Может быть, пройдет. Само вышло, что сюда захотелось поехать. Здесь другое, здесь ночь, здесь отдохнуть. А потом вернется.
И что ж, опять туда? Опять за бесконечное дневное дело, все одинаковое, к одинаковым людям? Они живые. Вероятно, живые. Они делают, горят, умирают. Конечно, живые!
Только Вика их не знает совсем. Она никого не любила, некогда любить, заниматься друг другом, когда вместе работаешь. Так и не присмотрелась, не успела. Теперь старается вспомнить... Трудно! Но, конечно, живые люди.
Только пока лучше не думать о них. И ни о чем. Отдохнуть просто.
III
— Строгая ты какая, Виктуся, — сказала мать робко. — Молодая девушка, а все читаешь, и одеваешься, как монашенка. Все у вас в Питере такие, что ли?
Вика улыбнулась. Припомнилось вдруг, что ее и «там» строгой называли. «Радина — точно монахиня». Впрочем, в шутку. Да и все, если припомнить.
Немножко такие же были. Она только помолчаливее других.
Тася, брат, услыхал.
— Она — сильная, мама. На лодке ездили — так не устает, гребет, точно мужчина. А только-только выучилась.
Вика подружилась с Тасей. Но все чего-то в нем не понимает. Что-то есть.
— Ох, замуж бы тебе, Витенька, — сказала мать, уж совсем робко. — Да женихов у нас нет.
И окончательно испугалась, потому что Вика встала и вышла, сказав со скукой:
— Ну, мама, какие там женихи...
А Тася засмеялся:
— Не выйдет она за ваших женихов! У нее, может, такие женихи в Петербурге! Сказали тоже!
Вика услыхала, выходя, слова Таси и не улыбнулась, а еще больше задумалась. Ей в первый раз пришло в голову, что ведь, действительно, у нее могли бы быть женихи, что можно выходить замуж, а с маминой точки зрения даже должно. Ну, это глупости, конечно, замуж и женихи, но ведь есть любовь... Как-то и об этом не думалось пристально. Тоже некогда было. Случалось у них, всего бывало, конечно, но Вика вспомнила, что она с величайшим презрительным осуждением, даже с негодованием, относилась ко всем этим историям. Время ли заниматься личными страстишками да психологиями! Вика была пряма и строга.
Ей пришла на память одна история. И теперь, на обрыве (она опять была на монастырском обрыве, и солнце садилось за рекой), — Вика без отвращенья, а почти с любопытством, стала припоминать эту историю.
Студент Леонтьев. Красивый, сильный, черный, румяный. Давно в Сибирь сослан, пропал где-то там. А дельный был человек, горячий, ловкий. Так вот он, один раз... Это было еще когда она на третий курс переходила, на шестой линии Острова в узенькой-преузенькой комнатке жила. Он пришел вечером, по делу. Чай пить остался. Ничего она раньше в нем, кроме полезного и хорошего, не замечала. Ближе других он ей был, это правда. Говорили долго, потом умолкли. И вдруг он со своего стула повернулся к ней круто, обнял крепко, сразу, и тихо и горячо что-то стал говорить. Вика помнит его влажные, сияющие и счастливые глаза. Потом он поцеловал ее, в самые губы, и еще раз, и опять.
Вика хочет быть искренней теперь, здесь, на солнечном обрыве над водой. И она вспоминает, что эти единственные, первые, три поцелуя облили ее странной жутью, а мыслей никаких не было. Не было их и в следующее мгновение, когда эта сладкая и властная жуть превратилась сама собою в такое же властное отвращенье, отталкиванье от красивого и грубо-сильного человека-самца. Он как будто захватывал ее, тащил ее, делал что-то с нею: целовал ее, потому что так ему было приятно, и ей показалось, что она превращается в неподвижную вещь. Без слов и без мысли показалось, только сделалось страшно и насквозь отвратительно.
Она тотчас же встала и говорила какие-то обычные, возмущенные слова, говорила, что оскорблена и негодует. Леонтьев понял, что она точно, непритворно, оскорблена и негодует.
— Значит, вы меня не любите? — сказал он грустно. И не то притих, не то опустился.
Она даже не ответила. Выпроводила его с тем же отвращеньем. Он ушел. Потом она избегала его намеренно. Любовь! Физиология, и больше ничего. Ей не нужна эта физиология, и слава судьбе.
Осталось, однако, странное воспоминание жути поцелуев. Но сплетенное с таким же странным отвращеньем, ощущеньем чужого захвата, ничем не оправдываемого насилия одного человека над другим.
Ну, вот и все. Раздумывать над этим некогда было, да и скучно. Да и не умела Вика размышлять над такими вещами и переворачивать их. Любовь просто не для нее, ежели любовь такова. Потому что ведь в смысле человеческой привязанности — она очень любила Леонтьева, больше других уважала его.
Что же еще было? Решительно ничего. Она так искренно-строго держала себя с тех пор, что никому и в мысль не приходило объясняться ей в любви. Впрочем, если сказать правду, то и у всех, с кем она тогда общалась, мало было любовных историй. Тоже некогда.
«Действительно монастырь, — подумала Вика и улыбнулась. — Это-то хорошо...»
Вдруг, совершенно необъяснимо, как будто без всякой связи, Вике вспомнился другой случай ее жизни. Тоже в Петербурге, тоже в маленькой студенческой комнатке на Острове, белой весенней ночью.
Поздно, часу в первом, к ней пришла, прибежала, вся в слезах, ее товарка, Юля Власьева. У Вики не было близких друзей и подруг, к женщинам она относилась так же просто, товарищески-отдаленно и уважительно, как к мужчинам. Но эта Юля, маленькая, слабая и беспомощная, хотя верная и всегда на все готовая, внушала Вике смутную жалостливую заботливость. Что с ней будет? Она такая горячая. Но ей надо вовремя указать, вовремя навести...
И вот Юля прибежала к ней ночью (почему именно к Вике — она и сама не знала) — сказать, что арестовали и увезли ее брата. Все знали, что если его арестуют — то уж не выпустят. Он был из «серьезных».
Юля сидела на постели, сложив руки на коленях, а слезы так и бежали у нее по щекам.
— Ты не знаешь, Радина, ты не знаешь... Колю я обожаю, я не могу, не могу... Пусть это слабость, но пусть бы меня взяли или кого угодно, только не его... Это такой ужас... Надо действовать, я понимаю, но что делать? И как я могу перенести?
Вика, не допускавшая никаких нежностей, невольно, однако, обняла плачущую девочку, утешала ее, как умела, не упрекала в слабости, просто гладила по волосам. Не говорила серьезно, хотя само по себе дело ареста Власьева было серьезное.
Но Вика думала о Юле; хотелось, чтоб она не плакала. Хотелось прижать ее к себе, успокоить, утешить. Поцеловать крепко, заставить улыбнуться, может быть, заставить забыть брата. Жалость и сладкая нежность к этому беспомощному, одинокому ребенку томили сердце.
Когда Юля, наплакавшаяся, заснула на постели Вики, по-ребячески подложив руку под щеку, Вика долго еще стояла у окна, глядела на бледно-зеленое, расцветающее небо, и ей было странно: не то весело — не то грустно, не то жалко Юлю, не то досадно, что она так плачет о брате, так любит его.
— Если б я была ее братом... Я бы охраняла ее, я бы вела ее... Николай все-таки мало думал о ней... А ей нужно, чтобы о ней думали, заботились. Она — мягкий воск... Любящая и покорная...
Так думалось ей. Или чувствовалось. Потом вдруг обернулась, взглянула на детски спящую Юлю, беспомощную, нежную и неподвижную... и вдруг эта Юля стала ей противна.
Самая жалость обратилась в отвращенье. Вести, нести ее, точно вещь! Нет, хорошо, что Юля не любит ее, не цепляется за нее; не хочет Вика никуда ее тащить, делать за нее, делать что-то из нее! И чего она пришла со своими беспомощными, бабьими слезами! И ведь утешилась, чуть в щечку поцеловали! Вика хотела разбудить ее и сказать, как это унизительно и глупо. Но не разбудила.
А наутро все прошло. Николая, к удивлению, скоро выпустили, и они с сестрой тотчас же уехали за границу. Вика потом встретила Юлю мельком в Женеве. Юля растолстела, стала крикливая. Вика ни о чем не вспомнила.
Отчего вдруг теперь вспомнила, думая о себе, о Леонтьеве? Влюблена она, что ли, в эту Юлю была тогда? Какое слово гадкое! И как тут все дико и глупо спутано.
Вика повернула голову. Увидала на краю обрыва, поодаль, тоненькую черную фигурку в подряснике. «Вася этот, монах!» — догадалась Вика. По длинным, вялым волосам узнала, — камилавку он снял.
Сидит, не оборачиваясь, согнулся, на закат смотрит. А солнце уже зашло, сумерки.
Сама не зная зачем, Вика его окликнула: «Васюта!» И неловко ей стало. Но как же его называть?
Он вздрогнул, спохватился, но тотчас же встал и подошел к ней.
— Вы извините, Василий... Геннадьевич, — заторопилась Вика, — я вас Васютой... Но просто не сообразила..
— Нет, вы уж пожалуйста... У вас все издавна меня так зовут. Я уж привык...
Он стоял перед ней, не зная, что ему дальше делать.
— Сядьте, здесь река виднее, — сказала Вика. — Вы на реку смотрели?
Он неловко сел, поджав ноги. Ветер чуть шевелил его слабые, длинные волосы. Узкое лицо казалось нежно-розовым в лучах заката. Что-то беспомощное, испуганное — но и суровое было в нем, в складках длинного платья и в выражении губ.
— На солнце смотрел, — проговорил он. — Хорошо закатывалось. Я часто сюда под вечер прихожу.
— Вы любите природу?
Решительно, Вика не знала, что с ним говорить и как.
— Нет, что ж, — сказал он и потупился. Испугался.
Тогда Вике стало его мучительно жалко, но и досадно, что он так боится, а она не умеет завязать с ним разговора. И она спросила почти грубо:
— Что же вы любите?
— Вот, сидеть здесь люблю. Еще службу предпраздничную, торжественную, особенно архиерейскую, люблю. Приходите ко всенощной в середу, под Спас архиерей приедет. Я, наверно, иподиаконом буду. Очень хорошо у нас служат.
— Странно, вы академию кончили, в Петербурге жили, — а совсем неинтеллигентны, — сказала Вика жестко.
Боится — так пусть же и боится. Или пусть обидится.
Но Васюта не обиделся. Кротко и просто подтвердил:
— Да, куда же мне! Я не умею разговаривать. В Петербурге жил книжно, затворнически. Здесь тоже. И вообще я мертвый человек.
— Почему вы мертвый? — сердито сказала Вика. — Вечно повторяете. Что ж, от мертвости и в монахи пошли?
— Нет, я не монах. Я, может, и не постригусь никогда.
— Так и будете все послушником? Или что будете делать?
— Сам еще не знаю, — сказал Васюта медленно; он смотрел вдаль, охватив руками колена. — Характер у меня нерешительный. А сомнения великие.
Вика заинтересовалась.
— Сомненья? Какие, религиозные?
— Да как вам сказать? Сам не знаю. Просто скажу. В Бога я верю. И в Христа верю...
Тут он строго и твердо взглянул на Вику, она даже сконфузилась и опустила глаза.
— А что грех и что не грех — разобраться не могу, — докончил он. — И как жить, поэтому, тоже не знаю.
— Но ведь в Евангелии написано... и Церковь учит... — сказала Вика очень серьезно и почти робко.
— Учит... Вот я и решил было, что все — грех. И солнце, и жизнь в миру, с людьми, а в монастыре спасение. Пожил — вижу, не то. Душа не вполне принимает. То есть плоть-то усмиренная, мертвый я; а умственные и душевные сомнения большие. Да что я вам? — вдруг опомнился он. — Вы, вот, об Евангелии... А вы сами-то верите? Ведь не верите?
И опять поглядел на нее строго. Вика молчала. Не нашлась. Не знала, верит или не верит. Никто никогда не спрашивал ее об этом. Сама не думала раньше. А сказать первое попавшееся — ему — как-то было нельзя.
— Вы, может, и убийства разные устраивали, — сказал Васюта еще суровее. Очень это было неожиданно.
Вика вся вспыхнула:
— Неправда! Неправда! Не говорите о том, чего не понимаете! Ничего я не устраивала! И не могу! Это совсем не то! И людей не осуждайте, ничего не зная, не понимая! Они, может, святее ваших монахов! Да и наверно святее! И они живые, а не мертвые! Вот вы не знаете, как жить, а они учение христианское, высоко моральное, в жизнь проводят! И я сама... как же можно не верить этому? Как тут можно сомневаться?
Ей теперь казалось искренно, что она всегда верила в христианство, и даже в него только и верила. Только не определяла этого.
Васюта весь сжался и побледнел. Испугался окончательно. Оба одинаково не понимали друг друга — и обоим было нехорошо.
— Извините меня, пожалуйста, — сказала Вика, опомнившись.
Виноват был он, а не она, но очень уж у Васюты лицо от страха изменилось, и Вике опять стало его мучительно жаль. Васюта махнул рукой.
— Нет, не умею я разговаривать. Куда мне. Простите, Бога ради. Я пойду, мне пора.
Вскочил, ушел, почти убежал. А Вика осталась в недоумении, жалости и досаде. Думала о том, во что она верит, во что нет.
За ней Тася пришел — чай пить. Вика вдруг спросила его:
— Тася, ты любишь службу в церкви, предпраздничную?
Тася вдруг покраснел и засиял:
— Ужасно люблю. В середу будет. Архиерейская.
— А будешь сам архиереем?
— Я? Зачем мне? Я просто люблю, когда служат. Как хорошо, как хорошо, Вика!
IV
Они пошли в среду.
В саду темно, церковь огнями горит. Народу, богомольцев, со вчерашнего дня еще кучи привалило в монастырь.
Вика с Тасей рано пошли, успели вперед пробраться. Вика пошла из любопытства. Как-то все вместе у нее не вязалось. Сама не знала, зачем пошла.
Вспомнила, что была в церкви и в Петербурге. В соборе на панихиде. Но точно и не была тогда. А вот девочкой, здесь же, в монастыре, — вот это она ярко вспомнила. Только не вспомнила, что думалось тогда. Кажется, то же, что и теперь. Правда, теперь она знает, что это просто культ, форма известной религии и больше ничего. Да не в том дело. Культ так культ. Но она тут девочкой была. И своим, родным, корневым на нее пахнуло. А мысли тут все мимо.
Теплая, пахучая, восковая духота. Волны сизые кадильного дыма. Волны набегающие томительного пения. Огни — и золото, мерцающее в огне. И медленные, торжественные движения людей, стариков, одетых в золото.
У Таси горящее лицо, нездешние глаза. Но он следит за одной точкой. Он ждет. Вика сразу не узнала Васюту, когда он вышел слева на середину церкви, за архиереем и священниками, в белой блестящей дьяконской ризе, с высоким двусвечником в руках. Он казался ей выросшим, удивительным, светлым и далеким. Тасе тоже, вероятно, он казался таким, только он его сразу узнал, потому что таким именно и любил, и ждал его с самого начала. Это была великая и святая Тасина тайна. Ему казалось, что все счастливы, как он, потому что каждый здесь любит и ждет кого-нибудь одного, ему одному известного, с такой же сладкой жутью и блаженством, и таким же этот один делается для него здесь, в церкви, — таинственно-светлым и святым. А тайна в том, что это выше человека, и еще в том, что никто не знает, кто кого любит. Тася полюбил Васюту именно таким, здесь, и когда он приходил к ним простой, в подряснике, — на нем все равно лежали здешние лучи. Тася все равно знал, какой он настоящий.
Поют, поют, — это прославляют торжество любви каждого, благодарят Бога за дар такого неслыханного блаженства. Кто любит владыку? Тася, может быть, любил бы его, если б уж не любил Васюту. У владыки такое прекрасное лицо, строгое и святое, точно у Бога-Отца. Тася и его, конечно, любит, ужасно любит, но уж потому, что любит Васюту сперва, с томительным и святым блаженством. А кого любит владыка? Может быть, тоже Васюту? Пусть, пусть! Пусть бы и Вика любила Васюту.
Молодой иподиакон чуть перевел глаза и поглядел в их сторону. Но скользящим, едва видящим взглядом. Сквозь сизые облака опять лицо его показалось Вике удивительным, не мужским и не женским. Ангельским, сказал бы Тася твердо. Вике это не пришло в голову.
«Слава Тебе, Показавшему нам свет!»
Тася встал на колени, крестился, кланялся и шептал: слава, слава!
Вика не кланялась, только — по вдруг вынырнувшей из прошлого привычке — крестилась. Ничего не шептала — но и не думала ни о чем. Ей было хорошо и странно. Голова немного болела и кружилась. Устала, но не хотелось уходить. Так же, как иногда с обрыва, от реки.
Она за Тасей подошла к аналою, где ей сделали крест на лбу душистым и теплым маслом. Поцеловала тяжелое золотое Евангелие. И точно это было другое какое-то Евангелие, а не та высоко-гуманная человеческая книга, веру в которую она недавно отстаивала. Их было два, но ей казалось в эту минуту, что она верит, и всегда верила, — в оба.
V
Они странно встретились, Вика и Васюта, через два дня после всенощной. Опять на берегу обрыва, в быстро чернеющий, душный августовский вечер.
Он, Васюта, был прежний, робкий и неловкий послушник в черном подряснике, мучительно жалкий и беспомощный — и вдруг строгий и взыскательный. Но он уже был и тем легким юношей среди огней и дыма, с двусвечником в руках. Вика по-прежнему не знала, о чем с ним говорить, но как будто и не очень надо было говорить. То есть рассуждать. Все так сложно, запутано и непонятно, что лучше уж быть совсем попросту.
— Ночь душная, тополями пахнет, — сказал Васюта.
— Садитесь со мной. Да, душно... точно в церкви за всенощной, только иначе, — сказала Вика и усмехнулась.
— А ведь хорошо служили?
— Очень хорошо. Послушайте, Васюта. Вот вы меня спрашивали, верю ли я в Бога. Мне кажется, я верю и всегда верила. Только об этом надо говорить... как-то с другой стороны, что ли...
Она затруднилась. Он промолчал, не понял. Она продолжала:
— На время все забыть — а только с другой стороны смотреть... Ну я не знаю, все равно. А в грех я не верю, — прибавила она неожиданно.
Васюта взволнованно и тихо кивнул головой:
— Вот и я тоже. То есть не вообще в грех, человекоубийство например... А как считается, повсюду у нас... До чего доходят! Ведь на небо голубое посмотреть — и грех. Нет, это не так. Все Божье. И люди Божьи. Господня земля и что наполняет ее.
Вика едва различала в душных, черных сумерках узкое лицо послушника, овеянное слабо вьющимися волосами. Оно казалось ей нежным, строгим и прекрасным.
— Да, все хорошо, — сказала она.
Он повторил, просто:
— Все хорошо. Очень.
Они были как дети, ничего не знающие, все забывшие, равные в этом незнании. Только чувствовали, что «все хорошо».
— Можно мне поцеловать вас? — спросила Вика и даже не удивилась этим своим словам, хотя и не ожидала их. — Мне хочется ужасно. Мне кажется, что я вас люблю.
Он тоже как будто не удивился. С готовностью повернулся к ней:
— Да. Поцелуйте. И я вас поцелую, если можно. И я вас люблю. Я только говорить не привык и боялся. Но я давно думаю, что это — не грех, а хорошо, нужно, свято.
Они торопливо шептались, хотя кругом было пустынно, темно и тихо. Даже кузнечики молчали в короткой августовской траве, даже с реки, снизу, не слышалось шелеста воды.
Вика обняла худенькие плечи юноши и щекой коснулась его лица. Потом они поцеловались, оба вместе, неловко и радостно соединив губы. Потом, все молча, еще раз поцеловались и еще.
Давно забытая, но знакомая сладкая жуть облила Вику. Она, было, испугалась чего-то, но испуг тотчас же прошел, ей было хорошо.
И грустно. И ему тоже, вероятно, потому что он сказал:
— Мне плакать хочется. Но так это радостно. Спасибо. Меня никто не целовал. И я никого.
Вика шепнула:
— Молчи. А то мне будет страшно. Я ведь сама ничего не понимаю.
Он покорно умолк, только нашел робко ее руку и поцеловал. Она не отняла руки. Так они просидели, обнявшись, долго, потом еще раз медленно, нежно и жарко поцеловались и разошлись.
VI
Мысли, серьезное дело, ответственность — это с одной стороны, — а река, звезды, захолустная тишь, огни всенощной, золотое Евангелие и Васюта на берегу обрыва — это все с другой стороны. И тут, с этой другой стороны, у Вики уже не было никаких размышлений, она даже не пыталась думать, даже не знала, где она-то, сама Вика, на этой или на той стороне? И где жизнь? Может быть, и здесь и там по половинке. Значит, собственно нигде. Ну, не все ли равно. Только бы обе были. И даже как-то спокойнее, что они разорваны.
Не то в затмении, не то в облачном полусне жила Вика. Вероятно, она думала, что и Васюта живет так же. Они по-прежнему ни о чем не могли путно разговаривать, и Вике не хотелось. Виделись в церкви и дома. По вечерам, темным, душным и звездным, сходились на краю обрыва и целовались, и Вика говорила ему «люблю», а когда он раз робко спросил ее, любила ли она еще кого-нибудь, она с уверенностью отвечала, что нет и что не могла бы любить никого, кроме него.
— Значит, на всю жизнь? — обрадованно сказал он.
— Ну да, конечно, на всю жизнь.
Он умолк, долго, серьезно молчал. Потом вдруг сказал:
— И я тоже, на всю жизнь одну. Я говорил, что у меня характер нерешительный. Это неправда. И вы в меня новую силу влили. Вы вся — точно источник жизни для меня. Вот вы увидите...
Она вдруг испугалась. Но не знала, чего. Расспрашивать его не хотелось. Лучше так сидеть. Звезды тихие, снизу водой пахнет, и он, милый, странный, робкий и строгий, — близко.
Чувствовать его нежную и близкую теплоту. И еще чего-то ждать, вечно на что-то надеяться, что — придет или не придет — все равно Счастье.
Он поцеловал ее на прощанье как-то особенно, может быть, даже слишком крепко и властно... Но Вика пришла домой в том же полусне, надеясь на завтра.
Завтра минуло. Шел дождь, Вика не была у реки. Что за беда. Будет еще день. Но на следующий день за обедом мать неожиданно объявила новость: Васюта уехал!
— В Петербург будто бы поехал. Подумайте! Вот чудеса! Даже не простился! Да что это только будет!
На крыльце Тася подкараулил сестру и сунул ей в руку бумажку.
— От него, — шепнул он, и уши вспыхнули. — Я провожал... Вернется скоро...
Вика с удивлением развернула бумажку.
«Милая, дорогая, неоцененная, единственная вы моя! Верю свято тому, что вы сказали: на всю жизнь. Уезжаю, чтобы скорейшим образом вернуться. Чувствую в себе полет сил и жизненной энергии. Целую вас, дорогая, несчетно раз. До скорого свиданья. Васюта».
Ничего не поняла. Васюта ли писал? О чем он? Не хотелось размышлять. Вернется скоро — на этом успокоилась. Вернется — а там уж все будет хорошо, как нужно.
Пошли дни за днями. Погода испортилась. Холодно, дожди. И деревья монастырские стали облетать. Ночей, душных и звездных, больше не было. Вика сидела дома, в маленькой комнатке с кисейными занавесками. Сначала так сидела, все еще в полусне и затмении, точно в облаке дыма кадильного. Не читала. А потом начало сволакиваться, изменяться. То есть не ушло ничто, но рядом и другое стало подыматься. Прежнее, дневное, рабочее, нудное — но трезвое. Ей надо ехать. Не то что хочется или необходимо, но тупо тянет, нужда какая-то. Потому что если не ехать, то что же?
И она почти невольно стала собираться. Списалась кой с кем. Родители приняли это с грустью, но без удивления. Отрезанный ломоть.
Но сделалось нехорошо. Беспокойство вставало. Ночи прошли, опять день, вечный, однообразный. Не мучила совесть, потому что ночи — правда, и любовь эта ее к Васюте, светлому, робкому и строгому, — правда. Но если правда — зачем же уходить от нее, ради чего покидать? А если есть и другое, другой монастырь — «другая сторона», как она себе говорила, — то теперь их разрыв и разделение были с каждым днем ей все мучительней, все недоуменнее.
Потом стала придумывать выход.
— Это ведь не одна физиология, моя любовь, а любовь. И ведь не романтизм же сентиментальный. Это надо как-нибудь в трезвую жизнь ввести. Я пока совсем не знаю его — узнаю. Найду его в Петербурге. Там все выяснится, ближе сойдемся, поговорим. Надо трезво рассуждать.
Забыла, что сама не хотела говорить с ним, все смутно боялась чего-то, вовсе не рассуждала. Так месяц прошел, и полтора.
VII
Пахнет геранью и кухней в маленьком зальце, за окнами черно, деревья и дождь шумят, Тася что-то стругает тихонько за столом, самовар потух. Вика рассеянно перелистывает книжку. Она решила ехать через два дня. Сегодня ей хорошо, весело, чуть-чуть грустно, все кажется милым. Рада, что Васюта не вернулся сюда, она найдет его в Петербурге. Любит его, помнит его, близкого, милого, светлого.
Вика знает — догадывается, — что Тася тоже «влюблен» в Васюту, и это ей нравится. Теперь Вике не кажется гадким слово «влюблен». Это хорошо, светло, близко. Тут живое, тут не вся жизнь, но целая половина.
Впрочем — не определения у нее умственные, не выводы психологические, а так чувствуется. Пока только чувствуется — и легко, и веришь, что все выяснится, а начнет Вика, при ее непривычке, над этим думать — мучительный, перепутанный во всех концах узел.
Так они сидели, осенним вечером; и случилось неожиданное.
Кто-то вошел на крыльцо. Стукнула дверь. В передней возгласы и разговоры. Тася насторожился. Через две-три минуты — почти вбежала мать, взволнованная:
— Нет, вы глядите, глядите, беглец-то наш!
За ней стоял какой-то молодой человек с маленькими усиками, коротко остриженный, в новеньком буроватом кургузом пиджачке, с зеленым галстуком. Виновато, но и торжествующе улыбался.
— Нет, каков, каков! — сыпала мать, упоенная от непривычности к событиям. — Что рассказывает-то. Оглянуться не успели — а он уж преподаватель петербургский! Да может, говорит, и в священники пойду, профессором буду! Вот тебе и послушник! Живо оборудовал! То-то отец-то Геннадий, должно быть, радуется!
Вика едва сообразила, что это Васюта. Потому что ни следа Васюты не было. Даже странно, что может человек вдруг так измениться. Перед Викой стоял молодой семинарист довольно приятной наружности, не особенно ловкий, одетый во все дешевенькое и новенькое, не без претензии, и — это главное — очень довольный собою. Он и говорить стал иначе — гораздо больше, громче и увереннее.
Тася молча прослушал его рассказ о том, как он получил место, как ездил, — потом встал и ушел куда-то. Вика не ушла, но тоже молчала и глядела в странном недоумении.
Долго он сидел и все говорил. Мать вышла. Только что она вышла — Василий Геннадиевич как-то выпрямился, подвинул свой стул к Вике и сказал:
— Ведь я все для вас, дорогая моя! Я жизнь через вас понял. Энергию вы в меня новую вдохнули. Я руки вашей просить приехал. Что я был — мертвый человек! И давно ли? А вы любовью своей меня преобразили. Тяжелые, мучительные сомнения мои рассеяли. Я мальчишка был, дитя, — а тут взрослым мужчиной себя почувствовал. Теперь уж не расстанемся!
И он еще придвинулся к ней, взял за руку с неуловимым, вероятно инстинктивным, правом будущего мужа, хотел, кажется, обнять и поцеловать ее. Потянулся.
Вика вскочила в смертельном ужасе. Какая-то чернота наплыла на нее, густая, и она точно тонула в ней. Чернота голову накрывала. Кто это? Не Васюта, — конечно, не он. Но даже и не студент Леонтьев (хотя общее с Леонтьевым мелькнуло что-то), а человек, со всех сторон, и с этой и с той, далекий ей, ненужный, совсем чужой. Да, это студент Леонтьев, только и дневной рабочей жизнью с ней не связанный.
— Нет, нет, — бормочет Вика растерянно, отстраняя тянущиеся за ней руки молодого человека. — Извините... — Вы не поняли. — Я не могу... Это недоразумение...
И вдруг закричала:
— Вы права, наконец, не имеете... Уйдите, пожалуйста...
Он искренно изумлен. Ничего не понимает. И Вика ничего не понимает. Васюты нет. Был ли Васюта, овражный, звездный, со светильниками, — или это все только глупо снилось?
Что-то робкое, прежнее глянуло на минуту из него.
— Я уйду, уйду... Вы расстроены сегодня... Я, может, неожиданно все очень... Я завтра утречком приду...
И ушел, неловко, задом пятясь к дверям, смешной в своем новеньком кургузом пиджачке.
Вика слышала, как хлопнула дверь. Пошла, медленно, в свою комнатку, рядом с Тасиной — крошечной каморкой.
И вдруг услыхала странные звуки. Точно кто-то глухо лаял. Это плакал Тася, уткнувшись в подушку. Когда Вика вошла к нему со свечой — он поднялся, угрюмо сел на постели и зло поглядел на сестру.
— Чего ты? — сказала она.
— Чего, чего? Почем я знаю?
Опять поглядел на нее. Видно было, что он действительно не знает.
— А ты-то чего? Ты-то? — закричал он вдруг злобно, указывая на нее пальцем. Вика, было, не поняла, — но потом вдруг заметила, что она тоже плачет. Это было удивительно, она и не помнит, когда плакала.
— Я... не знаю... — растерянно и уже откровенно сквозь слезы сказала она.
Мальчик с рыданьем и злорадством крикнул:
— Да! И сама тоже! А еще образованная, большая, петербургская! Ну и уйди! Ну и пусть!
И опять уткнулся в подушку.
Но Вика не ушла, села на постель, рядом, обняла Тасю сзади и, прижавшись к его черному, вспотевшему мальчишескому затылку, стала плакать, тихонько вздыхая.
Оба плакали, не зная о чем, а если б знали, то, может быть, слезы были бы еще солонее и тяжелее. Знали смутно, что плакали о Васюте, настоящем, которого можно было любить — и которого по-настоящему — никогда не было.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





