ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Поликарпова Татьяна
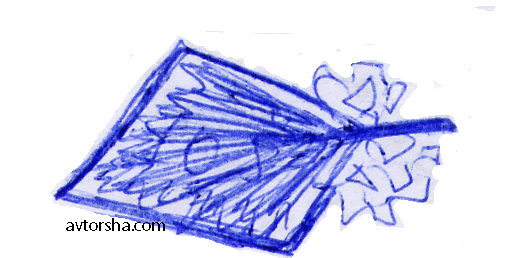
Я хочу
превратиться в дерево. Вовсе не значит,
что я собираюсь стать деревяшкой, пеньком
трухлявым. Бесчувственной колодой.
Лежачим бревном. Я хочу быть живым
деревом. Растущим под небом. Вверх и
вширь. Чтоб был простор всем веткам,
каждому листу. И хочу, чтобы постигло
меня все, что постигает живое дерево до
его смерти. Нет, не преждевременной,
когда ломают березку или кленок в пору
их зыбкой, шаткой юности. Нет, пусть
навьется достаточно годовых колец
вокруг тонкой сердцевинки, достаточно,
чтоб потом человек, склонившись над
пеньком, мог и со счету сбиться. Чтоб,
присев на него, подумал бы прохожий: да
что ж я на него сел, как на стул, когда
это добрый стол: на нем можно расставить
вдосталь снеди и закусок, да не на одного
себя, а на пяток близких друзей... Как
тот орех в Гарме... Да, орех в Гарме...
Интересно, жив ли он... Невозможно и
представить его себе поверженным. Тем
более пеньком... Крона его плыла под
самыми звездами... Вряд ли какой человек
мог бы дошвырнуть камень даже до самых
нижних его веток,— так он был высок.
Да-а, тот орех... Вижу его как сейчас:
трое нас, парней, взявшись за руки, едва
могли обхватить ствол. А три его макушки,
неравные по высоте, расходились далеко
друг от друга, и каждая ветвилась
по-своему. А могучие нижние ветки шли
почти горизонтально по отношению к
земле, и было их немного. Весь этот
сильный и простой каркас убирали ушастые
широкие листья, прямо лопухи, а не листья.
Ночами, когда мы лежали под орехом,
листья и ветки местами сливались в
темные причудливой формы пятна —
материки, омываемые прозрачными водами
небесного океана, светлого от звезд.
Странно, почему сквозь ветки и
листву ореха небо казалось прозрачным,
ведь вообще-то гармское ночное небо,
как черный бархат. Однако на широких
прогалинах между «материками» даже и
отдельные листы, застывши в безветрие,
рисовались четким силуэтом...
Крона
ореха была обширной: весь наш мирный
отряд туристов, 18 человек, укрывался
под нею, но не плотной — сквозной. Мы
лежали под ее сенью ногами к стволу, 18
живых радиусов, и все как один смотрели
вверх, следя за прихотливой вязью сучков,
веток, листьев, наблюдая, как пугливо
дрожат, запутавшись в их сети, вообще-то
бесстрашно отверстые таджикские
звезды...
Вот тогда впервые... Тогда
я почувствовал невольно, как меня
захватывает дух этого дерева... Или,
сказать точнее, его мир вселяется в
меня. Невольно, невольно... Само собой
приходило ощущение вечности, будто я и
орех — мы одно. Мир, благодаря этому,
виделся всегда самому себе: не старее
и не новее. Одно время. Одно небо. Одни
горы. И они всегда здесь. Их силуэты одни
и те же. Меняются лишь времена года.
Приходит пора сбрасывать листья, терпеть
холод и ветры. И приходит весна. Но это
идет по кругу, а мир остается все тем
же. Меняются ощущения...
Думаю, и
зимой дерево не бесчувственно, наоборот,
всякий раз тяжко ему, будто перед концом:
ибо замирает в нем жизнь и, кажется, не
вернется... Но и каждая весна зато приносит
как впервые радость воскресения!
Представить только себе: быть ни мёртву,
ни живу, и вдруг — живое тепло извне,
новое солнце и, главное, живое движение
в самом себе: в стволе, коре, новых почках!
Начинается новый круг, новый оборот
времени, и время это не пропадет, не
уйдет водой сквозь песок, но отвердеет
очередным древесным кольцом, круглой
четкой строкой, и рождение каждой строки
дерево переживает как свое воскрешение
к новой жизни...
Вот он, мудрый и
старый орех, с корой, спекшейся в
загадочные иероглифы... (А что, если в
них-то и зашифрован главный смысл, закон
всей жизни? Прочитать бы!)
Вот он,
мудрый и старый, а весной от первого
тепла, от более яркого, чем накануне,
солнца вздрагивает и настораживается
каждым своим отпрыском так же чутко,
как его юный с гладкоокруглым стволиком
родич, подрастающий рядом с ним, своим
пра, пра, пра в бесконечной степени
дедом...
Вёсны и зимы... А само время
цельно и едино для них. Цельно и едино.
И все, что случалось с людьми, случилось
внутри этого круглого, как шар, как сама
земля, времени.
Тогда, в эти несколько
ночей под орехом, я чувствовал Адама и
Еву как своих брата и сестру. Их история
шла рядом с моей, с нашей: моей и этого
ореха. И всех остальных людей. И все
остальное. Только одно, если уж до конца
говорить, не умещалось в это общее и
круглое время: я никак не мог осенить
моим орехом кровь, проливаемую людьми;
кровь всех войн и предательств никак
не вмещалась сюда. Смутился, поняв это:
значит, не правда, что время цельно и
едино? Ведь не выкинуть из времени,
пережитом людьми, кровь и войны — это
их история, их движение — думал я вместе
с орехом.
Но нет! Конечно же не
вместе! Я отставал от него! Он-то с самого
начала знал, что истинное Время всего
— это жизнь, а не войны и убийства.
Понимание этого пришло ко мне в третью
ночь под ореховым деревом, а назавтра
мы уходили из Гарма. Но в эту ночь я был
бессмертным. И понял, почему с самого
начала ощутил здесь равновесие и
цельность, неделимость времени. И я был
бессмертным, и жизнь шумела вокруг в
тишине, и я не спал всю эту ночь, так же,
как и орех.
Мы слушали: сколько
голосов и движения! Я подумал: движение
для дерева — в движении всего, что его
окружает, в ощущении этого движения,
как и того, что совершается внутри него.
Вот — звуки ночи... Движение воздуха
тихого, а то ураганного сквозь ветви и
листья... Знаем ли мы, что приносит дереву
ветер, родившийся, может, в самом сердце
теплого океана? Или в знойной пустыне?
А здесь чаще всего летящий с ледниковых
круч Памира, его ущелий и долин, свежих
от ледяных потоков голубой граненой
воды.
Несут вести дереву и облака
в бесконечности своих форм, меняющихся
на глазах. Тучи с их градом, и ливнями,
и теплыми дождями.
Дерево не упускает
самой малой перемены в красках земли и
неба: от нежно-серого света утра через
все переливы зари и восторг первоявления
солнца до перламутровой игры вечернего
неба с окружающими Гарм вершинами гор...
А звезды, плутающие в ветвях ночами... А
луна... Ее прятки с облаками... То тень,
то бледный свет. А звуки в ночи... Пусть
не так, как мы, в ином восприятии, и,
может, еще более остром и сильном, дерево
воспринимает движение жизни и участвует
в нем.
В ту последнюю ночь, бессмертный
и бессонный, я слушал вместе с орехом...
Лепет звезд в ветвях... Тихие шорохи в
траве и кустах, поскрипывание каких-то
насекомых; бормотание птиц: тихое
горловое бульканье, неожиданные
вскрики... Все это уже после того, как
уснули мои товарищи, доверчиво прижавшись
к сухой и теплой, покалывающей травинками
земле, тонким слоем кроющей здесь, в
школьном саду, древние скалы Памира.
Голоса их умолкали постепенно, один за
другим, как голоса засыпающих птиц, а
потом вдруг опять оживлялись, смех
пробегал. Но смех звучал редко:
торжественный орех, к подножию которого
мы приникли, непроницаемо черный зубчатый
силуэт гор в небольшом от нас отдалении,
вздымающийся словно борт гигантской
люльки, подвешенной к звездному небу,
покоящей нас, малых детей,— все настраивало
на тишину.
...Как похожи мелодии
жизни, думал я, слушая ночь, после того,
как отзвучали голоса людей: так же
переговаривались птицы, а потом вступили
собаки. Конечно, их музыка была куда
громче!
Сначала тонко, заливисто-тоскливо
взлаяла где-то далеко на краю поселка
одна, оборвав голос на самой высокой
отчаянной ноте. И — началось... Собаки
лаяли истово, будто службу служили,
будто одна перед другой старались: кто
громче, кто дольше... Одни с подвыванием,
тонко, иные — басами, будто били в глухой
барабан: баф! баф! У одних получалось:
йех! йех! У других: йеу! Начнут, было,
затихать, вот, кажется, совсем тихо... Но
тут какая-то, обрадовавшись тишине,—
теперь-то и показать свой голос! — ударит
— зальется: уау! Ой-ё-ёйёйёй-ёй! И понеслась
новая волна по всему селенью...
А
еще позднее вступили ослы... И собачий
хор показался жалким простаком перед
трагическим страстным ослиным плачем.
Ослы какие-то особые, что ли, в Гарме? Да
и ослы ли это? Ничего похожего на будничное
дневное и-ааа! и-ааа! Крики походили на
человеческие вопли, родившиеся, наконец,
из гордо сдерживаемого молчания... И не
люди просто это были, а титаны: обычная
человеческая глотка не выдержит, да не
сможет и родить звук такой силы. Так,
наверное, кричат в жестокой пытке: уж и
не человек, а сама раздираемая плоть
вопит — хрипло, дико, оглушительно, рвет
рот и глотку. Сердце тоскливо сжимается
от этих воплей, и мерещится: и тебя ждет
такая же мука... И внутри тебя шепчет
невнятно голос молящий: «Да минет меня...
Да не заденет...»
— Нет, это, правда,
ослы? Неужели ослы? — спрашивает время
от времени кто-нибудь из наших девушек.
Невозможно было не проснуться от этих
криков. А парни даже не пытались
подшучивать над ними, уговаривали,
успокаивали, наверное, заодно и самих
себя:
— Конечно, они. Они вопят.
Обратите внимание: они часы отбивают...
Каждый новый час... Такая биология...
Но
не верилось в биологию в такую ночь под
библейским деревом. Верилось в судьбу,
в возмездие, в вечность верилось. В
особый смысл существования всего на
свете: любой травинки и букашки на ней;
осла и собаки; дерева и человека.
А
наш орех... Кто скажет, ночь ли плыла
сквозь него со всеми своими звуками и
голосами живущих вокруг созданий, или
это он плыл величаво сквозь ночь — мачта
на корабле Земли, ее вечный флаг, поднятый
среди звезд? Знак особенности Земли во
вселенной и надежда всего живого на
ней. Флаг, овевающий Землю дыханием
жизни...
Так не кощунственно ли мне,
твари, живой даром дерева, возжелать
стать им самим, да еще вспомнив при этом,
может, самого величественного из всей
его родни? Но пусть не таким, как он, не
им, а хоть одним из его братьев...
Кстати,
само желание это — превратиться в дерево
— пришло вовсе не тогда, в Гарме, в саду
маленькой, под камышовой крышей школы,
где сначала приютил нас учитель со
своими четырнадцатью детьми, а уж потом
— орех... Его темный парус над садом мы
увидели еще издали.
Нет, это пришло
не тогда... Годы и расстояния отделили
ту ночь под орехом от часа, когда жизнь
дерева показалась завидной, когда пришло
время сравнить и пожелать его доли.
Вовсе не потому, что жизнь стала
нестерпимой, а как раз наоборот. Но
мгновение летучее — что значат две
недели? — жизнь вошла в покойный залив
или тихую протоку. Волна «бочку вынесла
легонько и отхлынула тихонько». И человек
(это был все тот же я) опомнился сидящим,
правда, не в бочке, а на удобном надувном
матраце, складывавшемся в кресло с
высокой спинкой. Это кресло само по себе
заставляло того, кто сидел в нем, принять
самую удобную и экономичную позу,
напоминающую позу младенца в материнской
утробе или космонавта в минуты старта:
колени приближены к груди, спину по всей
ее длине в любой точке поддерживает
упругая опора. А на приподнятых коленях
так удобно расположить пюпитр: книгу,
журнал в твердой обложке или тетрадь,—
а на этот пюпитр ложился лист бумаги...
Справа и слева от матраца возвышались
кулисы ровно подстриженных кустов
акации, недалеко сзади стоял дощатый
сарай, а прямо перед сидящим — дача,
деревянный дом, похожий на обыкновенную
деревенскую избу. От дома к сараю вела
узкая асфальтовая полоска, все же
остальное пространство двора беспорядочно
заросло травой и деревьями: березой,
осиной, ольхой, рябинами.
Кусты
акации и жимолости отгораживали зеленой
изгородью дом и двор от аллеи, ведущей
к другим дачам. Но в те две недели никого
не осталось во всем не маленьком поселке
казенных дач. Да и не полагалось быть
никому в это время. Человеку с надувным
матрацем разрешили в виде исключения:
он был один, и сторожа с ним смирились.
Лето стояло насквозь мокрое, и
сентябрь — ясный, солнечный, тихий —
выпал как награда за терпение. Солнце,
все лето отдыхавшее за облаками и тучами,
выглядело свежим, как весной, и деревья,
мытые-перемытые дождями, юно блестели
листвой.
Часа было жалко потратить
в комнатах дачи, темных от зелени за
окном. Вот почему так пригодился складной
надувной матрац — и стол, и кресло для
работы прямо на асфальтовой дорожке
меж кустами акаций.
Однако пора
настоящего тепла все равно миновала,
от долгого сидения в тени становилось
зябко. И человек на своем матраце-кресле
поворачивался, как подсолнух, за солнцем,
ища его тепла, двигаясь по дорожке то
ближе к левой кулисе кустов, то к правой.
И это движение, подчиненное ходу солнца,
было таким же незаметным и нетревожным,
как движение ветвей и шелест окружающих
деревьев. Оно не пугало даже птиц. Видимо,
их не беспокоило и похрустывание белых
листов бумаги, когда человек брал их из
чистой стопки справа от себя или клал
исписанными в стопку слева, ни яркое их
свечение среди зеленой травы.
Впрочем,
сначала птиц не было видно. Они появились,
спустя дня два-три, видимо, привыкнув к
одной и той же позе человека, к одним и
тем же немногим его движениям, к
постоянству его жизни здесь, во дворе.
Скоро птицы совсем освоились. Синицы,
усевшись на низкие, вровень с плечами
пишущего, ветки кустов, свешивались
вниз головой, вытянув короткие шейки,
следили, как движется перо по бумаге.
Насмотревшись, улетали. Возвращались.
Обедали чем-то невидимым, что находили
на листьях, в их пазухах, гонялись друг
за другом.
Стая дроздов с шумом и
гамом налетала на рябины во дворе.
Яростно пировали. Оранжевые бусины ягод
звонко щелкали порой по бумаге.
Трясогузки щепотно семенили возле
самых башмаков человека, радушно кивали
ему черно-белыми хвостиками.
Позже
всех человек заметил Чипа. Может, он
прилетал и раньше, да по первости прятался
где-нибудь рядом. Такому спрятаться
совсем несложно: крошечный серенький
комочек, совсем круглый, если б не
коротенький хвостишко. По серой грудке
два светло-желтых пятна, будто художник
мазнул небрежно почти сухой кистью раз
сверху вниз, второй — снизу вверх,
оставив как бы перевернутые широконькие
запятые. Кажется, это крапивник, вспоминал
человек, разглядывая гостя и совсем
застыв, чтобы не вспугнуть его.
Гость
качался на тонком побеге акации прямо
перед его носом. Склонял круглую с
небольшим клювом головку то влево, то
вправо, чтобы лучше разглядеть человека,
и восклицал звонко-удивленно: чип! чип!
Потом принялся кувыркаться, демонстрировал,
какой он ловкий: не выпуская ветки, одним
движением словно бы нырял вниз головой,
а выныривал, уже сидя на той же ветке,
задом наперед. Человеку никак не удавалось
ухватить момент, когда гость переворачивался.
Рраз! — и он уже к нему клювом; рраз! —
и уже хвостом! Ай, да Чип! Ай, да ловкач!
Чип стал прилетать каждый день в
одно и то же время. Перестал пугаться
толоса, и человек разговаривал с ним.
Чип понимал, во всяком случае, соглашался.
— Ты, верно, думаешь, что я тоже
дерево?
— Чип! (Кувырок.)
— Ну так
сядь ко мне на плечо или на руку.— И
человек отставлял в сторону локоть.
—
Чип! Чип! — И на всякий случай гость
отлетал подальше.
Но однажды, когда
человек не смотрел на него, углубившись
в работу, Чип невесомо, легче сухого
листа, опустился на носок башмака. И
человек замер, невероятно счастливый.
Когда Чип задерживался на час или
полтора — обычно он прилетал около двух
часов дня — человек волновался. Мало
ли что может случиться с такой малой
птахой. А вдруг обиделся на него?
«Вот
как, значит, плохо дереву, когда к нему
не прилетают знакомые птицы»,— подумалось
однажды человеку в такие часы ожидания.
Тогда-то он и понял про себя впервые,
что сам почти превратился в дерево, и
даже усмехнулся, довольный.
«И
правда,— присмотрелся он к себе
пристальнее,— сижу на одном месте, даже
птицы не боятся. Только листьями шуршу...
Тоже как дерево... И птиц своих знаю, а
они меня...» И внимательнее глянул на
окружающие его деревья, задумался о
них, перебирая взглядом длинные плети
березовых ветвей, льющихся на крышу
дома. И вдруг стало ясно, предельно ясно,
что стоящее на месте с рождения до самой
смерти дерево получает радости от жизни
ничуть не меньше, чем ходячий человек.
Разом нахлынуло: вот я, человек, выхожу
утром на крыльцо, а солнце уже поднялось,
и крыльцо освещено в упор его лучами. И
парит, курится оно, отсыревшее за ночь.
А вокруг... Все вокруг едино и согласно
в эти минуты: ясность воздуха, тишина
неба, матово-серые от росы травы и листья
кустов... Словно всё и все прислушиваются
к себе, сознавая счастье равновесия в
себе самом, равно как и со всем миром. И
пронзительная, знобкая, как родниковая
вода, свежесть... .
На миг человек
чувствовал и себя вместе со всем
неотделимо, и переживал эти минуты как
совершенное счастье жизни.
Нет, не намек, не предвестье —
Эти святые часы.
Тихо пришли в равновесье
Зыбкие сердца весы...
Стихи из
чьей-то книги подсказали...
И ничего
другого не нужно: лишь бы повторилось
еще одно такое утро... И это для тебя,
малоразветвленный человек. А для
дерева-то? Каждый лист омыт этим счастьем,
каждая ветка. Целая крона радости! А
ведь человек еще пропустил рассвет. Без
него перешло дерево грань между ночью
и светом. Вот эта береза над домом, высоко
взмывшая над его крышей своей нежной
сквозной верхушкой. Впереди у нее еще
целый день и сколько перемен в нем...
Загадок... Неожиданностей... Ветер
налетит... А то и буря. Тут и потери, того
гляди... Хрустнет ветка, и со всей массой
листьев рухнет вниз... Обратно уж ей не
прирасти. Без потерь и обид и дереву
жизнь не прожить. Ужас молнии, бьющей в
живую древесину.
Но ведь и все-то
на свете живет, чтобы когда-нибудь
погибнуть. Молния — разве худший конец?
Человеческий топор — хуже. И того хуже
— медленная пытка огнем, костром,
разложенным на самых корнях, близко к
стволу, под кроной... Нет, гроза, буря —
это тот самый ужас, в котором и восторг:
яркую внезапную гибель таит в себе буря
с громом и ветроломом... Но если пронесло
— вот счастье... Устояло дерево, живет...
И устало и счастливо свисают зеленые
пряди, роняя капли дождя. А солнце
зажигает их разноцветными огнями.
Искрится дерево... И каждый лист — а
сколько их? — помноженное тысячекратно
счастье: живу...
Вот отчего так
утешительно, так отрадно смотреть на
деревья. Свободные деревья в лесу, в
заброшенном саду, дикорастущие на таких
вот дачных участках. Сами по себе. Что
без них и само небо? Пустота, голубая
неразличимость... Деревья придают небу
собственное над каждым земным местом
лицо. Как вот здесь над этим домом. И что
это был бы за дом без березы над ним? Без
живой тени на его крыше? Вот уж верно:
дому не должно быть выше дерева! Дому
следует искать приют под деревьями.
Тогда он не выглядит бедным сиротой,
жалким в своем одиночестве, пусть этих
домов хоть целая деревня наберется. А
под деревом, пусть под одним, он, как
ребенок при матери, при родне.
Недаром
в городах дома, гордые своей башенной
высотой, своей каменно-бетонной
несокрушимостью, цепко держатся один
за другой, жмутся друг к другу, потому
что нет у них покровительства живых
деревьев, и им страшно. А деревья в городе
вроде понарошку, вроде зверей в зоопарке:
будто неправдашные. Жалко городские
деревья. Только в парках они вроде
приходят в себя, становятся сами собой.
Да и то люди вмешиваются, не дают им жить
по их законам и правде. А правда дерева
— самая открытая, самая щедрая и простая
изо всех живых на земле. Такая же, как и
у травы: оправдывать свое существование
самим существованием. Все, что нужно
для жизни, они создают сами, ежегодно
возобновляя то, что берут у земли, а небу
— воздуху — так еще и больше возвращают
своим дыханием и ростом. И почва, кормящая
вечно мать, не истощается, а тучнеет от
массы листьев, которые дерево возвращает
ей каждую осень.
В городских же
скверах и парках люди отнимают у деревьев
их возвратный дар земле, их завтрашний
хлеб, сгребая по осени и сжигая палый
лист.
Правда дерева — самая простая,
самая чистая и прямая... И если человек
сумеет принять ее для себя... Хоть
когда-нибудь...
А листья уже начинали
падать... Начинали... Хоть и стояла летняя
погода. Но это днем. Ночью же холодало.
К утру все вокруг покрывало ледяной
росой. Кружевные листья акаций казались
выкованными из какого-то неведомого
драгоценного металла: изумрудный цвет
просвечивал под матово-белой поверхностью.
И ковкий то был металл! Какие узоры,
какие сплетения из трав и листьев
выбивали к утру, какие усики оттягивали
искусные кузнецы легкими молотками...
Это были еще не заморозки, а просто
роса, похожая на плотный тонкий иней.
Видно, от этой ледяной росы и желтел
лист. Желтел на березе, бурел на высоких
тополях по ту сторону аллеи перед домом,
ржавел на рябинах, начинал краснеть на
молодых осинках...
Однажды после
обеда облака сгустились, нахмурилось
небо, припустил мелкий дождичек. Еще
слабый, редкий. Чуткие осины залепетали
раньше всех, жесткие их листья закрутились
резвее на гибких длинных черенках...
«Осенний вальс»,— подумал человек,
спрятав исписанные листы под кресло,
сам же остался на месте, слушая крепнущий
голос осени:
Неба истаяла синь,
Охрою зелень сводя,
Трогают листья осин
Тонкие пальцы дождя...
Потом
солнце все же вышло, выкатилось на
небесную прогалину, просияло, будто
смущаясь: что ж, мол, это я... В ответ ему
остро вспыхнула светом каждая капля на
травах и листьях, озарилось потемневшее
от влаги крыльцо, а серая шиферная крыша
вдруг поголубела. Но весь этот яркий
судорожный блеск выглядел надрывным,
осенним.
Не обтирая влажного от
дождя лица, человек смотрел, как несет
по воздушным струям лист, сорвавшийся
с березы; как он соскальзывает с одного
невидимого яруса на другой все ближе к
земле, раскачиваясь, отклоняясь далеко
то в одну сторону, то в другую... А береза
стояла не шелохнувшись. Казалось, дерево
замерло, следя за своим листом. Вот и
еще один полетел...
Это уж когда все
листья поспеют и станут ровно золотыми,
уж тогда, пожалуй, дереву будет все
равно, а, может, даже и радостно: дело
сделано, пусть летят листья! А когда
отлетают первые, одиночные, наверное,
боязно: как он там, один-то?
Да, когда
дело сделано на совесть, до конца, его
не жалко отдать другим, даже потерять
ненароком. Лишь бы сказалась в нем твоя
природа и порода — вяз ты, клен или
ясень. У деревьев это делается само
собой, вот что...
Хорошо бы уже при
жизни стать таким деревом... Превратиться
в дерево... Так подумалось тогда человеку.
Он вздохнул и положил себе на колени
свежий белый лист. Вглядываясь в
безымянную его поверхность, увидел
сквозь нее царственный гармский орех,
поднятый недаром горами Памира к самым
звездам...
Почти через десять лет
вернулись те дни и ночи, полные голосов
и звуков. Давно прожитые дни, как
сброшенные когда-то листья, возвращались,
отдавали человеку свой перебродивший
сок.
Дар дерева...
1982 г.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





