ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
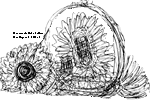


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Дюричкова Мария 1975
1
Жил-был на свете парень. Да такой бедный, даже имени у него не было. Так
говорится в одной сказке. Но только в сказке. А на самом-то деле имен на свете
сколько душе угодно.
У меня лично их хоть отбавляй. Давайте посчитаем.
В деревне одни меня зовут Майка-Люптачка, другие — Майка-Болтушка. Ну,
«Люптачка» куда ни шло, а что касается «Болтушки» — нет уж, извините!
«Болтушка» тут вообще ни при чем, потому как я, между прочим, вообще не из
болтливых! Ну конечно, поболтаешь там иной раз, если приключится что-нибудь
ужасно забавное. Ну, а вообще — нет!
Я лично знаю таких людей, которые говорят куда больше меня. К примеру,
тетя Зуза Бискупка [В чешском языке ударение, как правило, на первом
слоге.] или тетя Шаринка, мать моей подружки Янки Шариновой. Тетя Шаринка
строчит как пулемет, ни одной щелочки между словами. В этом деле ей никто не
чета.
«Ах мои милые, — говорит она, — с чего это Люптачка на меня зубы точит
или сплетни распустили я только сказала что ихняя Мадлена больно разборчива
ведь с Пачеплавецом жила бы как королева а Лацо Юштяк ей больше по душе она с
ним по воскресеньям гуляет я своими глазами видела шли под ручку а как меня
увидели так руки опустили а чего меня стыдиться я нос в чужие дела не сую».
Впрочем, нашего деда тоже не остановишь. Тут, чтобы свое слово вставить,
просто перебьешь его, и точка. Или сосед Малатинец. Тот как сядет на своего
любимого конька — кооператив, так ой-ой-ой! И как там работают, и чего там не
хватает, и как там не работают, и что там есть...
Я читала где-то шутку, что, дескать, болтают больше всего женщины. Что
касается нашей деревни, так у нас поровну, примерно 1:1. Я-то, по правде,
говорю умеренно и болтать совсем не болтаю. Поэтому с прозвищем «Болтушка» не
согласна. Стоит мне его услышать, как меня просто злость берет.
А наши болваны зовут меня еще хуже: «Утя-утя-уточка». Просто потому, что
я хожу покачиваясь. У меня от рождения что-то такое с бедром. Когда я слежу за
своей походкой, то шагаю довольно ровно, а если не слежу, так ковыляю, как
утка. И мама вечно ворчит мне вслед: «Как идешь?» Тогда я моментально грудь
выпрямляю, плечи откину назад и иду, как по веревочке. А мама снова шипит: «Ты
что будто аршин проглотила?»
Вообще, как ни ходи, а мама все равно сердится. По-моему, она просто
иногда стыдится меня.
А мальчишки дразнят: «Утя-утя-уточка». Вот как скажут такое, на весь
день настроение испорчено. А то и на два.
Так что у меня имен-прозвищ этих хоть отбавляй! Ну и что? Стала я от
этого богатой? Ха-ха, все это ерунда, как говорит наша Мадлена. Ясное дело,
ерунда! Высыплют целый ворох прозвищ на меня, а собственным именем не называют.
По-настоящему меня зовут Мария, а фамилия Немницова. И эта фамилия стоит
на всех моих тетрадях, на всех моих шести табелях успеваемости.
С этими фамилиями одна неразбериха. Например, с моей: наша фамилия
Немницовы, а называют нас Люптаковы.
Отец — Ондрей Немница, мама — Зузана Немницова, Мадлена подписывается
«Мадлена Немницова», а Марошу вообще пока фамилия не нужна — он не ходит в
школу. А пойдет в школу, то его будут звать Мартин Немница.
А вот дядя Мартин, папин брат, подписывается «Мартин Люптак-Немница». И
что же это такое?
Отец нам объяснял:
«Моего деда звали Ян Люптак-Немница. А мой отец, то есть ваш дед, звался
Ондрей Немница. И кто его знает, почему все так запуталось? Когда родился дядя
Мартин, покойный дед пошел выправить ему метрику и записал так: «У меня родился
внук Мартин Люптак-Немница». То есть записал на свою фамилию. А когда появился
на свет я, уже мой собственный отец записал так: «У меня родился второй — сын
Ондрей Немница». То есть уже дал свою фамилию.
Ну, как сказал, так и записали. Вот и получилось: два родных брата, а
фамилии разные. Чепуха, да и только. Ну ничего, зимой выкрою свободное время и
это дело улажу. Мы уже обо всем договорились с дядей Мартином, но только давно
это было. Оставим фамилию Люптак. А что? Добрая словацкая фамилия. Будто мы
родом из Липтова. Да вот все недосуг. А нынче уж слово за вами. Какая фамилия
вам больше по душе: Люптак или Немница?»
Это же просто здорово, что можно выбрать самой себе фамилию. Если бы, к
примеру, люди всегда могли выбирать себе фамилию, то ясное дело, никто бы не
звался, скажем, Трикова, как Данка, или Конечник, как один семиклассник, что
ходит к нам в школу из Гайниковой.
Кстати, что Люптак, что Немница — вполне сносные фамилии, на любой можно
остановиться.
Марош — за Немницу, ему еще невдомек, что такое Липтов. А что такое
Немница? Темница? Тоже скажет!
Мама во всем полагается на отца, а Мадлена только плечом дернула: «А мне
трын-трава».
Мадлена злится. Уже две недели злится и на всех бросается. Она
поругалась с мамой. Ужасно! И все из-за Лацо Юштяка.
И с тех пор или на всех злится, или ревет. Вот и вчера — стирает
комбинацию, а у самой слезы кап-кап в мыльную пену. Стоило мне подойти, она
сразу вытерла щеки тыльной стороной руки. Все равно мокрые дорожки остались.
«Не реви ты из-за этого Лацо, — говорю, — подумаешь, красавец писаный!»
Она так и налетела на меня как наседка, того и гляди, глаза выклюет. Я
испугалась. Ну ничего, я ей отомстила с лихвой. Говорю отцу: «А Мадлене
трын-трава, какая у нее будет фамилия. Ей лично хотелось бы носить фамилию
Юштякова».
Марош презрительно надул губы: тоже фамилия!
Зато Мадлена посмотрела на меня так печально-печально и сказала с
презрением: «Эх ты, Майка-Болтушка!» Вскинула голову, точь-в-точь как
принцесса-гордячка, и удалилась. Ох и разозлилась!.. Ладно, пусть я болтушка, а
тебе, тигра лютая, в самый раз к лицу фамилия Трукова или... или Прдускова. Вот
как!
2
Опять весь день испорчен, а все этот сопляк Марош. Вот как это было.
Мама рылась в шкафу, по-моему, искала мясорубку, а я чистила картошку на
ужин. И вдруг слышу за окном: «Внимание, внимание...» Дальше я не разобрала,
потому что мясорубка нашлась и закрутилась со скрипом.
Я знала, что «Внимание, внимание...» — это не местное радио. Репродуктор
от нас далеко, да и вообще его еле-еле слышно. Ясное дело, ребята опять что-то
натворили или цирк приехал.
Я мигом расправилась с картошкой, отшвырнула в сторону нож и выскочила
прямо с корзинкой. Будто собралась в подвал, где корзина обычно лежит. А сама
бросила ее прямо в коридоре и скорее на крыльцо. Там полным-полно детворы, в
основном мелкоты. А среди них расхаживал наш Марош и гудел в огромный бумажный
рупор.
— Слушайте, слушайте, начинаем состязание улиток!
— Ты еще добавь, что величайшее в истории, — подсказал ему какой-то
верзила, вроде Пало Мадуда.
И чего он крутится у нашего дома? Но Мароша так и распирало от гордости:
ведь ему помогал шестиклассник. И он повторил как попугай:
— Величайшее в истории!..
Он ходил, не вынимая рупора изо рта, верно, ему это ужасно нравилось, но
он не знал толком, что еще сказать. Тут подбегает к нему его дружок Йожко Брахна,
хватает рупор и запихивает себе в рот слюнявый конец.
— Внимание, внимание! — сообщалось столь же громогласно. — Вход
бесплатный!
Я чинно спускаюсь с лестницы, ступенька за ступенькой, чтобы не
слишком бросалась в глаза моя хромота и чтобы показать этой мелочи пузатой, что
их игра меня интересует не совсем-совсем. Хотя вообще-то мне было ужасно
любопытно. Подумаешь, ну и пусть я учусь в шестом классе, все равно я обожаю
всякие там рассказы и истории. Ну просто глотаю такие книжки!
— И где же состоятся эти самые состязания? — осведомилась я.
— На липе! — хором откликнулись голосов двадцать.
Наша липа еще молоденькая, ствол у нее гладкий и крона круглая, как мяч,
огромный зеленый мяч.
Не повезло бедняге: на ее стволе белело два глубоких рубца — старт и
финиш. Финиш на полметра выше. От нижней линии «мчались» вверх две улитки со
своими домиками на спине, оставляя за собой скользкие дорожки.
— Выиграет Йожкина улитка!
— Нет, Мароша!
— Моя, моя выиграет! — взвизгнул Марош. — Майка, ну скажи, чья
скорее?
— Вот эта! — показала я пальцем на улитку, которая как раз
добиралась до цели. Вторая чуть-чуть отклонилась в сторону.
Марош стал пунцовый:
— Дура ты, Болтушка: ведь это улитка Брахны! И чего это ты болеешь
за Брахну?
— Сам ты болтушка! — разозлилась я. Брякнуть такое на глазах у этой
мелюзги. Да еще в присутствии Мадуды!
Я толкнула Мароша так, что он отлетел шага на четыре в сторону и, воя,
кинулся к крыльцу.
— Мама-а, мамочка-а! А Майка дере-е-ется!
Из двери кухни выглянуло рассерженное мамино лицо: «И как тебе не
стыдно, дылда великовозрастная!» Она подняла глаза к небу — за что ее бог так
карает? — и снова исчезла за дверью. И тут же снова показалась: «Куда
запропастился нож, которым ты чистила картошку?»
Но я уже вошла в дом, сделав вид, что это меня не касается. Вечно мама
меня ругает, и при этой мелюзге да и без них. Прямо хоть плачь, но я не
заплакала. А на состязаниях все равно победителем вышел Брахна, то есть,
конечно, его улитка. Ведь она шла прямо к финишу. А у Мароша она свернула в
сторону. Ясное дело.
Марош у нас детсадовский, но в детский сад ходит без всякой охоты.
Гораздо охотнее он шныряет по саду и за околицей. Собирает улиток, красных и
зеленых червяков. Особое у него пристрастие к птичьим гнездам. Червей он
складывает в коробочку и время от времени великодушно преподносит их Даринке
Хребетовой. У нее, видите ли, «волосы, как у принцессы».
А в детсад ходить ни малейшего желания! Иной раз привяжется:
— Мамочка-а, а сегодня, случайно, не воскресенье? Мне идти в
детсад?
Глупый, не отличает воскресенье от будней. А ведь это проще простого!
Воскресенье пахнет ванилью, корицей, мясным бульоном, никто никуда не спешит,
за завтраком можно послушать воскресную сказку. Мадлена наглаживает свое
платье. Как же тут не понять? А Марош еще спрашивает.
— «Сегодня, случайно, не воскресенье»! — взрываюсь я. — Сегодня
обычный, самый обыкновенный четверг!
— А я не тебя спрашиваю, а маму, — отмахивается он от меня. —
Мама-а, разве сегодня не воскресенье?
— Четверг сегодня, деточка, только еще четверг, — отвечает мама из
комнаты.
— А нельзя так сделать, чтобы воскресенье-е-е?
Его хныканье выводит меня из терпения.
— Угадал, нельзя!
Он снова отмахивается рукой:
— Дура, дура, Майка-Болтушка!
Уж лучше улизнуть поскорее, а то опять, чего доброго, подеремся, а
влетит мне. Всегда только мне. Ведь Марош мамин любимчик. Капризуля и забияка!
И вдобавок гроза всех птиц! Вечно в кармане у него птенцы, а стоит мне сказать
отцу, как Марош сразу: «А я нашел под деревом!»
Так я и поверила, что под деревом!
3
Наш дом построен фасадом к соседям, прямо дверь в дверь, а дворы
соединенные. В соседнем доме живет дядя Мартин. В первой комнате он с тетей
Катой, а в задней — наши дед и бабушка.
Тетя Ката — сестра моей мамы: так получилось, что два брата из Горовца
женились на двух сестрах из Боровин. Поэтому я могу называть ее и «тетя Ката» и
«тетка Ката». Я зову ее «тетя». Потому как теткой я могу называть кого угодно,
не обязательно родственников. Если я, например, не знаю, как обратиться к
какой-нибудь женщине, назову ее «тетка», и делу конец. Тетка Бискупка или тетка
Грабачка.
А «тетя» — это уже что-то родное. Это значит жена дяди. А дядя-то — это
и есть папин брат. В общем, все абсолютно ясно.
Тетя Ката ухаживает в кооперативе за поросятами и, кроме того,
замечательно вышивает. Не знаю даже, что́ у нее на первом месте, по-моему, вышивание. Она умеет вышивать и
гладью, и крестом, и ришелье и сама рисунки выдумывает. Ну просто отличная
вышивальщица!
Между прочим, свинарка она тоже отличная. Стоит ей войти в хлев, как
поросята начинают верещать от радости как резаные, прямо оглохнуть можно.
В прошлом году — я еще училась тогда в пятом классе — шла я как-то раз с
тетей Катой на свиноферму, наигрывая на гармонике песенку «У Прешпорка конец
Дуная». Я эту мелодию как раз разучивала. И надо же! Поросятам эта песенка до
того пришлась по вкусу, что они даже хрюкать перестали, затихли и слушают
внимательно, будто на концерт попали.
С той поры я хожу с Катой всегда, как выдастся свободная минутка. И
всегда что-нибудь наигрываю поросятам. Чувствую, что музыка им ужасно пришлась
по душе.
Поэтому я очень люблю поросят, а поросята любят Кату, а Ката, в свою
очередь, любит меня, а я — Кату, а поросята — ее. Так оно и идет по кругу.
Уж если я прохожу мимо, она никогда в жизни не зашипит: «Не хромай!» или
«Опять аршин проглотила». Я иду себе тихо, спокойненько, как мне нравится.
Ката купила мне белые тапочки. И теперь можно выбросить сандалии,
обноски после Мадлены.
Будь я председателем кооператива, то провела бы в свинарник радио. Пусть
бы поросята слушали себе на здоровье три раза в день концерт: за завтраком, за
обедом и за ужином.
Вообще Ката совсем-совсем другая, чем моя мама. Хотя они и сестры и у
них одинаковые глаза. Серые. Впрочем, только цвет одинаковый, а глаза — нет. У
мамы они строгие, а когда она не в духе, будто синеют. А у Каты в глазах вроде
и строгости поменьше, и глаза посветлее. Будто выцвели. Печальные они какие-то.
Я знаю почему. Тетя Ката отличается от мамы и тем, что она всегда знает, где у
нее что лежит. А мама вечно что-нибудь ищет: то тренировочный костюм, то
перчатки, то то, то это. А иной раз начнет искать перчатку и наткнется,
например, на беретку, которую как раз искала вчера. Или шарф, который куда-то
запропастился позавчера. Не везет ей. Даже зуб и то ей иногда приходится
искать. Он у нее не настоящий, а ввинчен в корень, но плохо. Случается,
выпадает. Мама говорит, что приведет в порядок этот зуб, как только выкроит
свободное время. Но времени-то и не хватает, потому как работает она в полевой
бригаде, да вдобавок еще и хозяйство дома, и потом ведь ей же все время
приходится что-нибудь искать, то чулки, то кошелек...
Может быть, по этой причине наша мама вечно на кого-нибудь сердится и
кричит. Не сказать, чтобы на всех, но почти на каждого. Поэтому ее некоторые
побаиваются и лучше уж сразу идут на попятный. И отец всегда ей уступает, но
это уже совсем по другой причине. Иной раз они и поссорятся, но он всегда уступает
маме. Я-то знаю почему. Потому что он мудрее. А вот некоторые твердят, что у
нас в семье «мама ходит в брюках». Прямо со смеху умрешь! Ну и что? Оба ходят в
брюках. И мама, и папа, но один-то из них в брюках — часто злюка злюкой, а
второй — умница.
Вот так-то!
Люди, между прочим, горазды болтать языком. Уж если и говорить о чем,
так это о том, что наша мама вкусно готовит. А какие торты она умеет выпекать,
булочки с кремом и вообще все, что угодно!
Вот, к примеру, вчера наша соседка Малатинцова как раз спрашивала у мамы
рецепт майонеза. Вот видите!
Уж коли вспоминать дурное, так и о хорошем не забывай!
А у Каты нет детей. Была у нее дочка, да умерла сразу после рождения. С
тех пор на лице у Каты не увидишь улыбки, хотя чего ей вроде печалиться, если
Аничка, как утверждает наша бабушка, теперь превратилась в ангела.
А в школе нас учили, и все знают, что никакого неба не существует вообще и ангелов, конечно, тоже. Все это сказки и сплошные выдумки. Ведь только подумайте: если бы небо существовало, то и Гагарин и Валентина Терешкова добрались бы до него. А этого не случилось. Но бабушка упрямая, твердит, что небо еще выше и что на него может попасть только человек верующий, а совсем не Валентина.
4
В нашей деревне все ругают председателя кооператива и агронома. Ругают,
ругают, а ничего все равно не происходит. Зато сегодня...
Ворота во двор были открыты, потому что дед как раз отправился пасти
Кветульку. Кветулька — это наша корова. Она вечно томится в хлеву, но иногда ее
кто-нибудь выбирается попасти, у кого выпадет свободная минутка. А свободное
время обычно выпадает у деда.
И тут вдруг появляется в воротах женщина. Не знаю уж, как ее зовут,
только живет она где-то за костелом. В нашей деревне две тысячи жителей, и мне
знакома примерно одна тысяча девятьсот пятьдесят. Не знаю я только тех, которые
ни в кино не ходят, ни в театр, ни на футбол. Так вот, та самая женщина,
видимо, относилась к тем пятидесяти мне незнакомых. Войдя во двор, она
повернулась к дядиному окну и закричала:
— Ката, слышала новость? Бабы объявили забастовку!
Ката прижалась носом к зеленой сетке от мух на окне.
— Да что вы говорите? А где?
— На Люпатине, на прополке свеклы. Им там увеличили норму на два
акра, так они объявили забастовку.
— А что председатель? Знает уже?
— Да позвонили ему по телефону. Знаешь, что он ответил? Пусть, мол,
отдохнут малость! Ведь надо же такое сказать!
— Ах, мерзавец! — разозлилась Ката. Вот уж на нее непохоже. — Он их
еще на смех поднимает!
Я сказала себе, что мне просто необходимо видеть, как это устраивают забастовку.
И я отправилась на Люпатину.
А бастовать-то, оказывается, проще простого. Просто расселись женщины у
придорожной канавы и сидят. Они сидят, а работа стоит.
Тетка Грабачка углядела меня первая. И, даже не полюбопытствовав, что я
тут делаю и куда направляюсь, закричала так, что ее было слышно за километр:
— Учись, учись уму-разуму, Майка, чтобы не пришлось потом
вколачивать, как нам, за десять крон в день!
Она прямо вся кипела.
— Да еще с них срезают. — Это уж подпевала ей соседка Малатинцова.
Потом тетка Грабачка встала и, вся багровая от злости, закричала:
— Ну, мои милые, мне недосуг тут с вами прохлаждаться, у меня дома
работы по горло!
Вслед за ней поплелись и другие женщины, потянулись, как черная стая.
Все горовские женщины, неизвестно почему, ходят в черном. Черные юбки, черные
сарафаны, черные платки. Будто всю жизнь траур носят.
Бредут они грустно по полю, а навстречу им отец Зузки Ломаниковой. Он у
них бригадир.
— И куда это вы собрались, голубушки?
Окружив его, женщины стали наперебой рассказывать.
А он в ответ:
— Возвращайтесь-ка вы лучше назад. Трудитесь себе спокойно.
Слыханное ли дело — увеличивать норму!.. Нет-нет, я сам потолкую обо всем с
председателем.
И женщины вернулись к своей свекле.
Орудуя мотыгами в длинном черном ряду, они твердили одно и то же: что
сельскому человеку, мол, никогда добра не видать. Вот, скажем, на Чрхли
прибавка пятнадцать крон и премии каждый год, а в этом паршивом Горовце, мол,
уж два года пустым-пусто. И что этому черту — председателю — не мешало бы самому
поработать в свинарнике.
В общем, я отправилась домой. Наша Люпатина вся засеяна свеклой и выглядит довольно грустно, потому что давно уже не было дождей. Люблю я бродить по люпатинской дороге, она такая белая и мягкая от пыли, только посередке тянется зеленый поясок травы. Сперва я думала, что интереснее будет шагать по этому зеленому пояску. Оказалось, нет. Он был такой пыльный, пыль прямо столбом вилась. Уж лучше идти по широкой колее, там, по крайней мере, в пыли так здорово отпечатываются следы от тапочек. А там, где дорога идет вниз, стоит дуб. Большущий, с широкой кроной. Стоит один как перст. Ну не совсем как перст: ведь пальцев всегда бывает пять — один рядом с другим. А этот и в самом деле один-одинешенек. Стоит себе как путник одинокий, от головы до пят в пыли, и бормочет что-то под нос. Постояла я, постояла, да так ничего и не разобрала. Вообще-то все эти разговоры о кооперативе меня пока как-то мало волнуют: всё нормы да трудодни, премии да прибавки, натурой, деньгами... Взрослые способны говорить на эту тему хоть до ночи, а я пока нет.
5
Все наши трудятся в кооперативе, кроме Мадлены да еще бабушки. Мадлена
выучилась на медсестру и работает в поликлинике. А бабушка хворает. У нее, в
общей сложности, болезни четыре или даже больше. Поэтому я хожу ей помогать
каждую субботу. Комнату приберу, волосы расчешу.
У бабушки волосы белые-белые, ну точь-в-точь как у трехсотлетней
королевы из сказки «Матей — великий король и Улиана — великая королева». Она
заплетает их в тоненькую косицу, потом делает из нее пучок. Вернее, делаю я,
потому что бабушка не в силах поднять правую руку. Она шутит, будто я и есть ее
правая рука.
А в воскресенье я помогаю ей собраться в ее костел. Бабушка считает, что
без костела ей и воскресенье не воскресенье. И что ж, приходится помогать ей
одеваться, потому что она не может пошевелить этой самой правой рукой.
До меня в комнате деда и бабушки убиралась Мадлена, но потом
взбунтовалась: мол, дед бросает все на пол и это не гигиенично...
А дед отшучивался:
— Ох-ох, девонька моя, чего уж мне, деревенщине, стыдиться, но уж и
ты не кидайся...
Но Мадлена перебила его:
— А чего тут стыдиться, что мы люди деревенские! Нечего сваливать
всякие пакости на деревню. Вот некоторые ребята и в городе плюют и бросают все
где попало, прямо на улицах.
— Вот видишь, а ты их нешто срамишь?..
Но Мадлена не переваривает, когда от нее хотят отделаться шуткой. Она и
отрезала:
— Нечего сваливать на некультурность! Вы только послушайте
как-нибудь, как вы иногда едите, будто конь солому жует.
Дед бухнул кулаком по столу:
— Ах ты дрянь такая...
Мадлена отскочила в сторону, и я шмыгнула за ней, потому что у деда рука
тяжелая.
Мы бежали по двору, а вслед нам несся крик:
— Вот выучишь детей на свою голову, и они уже стыдятся вас. Они еще
меня будут учить, как есть! Видите ли, чавкаю, как лошадь!..
Так он ругался без передышки целых полчаса. По-моему, он до сих пор не
простил Мадлену. А убирать к старикам послали меня. Но мне и самой нравится,
там и дел-то пустяки.
И вот я уже управилась. Быстрее всего идет дело, когда я представляю
себе, будто участвую в соревнованиях.
«Уважаемые слушатели, только что начались интереснейшие состязания: кто
быстрее и лучше уберет комнату.
В состязаниях принимают участие трое, все — ученицы шестого класса. Это
Мария Немницова, Янка Шаринова, Мария Бобалева. Все трое взяли старт одинаково:
свернули ковер. Вот одна из них выбивает уже пыль. Это Немницова. Остальные две
решили задачу иначе: сначала они моют окно. Но ведь потом, когда они будут
выбивать ковер, пыль все равно осядет на окнах. На наш взгляд, Немницова
приняла более продуманное решение, она работала не только руками, но и
головой... А руки у нее золотые! Любо-дорого посмотреть: так и мелькают, жаль,
что у нас нет сегодня, уважаемые слушатели, телекамеры, чтобы вы могли увидеть
все своими глазами.
Итак, Немницова уже заканчивает уборку комнаты. Темпы, темпы, Майка! Вот
она раскладывает ковер на чистый пол... Ее соперницы явно остались позади,
особенно Бобалева.
Ура! Финиш! Немницова закончила первой, Шаринова — второй!
Поздравляем от всей души!»
Бабушка потом обязательно сунет мне в руку две-три кроны. А ведь я
убираюсь у нее просто так, потому что люблю бабушку. Мне с ней хорошо, как
будто бы греешься на солнышке.
И всегда, когда у меня именины, 12 сентября, или рождение, 6 февраля, я
обязательно получаю от бабушки подарок: скатерть, или полотенце, или что еще...
на приданое. У меня уже полшкафа этого приданого, а у Мадлены так и вовсе целый
шкаф.
Все это ерунда! Мне лично по душе больше велосипед. У Янки Шариновой
есть велосипед, у Маруши Бобальки — тоже, а мне не разрешают: «Такие подарки! Слыханное
ли дело?» А бабушка все слышит. «Бери-бери, моя милая, ведь я тут последняя
спица в колеснице!» Бабушка очень пугается, когда кричат, поэтому и уступает
каждому — и деду, и моей маме.
У нас дом самый обычный. А вот у деда с бабушкой!.. Там полным-полно
всяких старинных изречений, написанных на картинах и даже на салфеточках. Но
самое занятное в бабушкиной комнате — это пожелтевшая в плетеной рамочке
фотография. Она висит за дверями возле кармашка для щеток и выглядит совсем
заброшенной. На фотографии девочка в старинном костюме. Прямо совсем как
взрослая, а ведь ей всего-навсего 12 лет. Это моя бабушка. Когда бабушке было
двенадцать лет, ее звали Марка Цопкова. Очень симпатичная фамилия. Марка
Цопкова носила длинный сарафан с лямками и кофту с такими большими, пышными
белыми рукавами, что хватило бы на целую юбку для меня. Я сказала как-то раз об
этом. Бабушка кивнула головой:
— Ведь моя покойная матушка — пусть ей земля будет пухом — покупала-то
на рукава в два захода. Сперва на один рукав, а уж после, как подкопила пару
лишних крейцеров, — на другой.
Жаль, что бабушке сейчас не двенадцать лет. Мы бы дружили все вместе:
Марка Цопкова, Янка Шаринова и я. Вот было бы здорово!
Хотя мы и так дружим с бабушкой. Я ей помогаю, и она мне чего только не
рассказывает! Больше всего я люблю рассказ о горовской колдунье, которая якобы
в самом деле существовала. А начинает она всегда одними и теми же словами:
— Помню в детстве жила в нашей деревне одна женщина. По имени Лиза
Нандорых. Вот она-то и была колдунья. Знала я ее сама, а как же! И боялась пуще
огня. На кого, бывало, затаит злобу Лиза Нандорых, тому худо придется. Поэтому
все ее и боялись пуще огня. А тут ненароком у соседки дочка захворала. Что ни
ночь — как уснет, так все и вздыхает, все стонет, ну будто камень на сердце.
Чахнет девонька, сохнет что твой цветочек на солнцепеке, и никто ей ничем
помочь не может. А напоследок, когда ей уже совсем худо стало, отправилась ее
матушка к знахарю, что жил недалеко от села.
Явился, значит, тот знахарь и приказал поставить на ночь под горшок
свечку горящую. Как девонька та заохала, застонала во сне, так горшок-то
приподняли, и сразу в комнате стало светлее. Глядят, в комнате-то пусто!
«Ищите, ищите, — твердит свое знахарь, — тут дело нечисто».
Искали, искали — и верно: нашли в углу сапожную иглу.
«Ну, а теперь проденьте в нее дратву и обвяжите вокруг ножки стола», —
приказал тот самый знахарь.
Так и поступили. Утром-то рассвело, смотрят — а к столу привязана Лиза
Нандорых, а дратва у нее сквозь уши протянута.
Нет, все-таки, по-моему, в старину было все куда интереснее, чем сейчас.
Не знаю почему, но так мне кажется, и все тут. Когда рассказывают о старине,
даже слова-то подбирают какие-то особенные, непривычные. Вот поэтому мне и
нравится слушать бабушку, ведь она человек, ну как бы сказать, старинный, и
все, что она рассказывает, ужасно интересно. И вообще, о чем бы она ни говорила
— все интересно!
Вот, например, вчера ока разговаривала с Катой. Ката занималась своим
вышиванием, и бабушка пришла к ней поболтать. Она часто ходит к Кате. Сидят они
за столом и беседуют, а мне все было слышно на кухне. Нет, я вовсе не
подслушивала в замочную скважину, не к чему. Просто я притаилась, как мышка, у
дверей, а дверь была полуоткрыта.
— Ой, матушка, что мне приснилось во сне! — говорит Ката.
Слышу я: шу-шу-шу... Это Ката протягивает шелковинку. Правой рукой
вверх, левой — вниз. Вышивает подушку Илоне Червеначке.
— А что привиделось? — спрашивает бабушка.
Она большой знаток по части разгадки снов. Соседка Малатинцова вечно
просит ее разгадать сны. И я далее научилась кое-чему: мутная вода, дескать,
непременно к болезни. Зуб выпал — значит, умрет кто-нибудь. Если с болью выпал,
умрет кто-нибудь близкий, без боли — кто-нибудь чужой. А бабушка наша, как
послушаешь, умеет разгадывать все-все.
— Ну, что тебе привиделось? — спрашивает она.
— Видела я во сне мою Аничку. Всю в капельках пота.
— А те капельки, милая моя, — принялась толковать сон бабушка, —
это все слезы твои. Сколько раз я тебе твердила: хватит лить слезы. Бог дал —
бог взял. Он знает, что делает.
Минуту стояла тишина, только слышно было, как шелестят шелковые стежки.
А потом Ката сказала так, что я едва разобрала:
— Ведь если бы я могла верить... Ну что доброго в том, что умрет
ребенок... мое одно-единственное дитя... — Голос ее дрогнул.
Бабушка рассердилась:
— Не гневи бога, Ката! Да откуда тебе знать наперед, скольких мук
ей довелось не изведать?
— Это верно, откуда знать?.. — откликнулась Ката. — Да неужто вы
никогда не роптали? Ну признайтесь, никогда... не роптали?
Наступила тишина. То ли бабушка задумалась, то ли вообще не хотела
ответить. И будто все кругом притаилось от любопытства, затихло даже шуршание
шелковых стежек.
— Откроюсь я тебе, моя милая, в чем не признавалась никому... —
отозвалась в конце концов бабушка. И голос ее звучал как-то странно-странно. — И
меня судьба не обошла. Муженек был вспыльчив, горяч. Сама знаешь, сейчас-то он
угомонился, а как был помоложе, так не приведи господь! Бывало, как хватит
лишку, так и с ног собьет. Однажды швырнул в меня лопатой, так руку и
покалечил. Загубил руку. Вот в ту пору я и возроптала на господа бога, видно,
дьявол меня в искушение ввел: чуть умом не тронулась. Руки на себя наложить
хотела... и веревку уже на чердаке припасла. Да потом переборола себя, сказала:
«Да нешто я могу детей своих таким позором покрыть? Чтобы потом на них пальцем
тыкали: вон, мол, те, чья мать повесилась! Не искушай меня, сатана». Вот так я
и пересилила себя. Не взяла греха на душу...
Так я, совершенно случайно, открыла бабушкину тайну и сама в толк не
возьму, довольна или нет. В общем-то, довольна: ведь все это так интересно! А
не рада потому, что бабушка определенно рассердилась бы, если узнала, что мне
известно, как она собралась сделать «то самое» на чердаке.
Я на цыпочках выскользнула из кухни. А на сердце все неспокойно. Как
хорошо, что бабушка не сделала «то самое», а то я боялась бы подниматься на наш
чердак. Даже возле чердака было бы страшно, как возле сарая Девиновых, где повесился
дядя Девина. Как там идем, так всегда крадемся тихо-тихо, на цыпочках, чтобы не
было вообще слышно шагов. А как подойдем к сараю, так припустимся во весь дух!
А кто сзади, тот визжит: «Ой-ой-ой!» Нам кажется, что его уже кто-то схватил за
штаны, и мы летим как сумасшедшие вперед. По дороге в школу сколько раз Йожо
Клокан предлагал: «Идемте мимо сарая Девиновых!» Ну мы и идем, это небольшой
крюк.
А наша бабушка «это» не сделала потому, говорит, что она верующая. Знает
назубок этот свой закон божий и Евангелие. Даже меня пыталась учить каким-то
молитвам. Ну, это вроде стихов, я их слышу, когда иногда случайно забредаю в
костел.
Только в костеле этом такая скукотища!.. Всё поют да поют... Тягуче да
нудно. А потом пан ксендз Ковач поднимается на трибуну, ну то есть на амвон, и
начинает свою проповедь. Тоже ужасно скучно. Гораздо интереснее, когда он поет
свои псалмы: у пана Ковача такой красивый голос! Ну прямо как у Карела Готта [Карел Готт —
популярный эстрадный певец.]. А пани Ковачова хорошо играет на органе. Но
только тоже медленно так, протяжно. И вообще все эти псалмы поются на одну и ту
же мелодию: та-а-а, та-та-а... И почему так?
Разве сравнишь с телевизором, который я смотрю у тети Каты. Иногда
показывают и довольно забавную сказку: «Три поросенка» или «Соль дороже
золота».
Да, все-таки это ужасно скучно быть верующей...
А тайну бабушки я никому-никому не открою. Бабушка может на меня
положиться.
6
Когда мы после большой перемены возвращались в класс, мне уже в двери
бросилась в глаза странная палочка. Она лежала в углублении для ручки на моей
парте. Я прекрасно знала, что это означает. И рванулась к своей парте, чтобы
схватить ее первой. Но кто-то возился у окна — то ли открывал, то ли закрывал —
не знаю, потому что в это самое мгновение моя палочка вспыхнула, как
раскаленный уголек. И все сразу ее заметили.
Первым ринулся к ней Йожо Клокан; прыгнув, как настоящий индеец, он
подскочил к моей парте.
— Отдай! — завопила я еще издали, но он, захохотав как сумасшедший,
швырнул палочку Маруше Бобалевой, которую я буквально не перевариваю.
У нее глаза, как у саламандры. Маруша вообще, знаете, такая: наш пострел
везде поспел. Всегда впереди всех, даже в отряде опередила Зузку Ломаникову.
Взять, к примеру, ее имя. Мария — как у меня. Так нет! Она и тут меня
обскакала, присвоив раньше меня имя Марушка. Это из сказки о двенадцати
месяцах. Из такой чудесной сказки! А всем хоть бы хны! «Марушка, иди сюда,
Марушка, иди туда!» Прямо противно!
— Марушка, лови! — визжал Клокан.
Схватив палочку правой рукой, она с издевкой покосилась на меня, потом
завертела головой направо, налево: кому бы бросить? А потом крикнула:
— Зузка!
Зузка — это Зузка Ломаникова, ее теперешняя подружка. Зузка сияла, как
медный таз, и, притворившись, что меня не слышит, швырнула палочку Пале Мадуде.
— Предательница!
Мадуда схватил палочку обеими руками, повернулся спиной и запихнул себе
что-то в рот, блаженно поглаживая живот. Ну и подавись, подумала я. Я взглянула
на Янку Шаринову. Мы улыбнулись друг дружке. Мы дружим с ней еще с третьего класса.
До этого я дружила с Зузкой Ломаниковой. Мы ходили вместе за
подснежниками, за ландышами, а иногда в воскресенье добирались и до Края света.
Край света — это далеко-далеко, надо взбираться на холм. Идешь-идешь,
поднимаешься вверх, а земля вроде становится все меньше и меньше. И вот уже
один только горизонт остался. Еще несколько шагов — и кажется, прямо на облако
попадешь.
— Какое ты выберешь?
— Вот это, будто дерево.
— А я вон то, похожее на крокодила, — сказала Янка Шаринова. Она
вообще обожает все заграничное.
— А я выбираю то, похожее на облако, — сказала я. — Вот встану на
него и поплыву в тридевятое царство.
«Нет уж лучше сяду, — подумала я тут же про себя, — потому что на Краю
света ноги у меня особенно болят. Только все равно мне нравится ходить на Край
света. Потому что если пройти еще немного дальше, появляется небольшая долинка.
Она обязательно появится и чем-нибудь поразит. То она зеленая, то желтая с
красными прожилками. А в другой раз белая-белая, словно застеленная постель. И
в ней приютилась деревенька с красными и белыми крышами — Боровины. Издали
Боровины — деревня довольно симпатичная, а вблизи гораздо хуже. Когда я туда
прихожу к своей боровинской бабушке, так вся деревня на меня глаза пялит, будто
в жизни не видела девчонок.
Ах, как мне снова хочется пойти на Край света, но с кем? Зузку Ломаникову
переманила Маруша Бобалька. Мне, конечно, капельку ее жаль, но вообще-то не
особенно. Переманить можно только того, кто сам поддается, правда? Вот с Яной
мы навеки закадычные подруги, жаль, наши мамы поссорились! Моя все говорит:
«Если увижу еще раз тебя с Шариновой — уши надеру! Ты что, не знаешь, какие
сплетни она болтает о нашей Мадлене? И как только у нее язык не отсохнет!»
«Да Янка же вовсе не такая!» — протестую я, но, конечно, про себя. У
меня просто не хватает смелости, как у Мадлены.
«Найди себе подружку!» — советует мама.
Будто это такое простое дело — найти себе подругу. Мне лично уже никогда
не найти себе другой, и Янке — тоже.
И мы продолжаем дружить. Тайно!
Об этом не знает никто на свете! Мы переписываемся, а письма прячем под
плоский камень за сараем Шебенских.
Сарай у Шебенских деревянный, поросший мохом, весь скособочился. Его
давно бы разобрали, не владей им старый Шебенский.
Вот там-то как раз и находится наш тайник, скрытый в бурьяне. Сегодня
там обязательно будет письмо от Янки: об этом сообщала та маленькая палочка.
Жаль, ее содержимое (может, конфетка?) слопал Мадуда, который больше всех
издевается надо мной. Как завопит: «Утя-утя-утя!..» Ну, все хохочут. Все они,
дураки, хохочут — кроме Душана Ковача. Тот никогда надо мной не смеется. Может,
потому, что я частенько к ним захожу в гости. Правда, не только у меня, но и у
других ребят тоже есть прозвища. Например, Клопана мы зовем «Кенгуру». Иногда
он разозлится, набросится на нас и дубасит по спине. Но вообще-то просто так,
для порядка. По-моему, Клопану даже по душе его прозвище. Лично я свои прозвища
ненавижу! И «Болтушку», и «Утю-утю». Услышу их, и будто сразу кольнет что-то,
будто иголка вонзилась в грудь.
Но только я виду не подаю. Будто мне хоть бы хны! Когда человек делает
вид, что ему все равно, это сразу отбивает всякий интерес. Я уже проверила. Так
и я делаю вид, что мне наплевать, и стараюсь думать о чем-нибудь приятном, ну
хоть бы о тайнике за сараем Шебенских.
Майка, привет!
Теперь я знаю,
почему Зузка Ломаникова не пришла тогда на мой день рождения. Она отправилась
на футбол с Марушей и с мальчишками, с одним из седьмого и с Пале Мадудой.
Хорошо хоть, что я вернула ей букетик. Пусть себе хранит на здоровье, если ей
эти мальчишки дороже, правда? Зузка — предательница, правда?
А Маруша уже
ходит с другим мальчишкой из седьмого. Его зовут Пале Балух. Он уже два раза
позвал ее в кафе-автомат и купил конфеты. Зуза Ситарка видела собственными
глазами! Наш Богушка просто прелесть. Он меня зовет Ана.
Передает тебе привет твоя верная подружка Яна. Посылаю тебе «олимпиаду», наверное, у тебя ее еще нет.
В нашем классе все что-нибудь собирают: фотографии киноактеров, скажем,
или марки. Маруша Бобалька собирает фотографии певцов и заграничные открытки с
видами городов.
А мы с Янкой собираем бумажные салфетки. У меня уже 65, а у Янки — 84. У
нее есть даже две американские. За «олимпиаду» я дам Янке «космос» или
«Маленького Мука».
За американскую я готова отдать целых пять штук, но только никто не
обменяет.
Такая салфетка считается вещью ценной. Яне иной раз принесет салфетку
отец, он у нее железнодорожник и много ездит. Конечно, ей легче собирать, чем
мне.
И вообще Янке живется лучше моего: по крайней мере, ей не дают
подзатыльников.
7
Встречаясь, горовчане всегда спрашивают друг друга: «Где вы были? Куда
идете? Что купили?» В общем, что-то в этом роде. Только не в пятницу. В пятницу
они задают один вопрос: «Пиво уже есть?» Потому что в пятницу в Горовец
привозят пиво.
Днем я собираю бутылки у нас и у бабушки с дедушкой и отправляюсь в
магазин с мамой, но чаще с отцом. Мне вообще нравится ходить с отцом, потому
что он заходит по дороге в такие места, где я обычно не бываю: в кооператив или
на собрания МНК [Местный национальный комитет]. Поэтому я и люблю ходить вместе
с ним. Пусть даже за пивом. Мы шагаем рядом, болтаем о всякой всячине, и он
вообще меня не стыдится — это же совершенно ясно. По-моему, он меня даже очень
любит, хотя я и хромаю.
Мы идем по краю асфальта, киваем то одному, то другому и спрашиваем: «Вы
уже ходили за пивом?»
В магазине и перед входом, конечно, полно людей. Многие не виделись с
прошлого пива — то есть с прошлой пятницы. Теперь делятся новостями: «Вот
так-то, моя милая, а ты и не знала?»
Вчера, возвращаясь из магазина, мы встретили пана Ковача с женой.
— Добрый день, — поздоровались мы.
И отец добавил:
— С прогулки?
— Добрый день, пан Люптак, — отозвался своим приятным, как у Карела
Готта, голосом пан Ковач.
Жаль, что такой приятный голос не перешел по наследству его сыну Душану
Ковачу. У него-то голос самый обыкновенный.
— Не Люптак, а Немница, — засмеялась Ковачова.
И мы с отцом засмеялись — от этой неразберихи с нашей фамилией и впрямь
умрешь от смеха. Потом отец сказал:
— До сих пор, пожалуй, Немница, но ведь это не так уж важно.
Мы подошли к саду Балюхов и прислонили сумки с пивом к их забору.
— Верно, — отозвался пан Ковач, — не имя красит человека, а человек
— имя.
Ну нет, с этим я не согласна. Как, к примеру, бедняжка Данка Трукова
украсит свою фамилию? Да пусть она напишет ее золотом и подмалюет хоть бантики
и цветочки, все равно Трукова есть Трукова. Но я ни гугу, мне ведь не хватает
столько смелости, как нашей Мадлене.
Тут разговор перешел уже на другое, и я насторожилась, хотя уже сто раз
слышала о грибах-плесени, которые завелись в доме Ковача. Но я все равно
насторожилась, потому что все это очень интересно.
— Эти грибы мне спать спокойно не дают, — завела пани Ковачова. —
Только подумайте, пан Немница, открываю я вчера ящик для дров, а там полным-полно
грибов. А мой Душан спрашивает: «Мама, а вдруг наш дом обрушится и нас
завалит?»
Я прыснула и прижала ладонь к губам.
А отец отозвался:
— Да нет, не думаю!
— Все в руках божьих, пан Немница. В божьих и в руках МНК, — сказал
пан Ковач. На лице его было смиренное и насмешливое выражение. — Видите ли,
местная комиссия по здравоохранению вынесла резолюцию, что дом священника
совершенно непригоден для жилья, а в разрешении на постройку нового дома нам
уже трижды отказывали.
Отец сказал в ответ:
— Поверьте, пан Ковач, мы старались поддержать вашу просьбу, но ее
все-таки не утвердили. Да еще в газете пропечатали, сами знаете. У некоторых,
мол, горовчан нет других забот, как, в общем-то, вместо неплохого дома
священника построить еще лучший.
— Ну что делать! Господь бог всякие искушения посылает своей пастве.
Так до свидания, пан Немница, — протянул нам руку пан Ковач.
— Заходите к нам, — пригласила пани Ковачова, — и с Майкой. А то вы
давно к нам не заглядывали.
С удовольствием! Лично я очень люблю ходить к ним в гости. И мы в тот же
день пошли вместе с отцом, как всегда, через заднюю дверь, чтобы никто не
заметил. Раньше я думала, что ходить в гости к священнику потому интересно, что
мы ходим туда тайком. Но сегодня меня вдруг осенило: нет, тут что-то другое. А
другое вот что: ведь Душан Ковач живет в постоянной опасности среди этих самых
грибов. И кто бы мог вообразить, что им угрожает такая опасность!
Когда мы вошли в дом, я незаметно оглянулась: где они, эти грибы? Нет,
кажется, все в порядке: стены, мебель, гардины, далее ковер — все цело.
Странно.
Пани Ковачова послала меня за Душаном в сад. Не иначе, как собираются
поговорить с отцом о чем-то таком, что не для наших ребячьих ушей. Вот меня и
услали. А я только рада.
Мне хорошо знаком уголок Душана в саду, туда ведет дорожка среди кустов
смородины. Кусты еще зеленые, маленькие, но ягоды на них уже крупные. Я шла не
спеша, чтобы продлить эту радость — брести сквозь смородину. И тут услышала,
как под грушей кто-то произнес: «...мой краснокожий брат, Сидящий Бык...» Мои
щеки вспыхнули. Вот всегда так, стоит мне услышать этот голос, как щеки мои
вспыхивают. И почему так? Этот голос Мира Парилы, друга Душана. Миро Парила
учится уже в шестом классе, и нам приходится с какой-то стороны родней. И с
чего бы вроде краснеть...
Я подождала, пока краска не схлынула с лица, и вышла из смородины. Они
сидели там под грушевым деревом. Душан, Миро и Йожо Клокан. Сидели и курили из
трубки, украшенной разноцветной бахромой. На голове у них красовались шлемы с
гусиными и петушиными перьями. На окованных поясах болтались кольты, а у Миро
вдобавок висел и кинжал в ножнах с бахромой.
Интересное зрелище, ничего не скажешь. Но едва я вступила на запретную
зону, как лица у них стали безразличными. Потом без единого словечка они
встали, сняли свои перья, отстегнули пояса — и всему был конец. Ах-ах,
подумаешь, какие ужасные тайны! Все равно мне известно, что они выдумали племя
апачей. Давно уже известно. Однажды, когда Душан был один, я спросила, кто у
них вождь. Хотя почти была уверена, что наверняка это Миро; он самый старший и
самый сильный, но я все-таки спросила.
Выяснилось, что вождя у них пока нет. Стража для клада уже есть, а вот
вождя нет. Они ждут, пока кто-нибудь из них себя проявит, совершит какой-нибудь
выдающийся поступок. Определенно это будет Миро. Он уже и ходит с геройским
видом.
— Ну, а какой поступок? — допытывалась я.
Но Душан больше ничего не сказал. Тоже мне тайны! Даже слепому
видно, что у них голова битком забита этими индейцами. Читают только про
индейцев, распевают всякие там «Как ветер мчался серый конь...», сидят
по-индейски, даже походка как у индейцев. Ведь индейцы ходят так: тридцать
шагов, тридцать прыжков, тридцать шагов, тридцать прыжков. А Миро, говорят, так
ходит даже в школу. Душан и Йожо тоже последовали бы его примеру, но только до
школы им пара шагов и не очень-то пройдешься этим индейским шагом. Ну, а Миро
живет далеко, на самом конце деревни, ему в самый раз ходить в школу, как
индейцы. Он будто бы добирается туда за три минуты. И будто с тех пор, как он
ходит своим «индейским шагом», он никогда не опаздывает в школу.
Мне ужасно хотелось бы видеть, как это он идет тридцать шагов, тридцать
подскоков, но все еще никак не удавалось. Я даже знаю, что они придумали себе
индейские имена: «Сидящий Бык», «Красный томагавк» и «Сломанный нож». По-моему,
«Сломанный нож» — это Миро, потому что он из них самый сильный и наверняка
способен переломить нож пополам. Ужасно мне хотелось бы знать, кто из них кто,
но они нарочно делают из всего тайну.
Вот и сейчас. Они без лишних слов встали и сняли пояса и перья. Душан
принес карты, и мы принялись играть в дурачка. Миро мне всегда подмигивал,
когда надо давать в масть. И дело шло на лад, мы выиграли четыре раза подряд.
Глаза у Миро так красиво блестели, они у него черные-черные, и не только
зрачки, но даже вокруг зрачков. Когда он на меня смотрит, так я в его глазах
отражаюсь, словно в черном зеркале. Всю себя вижу — и челку, и нос, и карты в
руках. Только там я маленькая-маленькая, точно Дюймовочка. Страшно забавно.
— Чего ты бьешь, ведь это наши! — вырвалось у Миро, и он нахмурил брови.
Я сама разозлилась на себя за «дурацкий ход». И Дюймовочка разозлилась,
я видела, как она сморщила нос. Нечего мне на него столько смотреть, а то еще
он, чего доброго, подумает, что я не умею играть.
Но он так не думает, потому что после игры он сказал:
— Поздравляю тебя, Майка, сегодня наша взяла.
— И я тебя поздравляю, — ответила я.
Мне страшно приятно, что я выиграла именно с Миро. Жаль только, что
потом мы перешли в комнату Душана смотреть его минералы. Это такие камни. Они
все трое собирают эти минералы: гранит и... всякую другую ерунду.
И я отправилась с ними, но только остановилась на пороге и смотрела, с
каким важным видом они перебирают ма-гне-зит! Ах-ах! В комнату я не вошла,
потому что на дверях Душана надпись:
«В эту комнату
вход разрешен
только отцу,
маме, Миро и Йожо.
Душан Ковач,
доцент геологических наук.
Посторонним
вход воспрещен.
Вход
разрешается только:
ПАВЛУ КОВАЧУ,
ЭЛЕОНОРЕ
КОВАЧОВОЙ,
МИРОСЛАВУ
ПАРИЛУ,
ЙОЗЕФУ КЛОКАНУ».
Как жаль, что меня нет среди тех, которым разрешен вход в комнату
Душана! Хотя Душан меня пригласил в комнату, когда не было ребят, и показывал
мне коробки, полные всяких камней. Только меня больше, чем камни,
заинтересовала черная коробка с золотой резьбой наверху.
— Это и есть индейский клад? — спросила я.
Он кивнул головой, но коробку не открыл. Что за клад может там
храниться? Ужасно интересно!
Может, Душан покажет мне этот индейский клад? Ведь пригласил же он меня
зайти в свою комнату, хотя туда «Посторонним вход воспрещен»! Значит, я-то не
посторонняя? А может, он позовет меня когда-нибудь в кафе-автомат и подарит
марки. А если какой-нибудь мальчишка приглашает девчонку в автомат, то, ясное
дело, она ему нравится. Но только пусть в автомат меня позовет кое-кто другой.
Лучше кое-кто другой!
Хорошо Душану, хотя у них и грибы в доме. Ничего ему не надо убирать за
старшими, никогда его не ругают из-за забияки вроде нашего Мароша.
Но однажды пани Ковачова сказала моей маме: «Мне не хотелось бы, чтобы
Душан был единственным ребенком в семье. Это ведь плохо и для нас и для него».
Не понимаю, а что тут плохого? Наоборот, очень даже хорошо!
Но тут мама заметила, что я прислушиваюсь, и показала пальцем в мою
сторону: «А у этой уже ушки на макушке».
И пани Ковачова сразу переменила тему разговора на какую-то менее
интересную.
Странно вообще получается с этими детьми: кто их хочет, у того только
один, как у пани Ковачовой, или вообще ни одного, как у Каты. У других,
смотришь, целая орава, штук по шесть, как, скажем, у Юштаковцов или Шмалевцов.
Или у Крначовцов — целых пять душ.
Мне бы хотелось иметь трех, или, нет, лучше двух. Мирко и Майку. И уж я
бы постаралась воспитать их так, что им не пришлось донашивать обноски после
другого. И взбучку получал не тот, кто старше, а тот, кто виноват.
Привет, Янка!
День начинается
с утра, книга — с предисловия, а я начинаю с сердечного привета. Привет!
Я в самом деле
не знаю, с какой это стати мне бегать за Зузой Ломаничковой. По-моему, она
ужасная неряха. Видела бы ты их шкаф! Там такой кавардак, словно валяется сено,
а не хранится одежда! И постель заправлена кое-как, и она еще в придачу прыгает
по ней с ногами!
Пусть бы меня пригласил в кафе знаешь кто? Только ты меня не выдавай! Это моя самая величайшая тайна на свете. Посылает тебе привет твоя верная подруга. Знаешь, а я придумала еще буквы для нашего тайного алфавита.
8
Вчера Мадлена снова поругалась с мамой из-за Лацо Юштяка. Она плакала,
топала ногами и кричала: «Нет, нет, не отступлюсь!» А мама в ответ: «Что же
такое получается, значит, нынче родительское слово и веса не имеет?» И так
рассердилась, что опять свой зуб потеряла. А без этого зуба мама такая чудная,
у нее впереди во рту такая маленькая дырочка. Вообще-то большая. Потом мы этот
злосчастный зуб отыскали под швейной машинкой.
А когда отец вернулся вечером из кооператива, мама позвала его в хлев,
где доила Кветулю. Дверь заперла, и я так ничего и не услышала.
После ужина отец отправился на собрание и долго не возвращался. Мы уже
спать легли, а его все нет и нет. Я заснула, а потом вдруг проснулась. Не знаю,
что меня разбудило.
И вот открыла глаза и хотела повернуться на другой бок, но застыла,
уставившись на стену перед собой. Я сплю на диване. С маминой стороны горел
свет, ночничок. Там, где спал отец, на стене появилась огромная тень, тень
снимала рубаху.
— Ну, что ты ему сказал? — спросила мама.
Тень натянула пижаму и ответила папиным голосом:
— Ты, разбойник, выбрось из головы нашу Мадлену, говорю я ему, не
видать тебе нашего согласия.
Отец шептал как-то очень смешно: одно слово — басом, другое — тонким
голосом. Я чуть не прыснула со смеху. Но сдержалась, потому что знала, что речь
идет о Лацо Юштяке, а меня это очень интересовало.
— А он что в ответ? — отозвалась мама.
— Сперва застыл как столб, а потом говорит: «Коли так, насильно
навязываться не буду».
Тень подняла гигантскую перину и улеглась в постель. Свет погас.
— Так и сказал: «Навязываться не буду», — продолжал в темноте голос
отца. — Держался молодцом, независимо. Знаешь, Зуза, я не уверен, что мы
поступаем правильно.
С маминой стороны послышался громкий шепот:
— Он, видите ли, не уверен! Да такими хоть пруд пруди. Да он и
гроша ломаного не принесет в наш дом!
— Поработают сами, приобретут все необходимое, — произнес голос
отца, и они даже перестали шептаться.
Вторая постель резко скрипнула, точно на ней сели.
— А где они будут жить? В Юштяковой конуре или у нас? Или ты
собираешься построить им дом? Давай-давай, сори денежками! Если поднатужишься,
так заработаешь в своем кооперативе крон шестьсот!
— Он такой же мой, как и твой, — обиженно отозвался папин голос.
Мамина сторона вроде чуть-чуть присмирела.
— Не забудь, что у нас еще Марош и Майка. Да и Майку вряд ли
возьмет кто-нибудь замуж, ей тоже крыша над головой нужна...
Точно тоненькая иголочка впилась мне в грудь. Я чуть не вскрикнула, но в
горле что-то пискнуло, тоненько, смешно, точно мебель скрипнула. И вдруг меня
охватила злость: «Если уж на нас такая напасть, то с какой стати выбор пал на
меня? Именно на меня?»
Родители притихли, наверное, что-то почувствовали. Нет, через минуту они
снова продолжали:
— Напрасно ругаешься, Зуза, ведь Майка, как и все девчонки...
— Все, да не все, — оборвал его мамин голос. — Неужели не видишь,
что она ковыляет, как утка? Ей-то уж не придется выбирать, как Мадлене. Как
только подумаю, какой парень нашей Мадлене сам в руки шел! Единственный сын,
дом — хоромы. А наша доченька — на́ тебе! —
кого выбрала...
У меня болела каждая клеточка, каждый нервик, а сильнее всего жгло где-то
у сердца. По-моему, именно там, где должна находиться душа. И эта душа горела
как в огне... Я застонала и перевернулась на другой бок.
Голоса затихли. Через некоторое время послышалось похрапывание отца.
Мама прямо не упустит случая, чтобы не напомнить о моем недостатке. Неужели
он, в самом деле, такой страшный? Ведь, между прочим, если я слежу за своей
походкой, то иду совсем ровно, или это мне только кажется? Конечно, только
кажется... Конечно, я прихрамываю и ковыляю! А кто в этом виноват? Разве я?
Почему я родилась такой? Почему я не умерла, когда была такой же маленькой, как
Аничка? А ведь меня лечили, и я долго лежала с каким-то специальным
приспособлением. А зачем? Если все равно я хромаю?.. Поэтому меня мама и не
любит. Мадленой нахвалиться не может и Марошем тоже. Этим озорником. А меня
стыдится. Может, ей кажется, что мне вообще лучше было на свет не появляться?
Может, и отец был бы рад, если бы я, хромоножка, не родилась вообще? Такой
дочки наверняка не пожелала бы и Ката. Хотя у нее и нет детей.
Надо мной все смеются, даже мальчишки. Ну что ж, обойдусь и без них.
Вообще не буду обращать на них внимания и замуж никогда не выйду. Ведь сколько
женщин не вышли замуж, даже без всяких недостатков. И наша классная
руководительница, и портниха Ружена. Ну и что? Портнихе не надо много ходить,
никто и не заметит, что она хромает.
Будет у меня своя собственная комната, и я напишу на двери специальное
объявление.
МАРИЯ НЕМНИЦОВА
МАРИЯ ЛЮПТАКОВА
ПОРТНИХА
Мальчишкам вход воспрещен!
Пусть потом жалеют сами, Мирко или Душан. Пусть! Так им и надо!
Вот Мадлена готова хоть завтра выйти замуж, а родители не разрешают. А
Лацо Юштяку нечего было отступать. Если двое любят друг друга, нельзя
отступать. Ушли бы из дома и где-нибудь тайно обвенчались. А жить можно и у
какой-нибудь старушки и старичка. Оба бы работали и построили свой собственный
дом. И было бы все, как в романе. Бедняжка Мадлена!
Я ей и «Болтушку» прощаю, только пусть себе зовется Юштяковой, если ей это больше по душе. Или пусть у нее будет другое красивое имя, например Ружинская. Мадлена Ружинская! Разве не замечательно?
9
Нет, с нашей фамилией, по-моему, никогда не навести порядок. При записи
в первый класс вдруг обнаружилось, что Марош в метрике записан, как Мартин
Люптак-Немница. Люптак! Марош и слышать не желает этой фамилии. Вчера примчался
домой с ревом: «Учитель Брахны сказал, что если он, мол, Люптак, так его отец —
не его отец. Но ведь он мой отец, правда?» Подняв голову, он покраснел как рак,
так он боялся, что наш отец — не его отец.
Но мама сказала, что, дескать, у Брахны, видать, ум отшибло! Отец
притянул к себе Мароша и, посадив к себе на колени, сказал: «Твой, твой я отец.
Не бойся!» И оба засмеялись, а Марош стал красный, как перец. Он всегда так
вспыхивает, когда чего-нибудь боится, радуется или сердится.
Оказалось, когда Марош родился, то записал его в метрике дядя Мартин,
потому что наша мама хворала, а отец бегал за доктором и лекарствами.
— И подсунул мне свою фамилию, — ворчал Марош.
— Да при чем тут подсунул! — защищал дядю Мартина отец. — Мы
незадолго до этого договорились, что изменим свою фамилию на Люптак, потому так
и записали. Ну ничего, теперь-то мы уж и впрямь наведем порядок. Зимой, когда
будет поменьше работы.
Мы возвращались из костела в связи с какими-то дурацкими праздниками.
Мароша впервые вырядили в новые темно-синие брюки, и он страшно воображал. А на
мне было синее в цветах платье, то самое, которое я просто не переношу: оно
сшито, будто я четвероклассница. Я ношу его уже два года, и все только по
праздникам.
Я старалась идти прямо-прямо, но в этом дурацком платье ничего не получалось.
Зато Марош вышагивал, как на параде, и все оглядывался — не видит ли его Йожко
Брахна или Даринка Хребетова. Нет, не видят, зато заметила соседка Молатинцова.
Дернув его за штанину, она сказала ему:
— Чтобы лучше носились.
— Уж куда там, — отмахнулась мама, — хоть бы первый класс отходил!
Они разговорились о школе, что, дескать, нынче учителя не способны
держать ребят в ежовых рукавицах, ни здороваться прилично не учат, как это было
в дни их молодости.
Потом Молатинцова остановилась перед домом Шмалевцов поболтать с теткой
Шмалькой.
Марош уже не вышагивал с гордым видом впереди, а прижался к маминой
юбке. По его лицу сразу было видно, что он опять будет клянчить.
— Мама, — захныкал он, — а мне в школу нельзя, потому что я не умею
писать сочинение...
Мама о чем-то задумалась и не слышала его слов.
— Ма-а-ма! Я сочинение не умею писать!
— Ну и что? — съехидничала я. — Это же самый легкий предмет.
— А я не умею-ю-у-у!
— Научишься в школе, — оторвалась от своих мыслей мама.
— А у меня нет учебника.
— Дадут в школе.
— И портфеля нет!
— Купим.
— И восклицательного знака нет!
Мама пропустила мимо ушей, а меня так и распирало.
— Ма-а-ма! — дергал ее за юбку Марош. — И восклицательного знака
нет!
— Какого еще восклицательного знака? — удивилась мама и покосилась
на меня.
— Ну такого... — все заглядывал ей в лицо Марош: мол, это большое
препятствие или нет?
И вдруг — бац! Споткнувшись о водопроводную трубу, одну из тех, что вот
уже полгода валяются возле домов, распластался на земле.
Тут уж я не выдержала и прыснула со смеху. А Марош мгновенно ударился в
рев. Даже посмеяться не даст, мальчишка противный! Мама подняла его с земли за
шиворот, как котенка, и... О ужас! На новых брюках зияла дыра, сквозь которую
просвечивали красные трусики.
Марош прямо захлебывался плачем.
10
Мадлена ходит как убитая. Не злится и не плачет, только ходит как
убитая.
В воскресенье даже не пошла на танцы в сад Дома культуры. Проглотила
какую-то таблетку и улеглась на диван.
А Лацо Юштяк на танцах был и танцевал, словно его наняли. Больше других
с Анчой Кукличкой, которая только что кончила экономический техникум.
И был такой веселый, что все удивлялись.
Но Анче Кукличке далеко до нашей Мадлены. Ноги у нее толстые да и лицо
круглое, как плошка.
Самое красивое лицо — это продолговатое. У нашей Мадлены такое — в отца.
А у меня лицо похоже на мамино, тоже круглое, как плошка.
Если бы человек сам мог выбирать себе мать! Но так не бывает.
Все женщины сидели под деревьями и шептались: шу-шу-шу-шу. Увидели меня,
как я стою у ограды, и снова зашептались. Верно удивлялись, почему не пришла
Мадлена, да и наша мама тоже, ведь она до сих пор не пропускала ни одной
танцульки. Мама танцы больше любит смотреть, чем любое кино.
А сегодня не пришла. Я-то знаю почему.
Янка Шаринова ходила по саду с коляской и лизала мороженое. Мы друг
дружке улыбнулись, она мне, а я ей. Правда, тайком, потому что там была и ее
мама, которая не разговаривала с моей. Она не переставала что-то рассказывать
тетке Грабочке.
Мне бы очень хотелось знать — что.
Будь я Анчей Кукличкой, я бы не пошла танцевать с Лацо Юштяком, раз он
такой неверный.
И когда я только стану взрослой? В восемнадцать лет? Наверно, никогда.
Ведь я уже очень давно живу на свете, а все еще шестиклассница.
Если бы я была каким-нибудь президентом, я бы установила такой порядок,
чтобы на танец девочки приглашали мальчиков, а не наоборот. Девчонки бы
приглашали первые, и Лацо Юштяка ни одна бы не пригласила, потому что он
предатель. Я бы пригласила танцевать только Мира Парилу и Душана Ковача, но и
то только тогда, когда научусь ровно ходить.
Когда я внимательна, то и теперь уже хожу ровно.
В перерыве между танцами все ребята носились по танцевальной площадке, только
я не двинулась с места. Маруша Бобалька прохаживалась там, как королева.
Держалась за руки с Ломаничкой и ходила с таким гордым видом, словно
демонстрировала платья на показе мод. Временами они хихикали, чтобы каждый на
них взглянул.
Некоторые из наших девчонок любят показывать, какие они подружки. Но тайная дружба еще лучше.
11
Каникулы я люблю и не люблю.
Люблю, потому что тогда я не должна делать заданий по математике. И не
люблю, потому что мне скучно без ребят. Хотя бы Марош был дома, но и тот в Боровинах.
Да еще и тетя Ката все лето ходит помогать полевой бригаде.
А иногда ходит и бабуля: дескать, вязать лен она еще может. Левой рукой
поднимет, правой придержит, и сноп готов.
А я должна позаботиться о кроликах, и еще уборка на мне.
Иногда после обеда я иду искупаться на Уграды. Там ребят всегда много,
но большей частью хулиганы, загорают себе и в картишки перекидываются...
Но когда мама дома, я сразу исчезаю, чтобы она не заставила меня
что-нибудь делать, прячусь в подсолнухи, это мое тайное укрытие.
Вот если бы я могла с кем-то отправиться на Край света! Хорошо бы пойти
с Янкой! Но это не получится: наши мамы все еще в ссоре. Вот мы с Янкой и
продолжаем переписываться тайком, пряча свои письма в нашем тайнике.
К нашему тайнику дорожка идет через рожь. Словно человек идет лесом. Лес
шумит над головой, колосья склоняются друг к другу и, пошептавшись, снова
выпрямляются.
Когда я иду через рожь, то сама себе кажусь девочкой из сказки, идущей
по лесу в поисках своего счастья. Разница лишь в том, что мое счастье недалеко.
Даже совсем близко, ждет меня под камнем за сараем Шебенских.
Но сегодня меня там никто не ждет. Придется подождать мне.
Ну ладно, подожду. Иногда и подождать неплохо. Человек тогда чувствует,
как радость приближается, скажем, ее доставит далекий поезд, он будет здесь
скоро, вот уже осталось два дня, день, час... Но чем ближе радость, тем
ожидание труднее. Что, если твоя радость не села на этот поезд? Или отправилась
в другом направлении?
И вот я возвращаюсь обратно через рожь, и мне немного грустно.
И вдруг...
— Привет, Майка!
На дорожке передо мной как из-под земли появилась Янка. На ней
голубоватое платье в цветочках, такое нарядное, какое я надеваю только на
праздник, а она не то что в школу, только дома его носит. Два года назад нам
эти платья, совершенно одинаковые, купили мамы.
Я, конечно, страшно обрадовалась:
— Привет, Янка!
Мы вдруг взялись за руки прямо посреди ржи и стали смеяться. Смеялись
вовсю, прямо не знаем, что делать от радости.
И тут Янка спросила:
— А ты была на нашей почте?
— Была, да письмо еще не пришло, — смеялась я, не в силах
остановиться, словно говорила о самой веселой вещи на свете.
— Сегодня я немного опоздала, — сказала Янка, — но письмо уже идет!
— И она похлопала по карману своего фартука. Из кармана торчала широкая полоска
белого конверта.
И мы снова засмеялись как заведенные и еще с полчаса не могли
остановиться.
Потом она побежала к сараю Шебенских. И уже издалека крикнула мне:
— Забрать можешь письмо через полчаса!
Я отправилась домой счастливая: ведь я уже твердо знала, что радость
пришла и ждет меня. И я встречусь с ней через полчаса.
Подождав, пока не зазвонили на обед, я отправилась за письмом.
Привет, Майка!
Шлю тебе
сердечные приветы!
Знаешь, что
сказала Маруша о твоей маме? Что она готовит самые вкусные блюда, а потом у нее
нет денег... и она их просит в долг. Ну какое ей до этого дело,
правда?
А еще я тебе
скажу, что видела Зуна Ситарика. И еще видела, как Маруша целовалась! С этим
семиклассником Палом Балухом!
Еще сообщаю
тебе, что через неделю я еду в пионерский лагерь, и потом тебе напишу.
Твоя верная...
12
Во время каникул я кое-что сделала, но об этом никто не знает.
А случилось все следующим образом.
У бабули все кудахтала курица, пестрая, с хохолком, ну та, Пеструха. Ей
хотелось иметь цыплят, и она кудахтала: «Кво-кво-кво, подложите мне парочку
яичек».
Но все на нее ноль внимания.
Тогда она принялась жаловаться громче: «Кво-кво-кво, разве я не могу
иметь своих ребяток, кво-кво-кво!»
Тут уж бабушка услышала ее и сказала:
— Знаешь, старик, поймай Пеструшку и посади в сарай. Дня через три
она перестанет кудахтать, нам сейчас цыплята не нужны.
Пеструха должна была сидеть три дня в темноте голодная, чтобы ей
расхотелось думать о цыплятах.
Мне стало ее очень жалко.
Разве она виновата, что ей хочется обзавестись цыплятами?
И, давая еду курам, я выпустила Пеструшку. Она поклевала вместе с
другими, напилась, и снова я ее заперла в сарай.
На следующий день и на другой я сделала так же.
Через три дня Пеструшку выпустили, и она закудахтала еще громче: и кудахчет,
и кудахчет, да так громко, верно, от злости.
Бабушка тогда говорит:
— Ну, придется, видно, ее зарезать.
Я тут перепугалась, что из-за меня Пеструшка погибнет.
— Ну зачем ее резать? — сказала я тогда. — Посадите ее на пяток
яиц, пусть у нее будет хоть небольшое семейство. Не бойтесь, я сама позабочусь
о ней. Выкормлю ее цыплят.
— Ну если так...— улыбнулась бабушка. Все-таки она у меня очень
милая.
И бабушка посадила ее на целых двенадцать яиц. Так появилось десять
цыплят: четыре белых, четыре черных и два пестреньких. Они такие крохотные, с
мою ладонь, и голосок у них тоненький, словно шелковинка.
Спят они в хлеву, в углу, и Пеструшка разрешает мне брать их в руки,
когда я хочу.
Значит, она поняла, что без меня их бы вообще у нее не было.
Когда мама дома, то она то и дело меня отрывает: «Убери со стола», «Не
знаешь ли ты, где трусики Мароша?»
Тогда я стараюсь скрыться с глаз долой и прячусь в подсолнухах.
Подсолнухов этих множество, целое море. Сразу за нашим полем. Правда,
они еще низковаты, только мне по пояс. Когда я оглянусь вокруг, даже в глазах
рябит, столько на меня глядит желтых и темно-коричневых подсолнечных головок.
От желтых словно солнечные лучи падают, а в темных пчелы так и снуют.
Пчелы эти дядюшки Мартина, они меня хорошо знают. Впрочем, пчелы нашего соседа
Малатинца тоже меня знают. Они жужжат себе преспокойненько, а я знай читаю.
А подсолнухи заглядывают мне в книжку и кивают своими головками.
Порой сюда забредает и Марка Цопкова, когда ей дома грустно.
Сядет напротив меня, обнимет ноги руками, подбородок прижмет к
коленкам... Большой нарукавник прикрывает ей лицо, только темные глаза
виднеются.
Марка Цопкова иногда слушает, что́ я читаю, а иногда мы просто разговариваем.
Повернемся лицом к солнцу и сидим, греясь и глядя прямо на него.
Солнце протягивает свои длинные пальцы-лучи, проталкивает их через
ресницы, словно через жердины в заборе, и слепит, слепит, пока на глазах слезы
не навертываются.
— Я, Марка, сейчас выдержала дольше, чем ты, — говорю я тогда.
— Все потому, что ты уже привыкла смотреть на подсолнухи, — говорит
Марка, вытирая глаза рукавом, — ведь подсолнухи — дети солнца.
— Ну да, все цветы — дети солнца. Правда, подсолнухи ему самые
родные, ведь они и похожи на него.
— Ну и ты на него похожа, — говорит вдруг Марка измененным голосом,
и ее темные глаза становятся сразу совершенно черными, не только зрачки, но и
все вокруг них.
И я вижу себя в них, как в черном зеркале, маленькая, как ноготь на
мизинце. Словно я девочка Дюймовочка.
— Ты сама, как самый прекрасный подсолнух, принцесса Майя, —
говорит Марка странным, измененным голосом, словно читая сказку. — Прошу тебя,
будь моей женой.
— Ах, благородный принц Мирослав, — включаюсь я в игру,
— я бы и рада, да на мне лежит страшное проклятие!
«Принц» Мирослав омрачен:
— Кто посмел проклясть тебя? Скажи мне — кто, и я накажу его, а
тебя высвобожу.
Голос полон благородного гнева.
— Я не знаю, кто это, — шепчет «принцесса» Майя.
— Ты не знаешь, а я знаю! — произносит Марка из-под своих
белоснежных нарукавников. — Это колдунья Лиза Нандорых. Нужно только поднять
горшок...
— Майка, Майка-а-а!
Мамин голос! Звучит издалека, словно с того света.
— Давай домой, нужно сбегать в магазин!
Я не шевельнулась, даже дыхание задержала, чтобы не выдать себя.
— Ну иди, иди, хватит тебе, уже насиделась в этих подсолнухах!
Маму слышно на всю улицу.
Я поднимаюсь и медленно бреду через наше поле, перешагиваю через грядки
огурцов и тыкв и замечаю, что один кочан кольраби уже большей, с два кулака, но
я его не сорвала, а только шла и размышляла: и как это мама могла раскрыть мое
укрытие, и, может, мне уже не ходить в эти подсолнухи?
Дорогая Майка!
Сердечные
приветы теперь не в моде, и поэтому я их больше не передаю.
Я посылаю тебе
сладкий поцелуй.
В пионерском
лагере очень весело. В нашу палатку все время приходят записки на имя Майки. От
всяких мальчишек! Потому что я тут сказала, что меня зовут Майка. И ты мне
напиши, будто я Майка Шаринова.
Ночью мы здесь
бесились и мазались зубной пастой, даже вожатому намазали гребешок.
Кормят тут
вкусно, но вчера, правда, были капустные кнедли, и мы их не ели.
Целует тебя
твоя подруга
Майка Шаринова.
Из-за леса появилась туча. Черная и сердитая. Она погромыхала. И молнии
ее перерезали то вкось, то прямо, то извилисто.
Я ужасно боюсь грозы! И почему никто не возвращается домой?
Я сняла с забора подушки и тяжелую-претяжелую перину. Когда я несла их
домой, молния вдруг, казалось, ударила прямо в дядину трубу!
Ноги у меня прямо подкосились, сразу стали мягкими, как вата, едва я
дотащилась до дома. А ведь в трубу, видно, так и не ударило, она бы сразу
загорелась. Ну и трусиха я! Гроза еще не здесь, но уже близко, уже грохочет,
гудит, гремит... Ветер выплясывает с дорожной пылью грозный танец...
И все еще никто не идет домой!
И вот припустил ливень, над двором опустился сплошной поток дождя,
молнии то и дело прорезают его: трах, трах, трах!..
Ах, бабуля, куда же ты подевалась?
Не знаю, как я вбежала в сарай. Куры и цыплята поукрывались, не видно ни
одной; кролики выглядывают из загончика; Кветуля повернула ко мне голову и
глянула на меня темно-синими глазами.
Я обняла ее за шею и прижалась лицом к ее морде, такой большой и теплой.
Кветуля стояла мирно и ни о чем меня не просила, а только спокойно
жевала, словно вокруг ничего и не происходило. И с меня понемногу сходил страх,
этот мерзкий, отвратительный страх.
Мудрая наша Кветуля!
Мадлена вернулась из отпуска и сказала, что выхлопочет для меня на
будущий год пионерский лагерь. И заплатит за путевку. Потому что такие
каникулы, как мои, ничего не стоят.
Мама сказала, что ладно, и отец одобрил.
Я заранее радуюсь своим будущим каникулам. Они начнутся точно через
триста дней.
Мадлена прекрасно загорела и уже не такая грустная.
Впрочем, Лацо Юштяк и не заслуживает, чтобы она грустила!
Она купила себе платье из зеленого дедерона и когда надевает его, то
глаза у нее становятся зеленые-презеленые, как у русалки. А когда надевает
синее, то глаза тоже синеют. Какие-то странные глаза, просто сказочные!
А что будет, если она наденет желтое платье?
Хотя желтое она не наденет. Мадлена не любит желтый цвет. Говорит, что
блондинкам не идет.
13
Я радуюсь, что уже начались занятия. В этом году в школе как-то
интереснее. Не то класс наш изменился, не то и сами мы переменились.
У нас прибавились новенькие: двое мальчишек и одна девочка. У девочки
красивое имя: Вера Новосадова.
Вере Новосадовой четырнадцать лет, она второгодница.
Она отлично играет в футбол. Вчера она забила Мадуде шесть голов. Это
было зрелище!
Я рада, что Вера Новосадова сидит близко, сразу за мной. Потому что она
знает много полезного. Например, когда учитель рассматривает класс, чтобы
кого-нибудь вызвать, Вера ловко бросает под парту резинку или карандаш и лезет
за ними. Пока она их «ищет», учитель давно уже кого-нибудь вызвал и забыл о
Вере. Хороший способ, может, и мне когда-нибудь пригодится. Хотя вряд ли!
У Веры Новосадовой нет в нашем классе приятельницы. Даже у меня есть,
хотя и тайная, поэтому я и пошла с ней в кино на фильм «Человек-амфибия». Но
больше никогда не пойду. Вера этот фильм уже смотрела и все рассказывала мне
наперед и смеялась громко. И еще говорила при этом, что
лучшие фильмы на свете — это мультфильмы. Я не могла с ней разговаривать,
потому что смотрела не отрываясь на смелого, но такого странного Ихтиандра,
у которого были и легкие и жабры. «Человек-амфибия» просто грандиозный фильм! В
тот вечер я скорее отправилась спать, чтобы в тишине еще раз подумать
о нем.
Вера Новосадова, в общем, занятная девчонка, но дружить с ней мне
почему-то не хочется!
Нынешний учебный год очень смешной, потому что наш Марош каждый
день приносит в тетрадке какую-нибудь зверюшку, чаще всего он получает
«кроликов», иногда «пчелку», но редко. А иногда «кошку», ту чаще [Так выставляют
оценки в приготовительном классе.].
Наш Марош не умеет писать палочки. Сделает палочку, она ему не
понравится, и он начинает ее исправлять. У него не получается, и учительница
посадит ему в тетрадку «кошку».
— Ты не должен два раза писать одну и ту же палочку, — объясняю я
ему. — Если тебе не удалась одна, оставь ее и напиши рядом другую, получше.
Но он не слушает и исправляет каждую палочку. Получается грязь, и «кошек»
все прибывает. Он бы уже мог устроить целый кошачий кооператив.
Мама, конечно, сердится; с этого учебного года она сердится и на Мароша.
— Почему ты опять исправлял все по два раза? Хочешь получить по
пальцам? — и поднимает руку.
Но верткий Марош уклоняется от ее руки и прячется у нее в коленях.
— Это не я, мамочка. Это пролетала муха и измазала лапкой.
Я не перестаю над ним смеяться.
А он каждую минуту ноет:
— Мамочка, я сегодня не пойду в школу, ладно? Я все
это догоню зимой.
Ужасно смешной ученик этот наш Марош!
Сегодня мы принесли в школу марки и стали меняться. Душан
сказал, что это похоже на биржу.
Биржа так биржа.
Мне очень понравилась марка «космонавт», которая была у Зорки
Ломаницкой. Откуда только она ее достала?
— Грандиозная! — млел от восторга даже наш Йожо Клокан, и я
уже думала, что он предложит за нее свой минерал или еще что-нибудь подороже.
— Венгерская, — сказала горделиво Зузка и улыбнулась Маруше. Что и
говорить, приятельницы, не разольешь водой!
— Обменяй, дам тебе за нее три наших, — предложила Эва Крайнацкая.
Зузка дернула плечами:
— Ишь какая умная!
— Я дам тебе пять!
Теперь уже Зузка задумалась. Но задумалась и я: ведь у меня нет еще ни
одной заграничной марки. Остальные ребята все их имеют, только у меня нет.
— Даю шесть, — сказала я, — или даже семь. Семь даю!
— А какие?
— «Кролика», «Маленького Мука», «кофейную мельницу», «рыбок»... —
так и сыпала я, не задумываясь.
— Еще две.
— «Олимпиаду» и «кубики»...
— «Кубики» не хочу.
— Ну тогда «праздничную елку»!
— Пойдет.
— Не пойдет, — сказала вдруг Маруша Бобалька и прикрыла рукой
«космонавта». — Обмен не состоится!
— И чего ты стараешься? — разозлилась я. — Это что, твоя марка?
— Не моя, но была моя. Это я дала ее Зузке.
Зузка надула губы, как всегда, когда она хочет обидеться.
— Ну когда это было? — сказала она. — Еще в самом начале каникул.
Я уже думала, что они поссорятся. Пусть Зузка увидит, что за птица эта
Маруша.
Но Маруша вдруг уступила:
— Пожалуйста, можешь меняться, только не с ней! — Она показала
подбородком на меня.
Я страшно удивилась. Никогда еще Маруша не выражала вражду ко мне так
откровенно, мы не любили друг друга скрыто и тайком.
— А что ты, собственно, имеешь против меня? — спросила я.
— То, что ты болтушка! — Глаза у нее сузились, как у ящерицы.
— Я? А что я наболтала?
— Ты знаешь что...
— Когда?
— Да Кушнеровой.
И тут я вспомнила! Я и вправду говорила с теткой Кушнеровой, когда
однажды пасла Кветулю. Она расспрашивала меня про школу, про ребят и, значит,
потом что-то наговорила.
— А что я наболтала, скажи — что?
— Что я всеми только командую! Ишь как тебе не стыдно! Разве я
командую?
И тут мне пришла на помощь Янка, моя верная, хотя и тайная подруга!
— А вот это и правда, — сказала она. — Думаешь, если твой отец
секретарь...
— А тебе-то что до меня! — закричала Маруша.
— А что ты к Майке пристаешь и обзываешь?
— И буду, буду, она и есть Болтушка!
— И совсем она не Болтушка! — произнес вдруг мальчишеский голос,
наверняка Мадуда. — Она Утя-утя-утица!
Меня что-то кольнуло между ребер, но я и виду не подала. Словно речь шла
не обо мне, а о ком-то чужом.
В углу, где сидели мальчишки, раздался смех.
Тогда встал Душан Ковач, повернулся к парте Пале и сказал:
— Знаешь, знаешь, кто ты... Ты просто бесчувственный чурбан!
Мадуду очень удивило, что мальчишка вдруг защищает девчонку, у нас в
классе это не принято. Он уже было открыл рот, чтобы наверняка подразнить:
«Жених и невеста...», но не успел, потому что класс уже хохотал, шумел,
грохотал. Вера Новосадова стучала крышкой парты так, что подскакивали
чернильница и ручка.
И я рассмеялась от радости, что насмешки обрушились в другую сторону, не
на меня, а на Мадуду.
Некоторые мальчишки гораздо лучше многих девчонок, скажем, Душан Ковач и
Миро Парила. Миро тоже наверняка за меня бы заступился.
А потом у нас было сочинение.
Учительница сказала, что у нас будет урок вроде игры. Но ребята не
верили и сидели с кислым видом. Сочинение писать у нас не любят.
А для меня это самое любимое занятие! Жаль, что оно бывает только раз в
неделю.
Учительница потом сказала:
— Представьте себе, ребята, что вы — это не вы, а кто-то совсем
другой. Каждый может представить себя, кем пожелает. Скажем, Зора может
представить себя классной доской. Понимаете? И напишет так: «Я —
классная доска. Я уже давным-давно знаю наизусть всю программу седьмого класса,
и мне пора уже перейти в восьмой. Но меня оставляют здесь, считая, что я
дерево».
Мы засмеялись, учительница сказала:
— Ну, ясно вам?
— Ясно! — откликнулась первой Маруша Бобалька, словно все это было
совсем не трудным.
— Значит, думайте, кто чем будет. Вживайтесь в свою новую форму.
— А могу я быть медведем? — спросил Мадуда.
Учительница рассмеялась:
— Разумеется, и даже очень похоже.
— А я львом?
— А я? Кем быть мне?
— А я буду книгой, — заявила Маруша.
Всегда она перебежит мне дорогу. Ведь это я хотела быть книгой. Веселой,
увлекательной книгой, которая всем понравится.
Ах, эта Маруша-хитруша! Эта гусеница противная! Эта ящерица-хамелеон!
Сейчас я должна придумать что-то другое. Любой ценой придумать другое. Например,
представить себя... белкой.
Вот я прыгаю по дереву, с ветки на ветку, с одного дерева на другое, с
дома на дом.
Или нет, лучше так:
«Мы — чернила. Мы пролились на Марушину тетрадку и на Марушино платье.
На то, красное, с кармашками, которое больше всего любит Маруша.
Она вскочила и побежала к умывальнику, но мы впитались в ее юбку и
сделали огромное пятно, такое смешное, словно Марушу схватила за коленку чья-то
черная рука».
14
Сегодня вдруг стало так же тепло, как летом, и бабушка принялась сушить
вещи: четыре покрывала, два ковра, дубленый полушубок, с десяток платков на
голову и две свои простыни, которые она приготовила на похороны.
Эти ее простыни на похороны очень длинные и красивые, и по уголкам у них
кружева квадратиками. Вид у них старомодный...
Вчера был такой хороший день, а сегодня льет с самого утра.
В дождливый день у нас дома всегда идет грандиозная штопка и починка.
Мама вытаскивает свой ящичек с шитьем и узел с вещами, которые требуют починки,
штопки, пришивания пуговиц. Разложит все это на столе и, уж будьте уверены, тут
же позовет меня ей помогать. А я это ужасно не люблю, но приходится мне штопать
хотя бы свои чулки и носки. А иногда и папины. Штопка у меня получается
аккуратная и красивая, не как у нашей Зоры Ломанички, у которой что не стежок,
то вкривь и вкось.
Сегодня я обрадовалась, что мы пойдем штопать к тете Кате.
Она, как обычно, сидела за своей вышивкой и вышивала корзинку с
фруктами, с разными там яблоками, грушами, виноградом.
Разговор зашел опять о кооперативе, эти разговоры не прекращаются.
Дескать, год опять неурожайный, трудодни будут плохие, сено дорогое, как
шафран. И что такое этот шафран? Сено пересыпали солью, на воз сена немножко
соли (как желаете, милая Кветуля, сено с солью или без соли?).
Председатель, мол, не на своем месте, вчера пригласили разговаривать в
район Ломаника, чтобы он стал председателем, но он наотрез отказался, не хочет
ни за что. Да и то сказать: легкое ли дело поставить на ноги такой трудный
кооператив? Да, Зора Ломаничка тогда бы нос задрала, как принцесса, стань ее
отец председателем! Наверно, она его уговаривает, чтобы он согласился: ведь
председателей частенько фотографируют в газетах, как, скажем, этого
председателя из Чхрлянцев. Вот бы Зуза важничала, что отец у нее герой! А ведь
и правда: хороший председатель, наверное, герой!
Тут я задумалась и пропустила, о чем шел разговор дальше.
Да, если бы человек мог выбирать маму! Если бы так было можно, я выбрала
бы тетю Кату.
Марош получил в дневник запись, что он драчун. Наши, конечно, удивляются,
а я-то знаю об этом давно.
Отец сказал:
— Ну-ка, подойди ко мне, ты, Люптак!
Марош сделал было шаг. И покраснел, как помидор. Всегда он так краснеет,
когда его называют Люптаком.
— Значит, ты дерешься? — взял его за плечо отец. — Всякие были в
нашей семье, но драчунов мы не имели.
— Ну да! — отозвалась я. Я хотела было сказать, что дед наш
поколачивал бабулю, даже руку как-то ей вывернул.
Но отец так взглянул на меня, что я примолкла.
— Значит, ты не Немницов? — сказал он Марошу, внимательно
разглядывая его. — Верно, тебя к нам занесла какая-то кукушка!
Марош опустил голову и смешно наморщился. Верно, представлял: как это
его кукушка тащила к нам домой за ногу.
А отец продолжал:
— Еще мне за тебя стыдиться! И от стыда скрываться от твоей
учительницы, когда будет родительское собрание!
Марош поднял голову.
— Знаешь что, папа? Сядь тогда за спиной отца Брахны. У него такая
широкая спина, что тебя не будет видно.
— Спасибо тебе за такой хороший совет, — сказал отец с серьезным
видом. — Я тебе дам урок, какой подходит таким драчунам, как ты.
И стегнул его пару раз ремнем.
Марош завизжал, как поросенок. Не от боли, конечно, какая там боль! А от
обиды — такую нормальную порку он заработал первый раз. Да еще от отца!
Он выбежал, и там его обида сменилась злостью.
— Вы сами драчуны! — кричал он. — Подождите, вот будете сами
маленькими!
Отец удивленно посмотрел на маму.
— Ты смотри, — сказал он, — и ведь не кричит: «Подождите, вот я
стану большим!» Ну и зубастым стал наш щенок.
— При чем здесь щенок? — рассердилась мама. — Учительница написала,
что он драчун, а ты его уже колотишь. Ну какой ты отец?
— А ты что за мать? Думаешь, я не знаю, как ты его балуешь?
И они поссорились, как уже давно не ссорились. И целых три дня не
разговаривали.
15
Случились две вещи, первая очень грустная.
Скосили мое подсолнечное поле!
Когда я сегодня днем прибежала туда, поле было уже пустым. Только на
самом его краю лежало четыре маленьких подсолнуха. Измятые, они лежали на земле,
может, кто на них наступил, и их не подхватила косилка. Они лежали, только
повернули свои головки к солнцу. Таких четыре маленьких солнышка.
Я взяла их домой и в вазу поставила. Два в нашу, а два в хату бабули.
Бабуля думала, что для нее, а это было для Марки Цопковой — значит, для
бабушки, только когда она была девочкой. Последний привет с подсолнечного поля.
Другая вещь, которая случилась, наоборот, веселая.
У нашей Мадлены новый кавалер! Зовут его Владимир Како́й!
Он из Жеравиц — это соседняя деревня — и приехал к нам на машине, на
таком красном фургоне. Легковую машину ему было еще долго ждать, так он взял
фургон. Но случайно он оказался довольно красивым.
И сам Владимир ничего себе: высокий, худощавый, смуглый. Он учитель в
Жеравицкой школе; хорошо, что не у нас.
Мне, пожалуй, все в нем нравится, кроме имени. Тоже мне имя — Владимир
Какой!
Это имя словно какой-то вопрос, мне все время хочется на него ответить!
Какой такой?
Разве мог кто-нибудь называться Владимир Кто или Владимир Что? Не мог! А
тут на́ тебе — Владимир Какой! И без всякого вопроса.
Опять не повезло нашей Мадлене! Но его фургон всем понравился, особенно
маме. И еще ей очень нравится, что он единственный сын...
Будет свадьба, будет! Свадьба, наконец-то настоящая свадьба!
В воскресенье была помолвка.
Пришли отец и мама Владимира. Мама у него высокая и худая, а отец не
худой и не высокий. В общем, вполне подходящий. Он работает на Подполнанском
машиностроительном заводе, а мама работает в кооперативе.
Мадлене они подарили дорогой подарок — золотой браслет.
Мне тоже подарок — клетчатый шелк на платье. Очень красивый. А Марошу
рубашку. Но он только на нее глянул и тут же пулей кинулся к фургону. Для него
самый большой подарок, если Владимир прокатит его по деревне. И даст ему
посигналить.
Пришла к нам и двоюродная сестра. Ее зовут Желмира, и она ходит в восьмой
класс. Ростом она почти с меня, ну, может, на какой-нибудь сантиметр повыше.
Мама Владимира сказала:
— Ну вот, они будут подружками на свадьбе.
Я знала, что буду подружкой на этой свадьбе, и все-таки очень
обрадовалась, потому что свадебные подружки — очень важные особы, сразу на
втором месте после жениха и невесты. У них всегда розовое платье и много
цветов! И они должны ходить за невестой.
И тут меня взял страх. Что, если я в тот момент стану сильно хромать?
Ведь вся деревня будет смотреть свадьбу, даже две — наш Горовец и
Жеравице. Ну и ладно! Я буду каждый день тренироваться, чтобы ровно ходить, и
до свадьбы этой научусь!
Ведь свадьба будет только в январе...
До свадьбы еще два месяца, а у нас уже настоящий переполох. Тетя Ката
срочно вышивает бархатную скатерть, да так быстро, что ее пальцы только
мелькают. Каждый день я продолжаю с ней ходить и наигрывать поросятам, чтобы
они ели быстрее и веселее. Потому что у тети Каты мало времени, она должна
вышить эту скатерть.
Отец одолжил сто литров па́линки. Всем
нам купили на платье: Мадлене белый шелк — ну и красивый! — а мне розовый
силон, тоже ничего себе.
Порой к нам доходят разговоры, кто что подарит нам на свадьбу.
Тетя Крокошка — шторы и покрывало на кровать.
Тетя Зеленакова — ковер.
Тетя Парилова — миксер.
У нас только и разговоров, что о баранине, свинине, вине, телятине. И о
курятине. Мол, как хорошо, что Майка выкормила десяток кур.
Да, цыплята нашей Пеструшки пойдут в котел, потому что у нашей Мадлены
свадьба. Какая вроде связь между ними и Мадленой? А они из-за нее погибнут. И
наши кролики, гуси и утки... Впрочем, уткам туда и дорога!
Я каждый день понемножку продолжаю тренироваться в ровной походке,
стараюсь делать это в хате у бабули, там никто не видит, только Марка Цопкова
на своей фотографии. А перед ней мне не стыдно.
Мое платье подружки будет готово через две недели. Очень красивое, с
нижней юбкой. И я, конечно, к свадьбе причешусь в парикмахерской.
И почему время так тянется?
Мой камень за сараем Шебенских примерз к земле, я не смогла его приподнять.
Ну и ладно, все равно у меня нет времени на дневник.
Да еще снег выпал.
Владимир Какой ходит к нам часто. Сядет себе и все глазеет на Мадлену.
Куда она ни пойдет, туда и он за ней поворачивается. Порой ему приходится
смотреть в другую сторону, но все равно хоть краешком глаза он следит за
Мадленой. Она и вправду красавица, хотя и моя сестра. Я вообще очень рада, что
она моя сестра
16
Кто бы ни справлял свадьбу в Горовце, всегда в главные поварихи
приглашают тетку Шкутову. Вот и у нас она уже пятый день кашеварит. Вернее,
верховодит, а две-три женщины ей помогают.
Работа эта потихоньку движется к концу. В сенях уже полно пирогов,
рулетов, потрошеной птицы, колбас, паштетов, жареного мяса, отбивных и рубленых
котлет — в общем, всяких полуфабрикатов и совсем готовой еды.
Завтра свадьба.
Прямо не могу дождаться. Еще никогда не казались дни такими длинными.
Будто кто-то понарошку их растягивает, вот и тянутся они бесконечно от утра до
вечера, от понедельника до субботы.
Но уж как-нибудь я до завтра потерплю.
Тяп-тяп-тяп... — раздается мерный стук с кухни. Это режется лапша для
супа. Она желтая и пышная. Будто золотистое сено. Одна из трех поварих —
тетушка Парилова, мама Мирки. Я немножко побаиваюсь ее и потому стараюсь
показать, что тоже занята делом, чтоб не выглядеть бездельницей. Ужасно мне
хочется услышать от нее, что Мирко тоже ждет не дождется этой свадьбы. Но
ничего такого она не говорит. Разговор идет совсем о другом.
Из горницы выходит тетушка Ката.
— Посмотрите, женщины, как все уже убрано, — говорит она.
Все кинулись к дверям.
— Ну и красота! — Все так и уставились на новую мебель, занавески,
дорожки, картины.
— Только гляньте на эти подушки! Так и переливаются, даже в глазах
рябит! — говорит тетушка Парилова.
Расшитых подушек — четыре: квадратная, сердечком, овал и круг. А вышиты
они нитками тридцати семи оттенков. Красотища!
Наша соседка Брахнова не отстает:
— Мне они тоже нравятся. Но моя Еленка, подумать только, дорогие
мои, говорит, что это уже не модно.
— Что не модно?
— Расшитые подушки. Да и вообще не модно, чтобы постель была в
комнате.
— Интересно! А куда же она денет все перины, если постели не будет?
— А кто их знает! — говорит соседка Брахнова. Она всегда любит
похвастать своей Еленкой. Будто в Горовце так хорошо никто больше и не учится!
— Но моя Еленка говорит... — продолжает она, — конечно, все это девичья
болтовня, и мы смеемся, но она говорит, что возьмет в приданое только две
маленькие подушки, которые можно будет положить в чемодан. Ха-ха-ха! И
паучокский разрисованный коврик ей тоже, говорит, ни к чему.
— Боже, что же она так все ругает! — обиделась тетушка Парилова. —
Ведь Паучок-то ее родственник. У него цветы на коврике будто живые! У всех
горовских такой коврик висит над кроватью.
— Да я ей тоже говорю, мол, ты, Еленка, привыкла там, в своем
интернате. Там, конечно, нет ни вышивок, ни покрывал, ничего. А она мне в ответ
всякие книги и журналы показывает: мол, посмотри, мама!
Женщины снова принялись за лапшу, а я, подкинув дров в плиту, тут же
взялась за мытье полов: пусть тетушка Парилова убедится, что я не бездельница.
Она, наверное, уже так не думает, потому что раза два уже глянула в мою
сторону.
— Да и устраивать такую свадьбу тоже, конечно, не модно, — не
угомонится никак тетя Брахнова.
— Вот с этим я согласна, — говорит соседка Малатинцова, которая до
сих пор отмалчивалась. — Кому нужен такой шик! Да ни за какие коврижки не стала
бы я такого устраивать!
Я-то знаю, почему она так говорит. Ведь папа одолжил у нее две тысячи
крон. Да-да! Неужели она боится, что мы эти деньги не вернем ей?!
И она пошла причитать, что это-де ужасно, что со всеми этими свадьбами
совсем и меру забыли.
— Говорят, готовят семь перемен блюд, — говорит Миркина мама.
И вот уже снова все затараторили:
— Неужели семь?
— Люди совсем с ума посходили, каждый хочет переплюнуть другого!
— Надо, чтобы кто-то раз и навсегда положил конец таким свадьбам...
— Ну да! Кто же решится стать притчей во языцех и посмешищем...
— ... чтобы назвали его скупердяем и жмотом...
— ... не ведающим, что творит...
— ... ему и из Горовца пришлось бы уехать!
— Бабирадовы, у которых свадьба на следующей неделе, тоже купили свинью
и поросенка. Бабирадиха говорит, что их свадьба должна быть ничуть не хуже, чем
у Люптаков, и даже лучше!
— Слышишь, Зузана? — Это Миркина мама обращается к моей. — У
вас, значит, не просто свадьба, а уже настоящая свадебная дуэль пошла?
Ха-ха-ха!
Мама вышла из комнаты очень расстроенная. Неужели это из-за Мадлены? Я
испугалась. Мадлена ведь слегла после обеда, у нее якобы разболелось горло, и
она запила чаем три таблетки...
Я пошла к Мадлене посмотреть, как она там. Руки ее безвольно лежали на
пуховом одеяле, а лицо так горело, будто ей снегом растирали щеки, —
красные-красные, прямо пунцовые.
— Сбегай за врачом, Маечка, — попросила она. — Но только после
того, как уйдут эти бабы. Иначе по всей деревне раззвонят эту новость.
Доктор пришел и сказал, что у Мадлены ангина и она должна полежать дней
десять.
Мы все заулыбались.
Потом Мадлене сделали укол, и завтра сделают еще два.
Никогда бы не подумала, что Мадлена так боится уколов. Сколько она
переделала их другим! Пожалуй, по двадцати уколов в день, а то и по тридцати. И
вот те на́: сейчас, когда колют ее, она расплакалась.
— Что, очень больно? — спросила я, дав ей полоскание.
Она покачала головой и только утерла слезы платочком. А он уже и так
насквозь мокрый от слез.
Столько слез из-за каких-то трех уколов? Надо же!
Нет, Мадлену мучает что-то другое.
Может, с этой свадьбой что не так?
Или, может, из-за Лацо Юштяка? Этого еще недоставало!
Или, скорее всего, я думаю, из-за этих сплетен. Наш дом полон ими. Одна
соседка сказала так, другая эдак: дескать, вы еще подумайте, стоит ли играть
свадьбу без церковного благословения — божьего наказания не миновать...
Вот какие торты мы получили к свадьбе
Фигурные
1 олень,
3 шкатулки,
2 книжки,
3 сердечка,
2 подковы,
1 ежик,
3 ягненка,
4 слоеных
и еще 17 простых.
Наконец-то наступила суббота! Наконец-то!
Я уже вся при параде, причесанная, и все такое. Не могу на себя
наглядеться: вот, оказывается, какая я! Честное слово, ничего девчонка! Черные
волосы локонами, синие глаза, красивое розовое платье... Жалко только лицом я
не удалась: уж больно оно круглое.
Вот уже и Париловы пришли. Дядюшка и тетушка, нарядные такие, и в руках
у них полные кошелки разных подарков к свадьбе.
А Миро с ними нет!
Где же он, Миро, мой дру́жка-напарник?
— разволновалась я и наверняка побледнела или залилась краской. Миркина мама
взяла меня за руку и громко, так, чтобы все услышали, сказала, что ей очень
обидно, но Миро не придет, потому как он заболел и у него поднялась
температура.
— И во всем виноваты эти проклятые морозы, мальчишки целыми днями гоняют
на лыжах и коньках; ведь он очень хотел быть на свадьбе, а теперь слег...
И так мне стало жалко Миро, что он лежит себе там один-одинешенек, а я
осталась одна без дружки. Неужели не мог он пересилить себя и все-таки прийти?
Мадлена вон какая больная и то после двух-трех уколов поднялась. А он будет
себе там полеживать!
Очень мне захотелось расплакаться, но я сдержалась и не разревелась.
Зато заплакала мама. Я совсем и не думала, что мои дела ее так трогают.
А она стала говорить, что все это ужасно, что господь бог нас наказывает
на каждом шагу, но что поделаешь, раз такие времена настали.
И тут — фырк! — вылетел у нее зуб, тот, что вставной.
Мы все стали его искать. А тут как раз к дому подъехал автобус — из
Жеравиц приехали сваты.
Посаженый отец произнес речь.
Потом говорил и наш отец, про то, что, дескать, мы отдаем самое дорогое
наше сокровище, и тому подобное...
А Мадлена, вся в белом, стояла словно цветок, и каждому, наверно,
казалось, что она действительно самое дорогое наше сокровище.
Потом она, как положено, поклонилась и стала нас всех обнимать, будто
уезжала далеко-предалеко и совсем, навсегда. В доме стояли сплошной стон и
рыдания. Оплакивали нашу разлуку с Мадленой, а заодно и все остальное: мама —
свой утерянный зуб и то, что теперь придется стараться не показывать людям свой
щербатый рот; я — заболевшего Миро; бабушка — грех перед господом богом и
обиду, которую мы нанесем ему своей гражданской свадьбой; тетя Ката — маленькую
Аничку, которой у нее нет и потому ее не придется выдавать замуж.
А Мадлена... вот уж не знаю, что оплакивала она. За невестой я пошла с
нашим Марошем, с этим младенцем, который вечно в свои тетради получает «кошек».
И это называется дружка?
А гражданская свадьба получилась совсем не такая уж красивая.
Председатель местного национального комитета, отец Ивана Батялы, еще не привык
говорить свадебные речи. Он все время спотыкался. Я так и не поняла, что же
все-таки он хотел сказать нашей Мадлене.
Вместо орга́на был
проигрыватель.
Потом от Чехословацкого союза молодежи зачитали хором стихотворение. Ну,
это было еще вполне подходяще.
А потом Мадлена в последний раз подписалась Мадленой Немницовой.
И всюду было полно народу: и в зале, и на лестнице, и на крыльце, и даже
на дороге. Наверно, от каждого дома пришло не меньше двух человек. Но в
основном женщины и дети.
Я старалась как можно меньше хромать, но удавалось мне это с трудом.
Что говорил дедушка, я совсем не слышала, потому что волновалась:
удастся ли мне моя песенка? Каждый должен был спеть соло. Только вместо тех,
кто совсем не умеет петь, или вместо младенцев, вроде нашего Мароша, могут петь
другие.
Подруга невесты обязательно должна спеть сама. А то как же!
В той горовской речонке
Вода холодная...
Я думаю, что получилось это у меня неплохо. Все хлопали так, что в зале
гремело.
Очень мне хотелось, чтобы все подхватили мою песню. Так у меня и
получилось.
А вот у Мароша ничего не получилось! Убежал он из-за стола и бегал по
залу с ребятней, которая пришла на свадьбу.
И это называется свадебный дружка!
В окнах и дверях торчало полно любопытных, и все эти любопытные головы
казались кучками тыкв.
И эти головы-тыквы глазели по-смешному и открывали рты: «Ого, хороша
свадьба! Уже в девятый раз мясо подают! Но ведь вы недаром набрали в долг
восемь тысяч!»
После полуночи Мадлену одели в подвенечное кружевное платье. А на голове
у нее — венец, весь расшитый жемчугом, так и переливается. И при этом она
должна петь: «Моя головушка на снежок похожа»... Будто бы снег может быть таким
цветастым!
Первый танец, «Спиральку», с молодой танцуют только парни и замужние
женщины. Каждый всего минуту, но все обязательно стараются танцевать позаковыристей.
Мадлена танцевала то с одним, то с другим. Сначала у нее запылали щеки,
потом на лбу выступили капли пота, и она так тяжело дышала, будто протанцевала
по меньшей мере километров пять. Но никто ее не пожалел. Наоборот, выстроилось
еще много охотников поплясать с юной невестой.
Мне стало ужасно жалко ее. Ведь ей нездоровится! И тут подоспела помощь!
Мадлену на танец пригласил папа. Все удивились: такого еще не бывало!
Мадлена опустила свою сверкавшую жемчугом голову на папино плечо и
медленно, медленно прошла с ним два круга. По лицу у нее так и текли слезы, и она
их то и дело заглатывала. А щеки ее так горели, будто их снегом натерли.
Потом папа отвел ее к столу. Он сделал вид, что не заметил всех, кто
ждал своей очереди потанцевать с Мадленой.
А любопытные головы, торчавшие в окнах, всё пялили глаза и шептались:
шу-шу-шу-шу..
17
В понедельник я еле-еле поспела вовремя в школу, потому что после
свадьбы была уйма дел с уборкой.
Ровно в половине восьмого утра нашелся мамин зуб — в кармане фартука у
тетушки Каты.
И как это мы сразу тогда не догадались поискать во всех карманах!
Когда я в самую последнюю минуту подбежала к школе, какой-то мальчишка
быстро проскочил мимо на лестницу и взбежал индейским шагом по ней. Если бы я
не знала, что Мирко Парила болен, я бы решила, что это он, как индеец, мчится в
школу: тридцать шагов, а потом тридцать прыжков.
Уже прозвенел звонок, когда я влетела в класс.
Янка Шаринова заулыбалась. А Маруша Бобалька крикнула:
— Привет, свадебная подружка! Куда же девался твой дружка?
— Заболел, — отрезала я: ведь ребята еще не знали об этом.
— Ха-ха-ха! «Заболел»! Ну да: здоровье сбежало от него и он на лыжах
гонялся за ним по всему Горовцу!
Каждое слово Марушки было шпилькой в мой адрес. Пол подо мной поплыл.
— Сбежал он от своей свадебной напарницы — топ-топ-топ! — забасил
Мадуда.
— Ха-ха-ха, хи-хи-хи, го-го-го-го-го!..
В класс вошла учительница. И вот что странно: она даже не обратила
внимания на этот галдеж, будто и не слышала его. А у меня в ушах прямо звенело:
ХАХАХАХА, ХИХИХИХИХИ, ГОГОГОГО... Не было сил выдержать все это. Я уронила резинку
и полезла под парту за нею. Но смех слышался и там, под партой. Хотя уже словно
издалека — как вода журчит у берега. А на том берегу, привиделось мне, сидела
Марка Цопкова в платье с одним рукавом.
«Где у тебя второй рукав?» — спросила я и покраснела: вдруг обидела ее?
Она помахала мне голой рукой и прошептала:
«Мамочка еще не собрала денег на второй рукав. Моей бедной мамочке еще
не хватает семидесяти гелеров».
И тогда я спросила ее:
«А что ты здесь делаешь?»
— Что ты там делаешь под партой? — спросила Марка каким-то чужим
голосом, похожим на голос Даны Трцковой, которая сидит со мною на одной парте.
Я приложила палец к губам:
— Ш-ш-ш! Я здесь последняя буква в алфавите, ты молчи, пусть об
этом не все знают! Только бы не было так темно! Ты не знаешь, почему здесь так
темно?
— Потому что уже наступила ночь, — сказала Марка Цопкова, — надо
поднять крышку.
Я подняла крышку парты, и сразу стало светло.
— Товарищ учительница, извините, но она уже давно там, под партой,
сидит, — сказала Данка Трцкова.
— Кто сидит? Где сидит? Немницова, встань!
У нашей учительницы словацкого языка голос очень приятный, не писклявый,
а грудной, будто неглубокий родничок журчит.
— Ты что, не слышишь, Немницова? Встань!
И почему я не встаю? Если голос у учительницы низкий, глубокий, словно
из колодца, значит, учительница сердится и надо встать. Буль-буль-буль...
Родничок зеленоватый... Вокруг него растет потемневшая трава, трав двадцать
разных, и родничок у снежного берега... Как это говорится: «Роднички-сестрички,
как...»
— Что с тобой, Маечка?
Кто взял меня за подбородок и смотрит на меня зеленоватыми глазами,
убирает волосы со лба, гладит, трясет за плечи?..
— Маечка, что с тобой?
— Знаете, товарищ учительница, над ней ребята потешались.
Это сказала Янка Шаринова. Моя Яночка!
Учительница велела нам с Янкой одеться и пойти погулять. Сейчас? Во
время урока?
И вот мы пошли, но не через деревню, а проселочной дорогой. Снег лежал
на ней и поскрипывал.
Там, вдали, за глубокой колеей, стоял дуб. Тоже весь в снегу. И только
одна ветка на нем желтела. И так ярко желтела, будто расцвела мелкими желтыми
цветами. Ужасно это было интересно. Я долго оглядывалась на этот дуб. На ту
красивую желтую его ветку.
Когда я вечером ложилась спать, мне прямо хотелось умереть...
Солнце длинными тонкими пальцами проникло сквозь мои ресницы, словно
сквозь жердочки в плетне. Я зажмурилась и почувствовала себя счастливой...
Нужно только открыть глаза навстречу солнцу, только раскрыть их.
И я открыла глаза.
Но я увидела, что это была всего-навсего люстра с тремя кремового цвета
шарами.
Наша люстра.
Я спрятала лицо в подушку и снова стала думать о чем-то очень плохом...
18
Я не знаю, что именно, но что-то случилось. Так, словно какой-то узел
наконец развязался.
Мадуда больше не дразнил меня «Утя-утя-уточка», делая вид, что просто
меня не замечает.
А дома еще бо́льшие перемены!
Мама больше не запрещает мне дружить с Янкой Шариновой! Могу теперь вместе
ходить с ней в школу и даже приглашать ее к нам!
Теперь я уже ясно вижу, что все-таки кое-что зависит и от меня.
У меня для этого три доказательства:
Первое. На свадьбе у мамы потерялся зуб, потому что она запрещала мне
дружить с Яной.
Второе. Мама сказала мне, что передняя комната будет моя, как только
Мадлена увезет из нее мебель.
Третье. Она не запрещает мне дружить с Яной, хотя ее мама разносит
всякие сплетни о нашей Мадлене. Правда, теперь, наверное, уже перестала, ведь
Мадлена живет в Жеравицах.
Каждый день я хожу с Янкой кататься на санках или на коньках, носимся до
самого вечера.
И переписываться опять будем, а письма будем класть под камень за сараем
Шебенских. Этим заниматься очень интересно еще и потому, что у нас тайный шифр.
А не то мы его забудем.
В воскресенье мы отправились на Край света и смотрели оттуда на
Боровинскую долину. Она была такой красивой, что так и хотелось ее снять на
праздничную открытку.
Обратно мы ехали кое-где на санках, а кое-где держась друг за друга,
«поездом», и вообще по-всякому. Мы так набесились, что вечером у меня жутко
болели ноги.
Проклятое мое бедро!
Пока мне не с кем было бегать и носиться, эти дурацкие ноги и не думали
болеть! А теперь, как назло, болят каждый вечер. Вот подлые!
Но к утру боль обычно проходит.
Надо сказать, что я вообще не очень жалую тех девчонок и ребят, которые
стыдятся за свою подружку, если она немного хромает.
Пусть себе занимаются своей игрой в индейцев!
Пусть собирают всякие дурацкие минералы, я и сама могу их набрать до
самого потолка!
И в школу пусть ходят своим индейским шагом, а если желают, то и
негритянским, и просто на голове.
На все это мне наплевать! У меня теперь тоже будет своя комната, и я
обязательно напишу на двери, кто может в нее входить: отец, мама, Янка Шаринова
и бабушка.
И больше никто.
И еще одна грандиозная новость!
Мы отправляемся с папой установить нашу правильную фамилию: Немницы мы
или Люптаки. Меня это очень интересует, а Мароша еще больше.
Отец и дядя Мартин решили так: установят, как звали их прадеда, отца
нашего дедушки; если тот прадед был Люптак, то и мы будем Люптаками; если Немниц
— то Немницами.
Только Мадлене на это наплевать. Она ведь все равно будет
называться Мадлена Какая.
Ну ничего, я ее не жалею. Теперь-то я знаю, что фамилия не самое
главное. К примеру, Вера Новосадова. Красивая фамилия, не так ли? Сначала она
мне очень нравилась.
А теперь, если бы кто мне сказал, что «Новосадова» красиво звучит, я бы
удивилась. Красивая фамилия? Подумаешь!
Мадлена к своей чудно́й
фамилии уже привыкла; пожалуй, она ей даже подходит.
И вообще она теперь не бывает грустной. Да и такая же красивая, как
раньше.
Марош сказал ей:
«Как это так, Мадлена? Вышла замуж, а совсем не изменилась?»
Все вокруг только смеялись, и никто ему ничего не объяснил.
19
Папа ходил выяснять по книге регистрации умерших, как писали фамилию его
прадеда. Но так ничего и не смог выяснить, потому что не знал, когда умер его
прадед. В каком году.
Спросили старшую папину сестру. Она тоже не знала.
Потом дедушка посоветовал:
— Надо, пожалуй, съездить в Боровины, ведь мой отец родился в Боровинах.
Дома всегда вспоминали, как отца убило в горах и что он похоронен в Боровинах
под какой-то липой. И за могилой его ухаживает тетка Загорчокова.
Потом дедушка принялся вспоминать еще каких-то дальних родственников, и
много-много называл всяких имен... Ведь он как начнет говорить, так его не
остановишь.
Вот тогда-то я и узнала впервые, что не только мама и тетя Ката, но и
вся наша родня из Боровин.
А я даже не смогла полюбить их, эти Боровины. Очень там на меня всегда
глазеют. Будто никогда не видели девчонку, которая хромает.
Кладбище в Боровинах делится на две части: справа — новое, сплошной
мрамор, фотографии и золотые надписи. А слева — старое, заброшенное, с низкими
холмиками, на которых то здесь, то там виднеются ветхие плиты, то деревянные,
то каменные. Ни травинки нет здесь, а тем более в марте!
Мы стали разыскивать могилу на этом старом кладбище.
Долго ничего не могли найти.
Не было там никакой липы. Наверное, она засохла или просто ее срубили.
Потом дядя Мартин нашел какой-то кусок каменной плиты с надписью. Камень
был пыльно-серый, и надпись на нем была выбита вручную, сразу видно. Папа сразу
разобрался: это то, что мы ищем.
Потом мы еще нашли куски плиты: папа один, дядя Мартин один и Марош
тоже.
Только я ничего не нашла, потому что очень у меня болели проклятые ноги.
Поэтому я просто стояла на одном месте и прикладывала один к другому эти куски,
а потом к плите.
Кто его знает, может, если бы я тоже нашла один осколок, мы бы всё
закончили быстрее. Но мне очень трудно было ходить. Уже несколько дней мне
трудно ходить, даже по ровному месту. И поэтому я стояла и не двигалась с места
и так закоченела, что хоть плачь. Я уже представляла себе, как боровинчане
будут опять глазеть на меня, потому что я так сейчас сильно хромаю.
Но я сдержалась и не заплакала.
Папа тоже был какой-то грустный, когда возился с этими камнями и осколками.
И дядя Мартин тоже. У них у обоих такое было странное выражение лица, будто и
они готовы были расплакаться!
Только Марош, глупый, как баран, скакал между могилами. Он то и дело
притаскивал какой-нибудь камень или осколок. Только один из них случайно оказался
годным.
Потом дядя Мартин достал блокнот и сказал мне, чтобы я срисовала
надпись. И я это сделала.
Но как раз того куска плиты, на котором должна была быть надпись о том,
когда прадед скончался, мы и не нашли.
Потом мы побрели с кладбища, и я держалась возле папы. Я еле волочила
ноги, уж очень они у меня болели. И поэтому мы отстали от остальных.
Очень я довольна была, что папа мне не выговаривал: «Вот видишь, я же
говорил тебе: не надо было ходить с нами!» Ведь он действительно так мне
говорил.
Мама же наверняка стала бы твердить: «Вот видишь, вот видишь, вот
видишь!..»
Папа вдруг остановился у одного дома.
— Здесь живет тетка Загорчокова, — сказал он. — Пойдем поговорим с
нею.
Скорее всего, он придумал все это из-за меня, чтобы дать мне возможность
присесть отдохнуть.
А может, это и не так. Ведь разговор мог оказаться очень важным.
Тетушка Загорчокова от старости уже вся согнулась, как крюк. Все время
сдвигает она косынку с левого уха, будто та мешает ей слышать. Именно в это ухо
папа и прокричал свой вопрос.
И вот так я впервые узнала, что тетушка хорошо знала Ондрея Немницу, и
что он доводился ей дядей, и что он, бедняга, погиб в горах, когда ему было
только двадцать четыре года.
— А вы, тетушка, помните, как это все случилось? — спросил папа.
— Да-да, конечно, помню. Ведь мне уже было девять, а может, и все
десять. И вернее всего, это случилось в начале зимы, потому что коней еще не
успели подковать на зиму, и дядюшку из-за этого с трудом свезли с гор: коням
было трудно спускаться по скользкому склону. Парни в ту пору рубили лес, и одно
дерево как-то повернулось и стало падать не в ту сторону. Все закричали, чтобы
Ондрей отскочил, но он не успел отскочить, и его придавило, а ребята не смогли
скатить с него тяжелую лесину и стали распиливать ее прямо у него на животе. А
потом они с грехом пополам повезли Ондрея вниз домой, и тот всю дорогу кричал,
а люди спускались все следом за возом. А моя мама просидела всю ночь возле
него, и, когда утром вернулась домой, она только сказала: «Умер наш Ондрей».
Старушка приложила краешек черной косынки к глазам. Хотя не понятно,
зачем она это сделала, глаза у нее были совсем сухие.
— А скажите, тетушка, — попросил папа, — остались ли после Ондрея
вдова и дети?
— А как же! Жена у него была и сынишка. Звали мальчика Янко. Был он
еще совсем маленький. Я даже не знаю, исполнился ли ему к тому времени год.
Семья-то была совсем еще молодая, когда случилось несчастье. Но вдове, моей
тетушке, удалось еще раз выйти замуж куда-то в Горовец. За какого-то Люптяка.
Был он уже в летах, и детей у него больше не было, и он усыновил Янко... Янко
был моим двоюродным братом.
— А мне он приходится дедом, — в унисон добавил папа.
— Да что ты говоришь! — воскликнула старушка и сдвинула косынку с
правого уха. — А как тебя зовут?
— Ондрей Немница.
Я заметила, что папа с очень довольным видом произнес свое имя.
Старушка подперла подбородок своей уже совсем высохшей рукой и
внимательно посмотрела на папу. Как будто пыталась что-то разгадать в его лице.
— Так, значит, ты сын Яна?
— Нет, не сын, тетушка, а внук.
— Ага, значит, внук?
— И правнук вашего дяди Ондрея. А вот моя дочка Маечка.
— Вот оно что!
Но это уже она сказала просто так. Мы не интересовали ее больше. Ее
занимали только те, кого она знала в молодости.
Мы попрощались и вышли. Мне стало немножко легче идти, но потом снова
ужасно разболелись ноги.
Еле-еле мы добрели до автобуса.
Через две недели все это было уже записано черным по белому на бумаге.
Теперь мы все Немницовы: и Марош, и дядя Мартин, и тетя Ката.
Но пока поменять фамилию не придется. Это якобы стоит немалых денег.
20
Теперь я знаю, что у меня с ногами. Доктор все объяснил: у меня что-то
там плохо с суставами, что-то все время соскакивает и потому мне бывает так
больно.
И не слишком ли я перетрудила свои ноги за последнее время? Конечно! За
последнее время моим ногам досталось!
Доктор сказал, что мне придется лечь в больницу. В ортопедическую
клинику.
Ну что ж! Придется так придется. Что тут поделаешь?
И все же мне немножко страшно. А вдруг мне станут делать операцию?
Но Мадлена говорит, что я боюсь зря: ведь теперь при операции усыпляют.
Уснешь — и все тут дела. И еще, говорила она, могут обойтись без операции,
иногда и без нее вылечивают.
Я спросила, избавлюсь ли я после этого от хромоты.
Мадлена пожала плечами:
— Ну что ж... вполне возможно.
Тогда едем!
Но все-таки я боюсь.
И еще я буду очень тосковать о Янке, папе и даже о Мароше, об этом
младенце.
И кто же будет все это время бабушкиной правой рукой?
А кто будет наигрывать поросятам тетушки Каты, чтобы они веселее ели?
Хоть плачь! Но я не заплакала.
Мой чемодан уже уложен. Бабуля, разумеется, сунула туда незаметно
молитвенную книжку. Наверняка надеется, что я вдруг хотя бы там помолюсь, и,
может, хоть на этот раз ее господь бог ниспошлет мне свою помощь.
И вот мы уже уселись в красную машину. Владимир Какой, Мадлена и я.
Папа пошел открывать ворота.
Вдруг из глубины двора раздался крик: «Подожди-и-и-и-те!
Подожди-и-и-и-и-те!» — и послышался частый-частый топот. Это к нам бежал Марош.
Подбежал он и что-то мне протянул:
— Бери!
В его руке виднелась черная головка с желтым клювом и испуганными
глазами — маленький дрозденок.
Своими тоненькими лапками птенец поскреб по моей ладони. Потом попытался
расправить черные крылышки. На них уже было оперение. Но летать он еще не умел.
— Я хочу его взять с собой, — заныла я, увидев, что он еще совсем
маленький и слабенький. — Я его там выкормлю.
— Ну уж не выдумывай! — сердилась мама. — Где ты там возьмешь
всяких червячков и мошек?
Я смутилась сначала, но потом вдруг сообразила:
— Буду кормить его, как цыпленка. Я же знаю, как выкармливать
цыплят.
И я с воинственным видом выставила локти, готовая защитить дрозденка и
от мамы, и от целого света. Так у нас прибавился еще один пассажир: черный
птенец в белой коробочке.
Но вот захлопнулись дверцы машины, и дом стал от нас удаляться. И все
мои родные тоже, хотя они выбежали на дорогу. Но все равно они отодвигались все
дальше и дальше. Стали скоро совсем маленькими. Вот они уже ростом с ребят,
которые только еще пойдут в первый класс. Все машут мне руками. Марка Цопкова
подняла подол черной юбки и утерла им слезы.
И тут я больше не вытерпела. Закрыла лицо руками и ударилась в слезы.
Братислава, 7 мая 1965 г.
Привет, Янка!
Пишу тебе лежа.
Четыре дня
назад мне сделали операцию и еще не разрешают вставать.
Здесь много
ребят, и у всех что-то не в порядке или с ногами, или с позвоночником. В нашей
палате лежат две семиклассницы и одна восьмиклассница: Катка, Здена и Виола.
В этой больнице
есть и школа!
Ученики учатся
лежа, а учителя с ними занимаются. По словацкому, русскому, математике — в
общем, по всем предметам. Так что я ничего не пропущу.
И никто меня
здесь не дразнит Болтушкой или Утя-утя-утица. Сама я в Братиславе, а вот все
мои прозвища остались там, в Горовце. До чего же здорово! Может, прозвища эти
вообще забудутся, пока я вернусь? Ты не знаешь, сколько надо времени, чтобы
забылись прозвища?
Наша
учительница Церовская, которая преподает здесь у нас словацкий, иногда мне
говорит: «Ты моя болтушка». Но ведь это звучит совсем не обидно. Мне очень
нравится наша учительница, и я иногда ей рассказываю про Горовец, про тебя, про
Мароша, про все.
А дрозденок
жив! Из него скоро вырастет настоящий дрозд. Медсестра Еленка одолжила мне
клетку, и он скачет себе там. Иногда я думаю, что я его выпущу на волю, а
иногда — что мы с ним вместе поедем в Горовец. Ведь мы оба горовчане. Вот я
никак еще не решу, как быть.
А теперь о
самом главном.
Сегодня я
спросила главврача, перестану ли я сразу после операции хромать. А он ответил:
«Надеюсь, что да. А иначе ты меня очень подведешь».
И заулыбался. И
пани докторша тоже улыбнулась, а за нею медсестра Еленка. Тогда и я разулыбалась.
Потом главврач
еще сказал: «Ведь хромые ноги — не самая большая беда. Куда страшнее, когда
мозги хромают».
Он меня
похлопал по щеке и добавил: «У тебя-то головка в порядке. И ноги тоже будут в
порядке».
Янка, ты
понимаешь, что это для меня значит?
Ведь я уже
больше не буду никакой хромоножкой, никакой Утя-утя-утицей!
Правда, все это
не сразу. Но ждать не так уж долго. Сперва я буду ходить на двух костылях,
потом на одном, а уж потом... А я потерплю. Я вытерплю все, все!
Целует тебя
твоя верная подружка.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





