ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


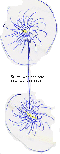
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Поликарпова Татьяна
Под парчами, под лучами
Слышно ей сквозь сны,
Как звенят и бьют мечами
О хрусталь стены...
А. Блок «Сны»
— Топор
видела,— сказала Маруся.
Ее кровать
была напротив Катиной, у противоположной
стены палаты. Между ними еще ряд кроватей,
пустых.
Катя, приподнявшись на локте,
обернулась к Марусе — приготовилась
слушать ее сон, но та молчала. Катя
присмотрелась к ней: чего это она? Маруся
лежала на спине, уставившись в потолок,
будто там и был записан ее сон, а она не
могла разобрать.
Ничего, ожила Маруся.
Вон и брови заблестели. А позавчера
после операции и брови и лицо были словно
пеплом подернуты — стертое, слепое
лицо.
Маруся была уже третьей абортницей,
пока Катя лежит в этой палате. Они быстро
менялись, не то что роженицы.
В больнице
шел «ползучий» ремонт, как говорили
санитарки. Он переползал из отделения
в отделение, и Катя попала как раз в
такой момент, когда ремонт вынудил
перевести всех женщин в родильное
отделение. Это было нарушением медицинских
правил. Но куда деваться? Вообще-то и не
ожидалось рожениц в это время. Они ведь
все на учете. Одну Катю сподобило.
Катя
присматривалась. Ее поражало, как все
женщины становились похожи одна на
другую, возвращаясь в палату после
операции. Уходят-то все по-разному: одна
трясется от страха и, чтоб скрыть этот
страх, еще и нарочно подыгрывает: «Ой,
батюшки! Ой, матушки! Ой, ноги не идут!»
Другая лихо подмаргивает остающимся:
«А-а, та не баба, что там не бывала! Любишь
кататься, люби саночки возить!» А Маруся
шла молча, с каким-то ожесточением в
темных угрюмоватых глазах. В пол смотрела.
Уходили по-разному. А возвращались —
одинаково. Веселые, скучные, дерзкие,
боязливые, болтливые, молчаливые,
возвращались в палату — никакими. Аборт
властно стирал и лица, и характеры.
Поддерживаемые сестрой, неуверенно
переступали ногами тени ушедших на
операцию женщин. Глаза открыты, но будто
спят. И одинаковая печать на лицах,
лишенных выражения: печать сломленности.
Будто на допросе под пыткой не выдержали,
выдали заветную тайну, и теперь им все
равно. Так думала Катя, с тайным ужасом
всматриваясь в лицо очередной своей
соседки, возвращавшейся из операционной.
Не мертвая, но и не живая, та молча
ложилась, отвернувшись к стене, или
закрывала лицо простыней. И все в палате
замолкали, как при покойнике, скорбно
и виновато. Но потом начиналось воскресение
из мертвых.
Вон Маруся: была такой же
тенью и, пожалуйста, сегодня собралась
сон рассказывать. И глаза глядят в
потолок, в самый настоящий, белый с
трещинками потолок, а не на тот свет. И
губы порозовели. Красивые губы у Маруси:
пухлые овальные скобочки сомкнулись.
Катя ждала продолжения сна, но Маруся
будто все забыла.
— Ну, а дальше что?
Про топор? — напомнила Катя.
—
Что-что... Сказано: вижу топор! — с
некоторым раздражением ответила Маруся,
все так же созерцая потолок над собой.
— Ну ладно, но ты что-то им делала?
Топором? — попробовала Катя подойти
по-другому.— Или он просто под лавкой
лежал, или кто им дрова колол, или что...
— Просто топор. Можешь ты это понять?
Просто! Топор! Один! — сердится Маруся,
А Кате очень хочется понять, как это
можно увидеть во сне просто топор, один
топор — и все. Как можно видеть одну
вещь вообще? Где-то же она находилась!
Или в самом деле пустое пространство,
и среди него — топор? Но какое тогда
пространство? Серое? Белое? Черное?
Наверное, все-таки Маруся забыла, как
видела этот свой топор?
Перетерпливая
желание задать Марусе еще кучу вопросов,
Катя опускается на подушку, мимоходом
кинув взгляд в окно,— оно как раз за ее
изголовьем. Можно было б и не смотреть.
По тусклому свету, разлитому в палате,
немому, словно бы не дающему теней, ясно,
что непогодит. Но мало того, что непогода:
за окном мокрыми хлопьями валил снег.
Вот так первое мая!
Но ни первомайский
снег, ни Марусина строптивость не могли
надолго огорчать Катю.
Даже интересно!
Первое мая и — снег! — со смехом
воскликнула она, тут же и пережив досаду
на непогодь. «Вот снег, а у меня все
хорошо, и я скоро выпишусь и увижу Олега!»
Так можно было перевести ее «даже
интересно». А можно б и еще короче: «Снег
— Олег». Ведь и он видит этот снег.
—
Марусь, ты, наверное, к снегу топор свой
видела!
— Ладно бы, ежели б только к
снегу...— отозвалась Маруся.
—
Ништо-о-о, девки! — сладко позевывая,
откликается со своей койки у стены тетя
Клава. Она, как и Ма руся, ждет скорой
выписки. Он немолода, лет за сорок, и
руки ее, в отличие от гладких Марусиных,
будто свиты из тонких суховатых мышц и
крупных — бечевами — жил.— Ништо, что
снег, нам не на демонстра цию. Нечего
нам, девки, демонстрировать. Разве вон
нашей Катечке Мишаню своего... И мужик
не достанет, пока мы тут! Плюнь, Машка,
на свой топор! Лежи, не горюй. Небось нам
сегодня пирога дадут, ради праздни чка.
Не к пирогу ли и топор-то? — посмеялась
она тихонько.
Но Маруся не развеселилась.
Она отвернулась к стенке и сказала
ровным голосом:
— Если опять ко мне
полезет, убью... Топором.— И, помолчав,
добавила с тоской: — Хоть бы его куда в
командировку услали, пока я оправлюсь!
— А бывают командировки-то?
—
Бывают. Когда не надо. Хотя все равно
хорошо. Хоть вздохнешь. Но теперь-то
больно бы нужно! Если я здоровая — мне
все нипочем... В прошлый-то раз, теть
Клав, я только домой пришла, а на другой
день снова в больницу!
— Ну? Закровила?
— Закровишь! Явился пьяный. Ну,—
грит,— порядок: своя сёдни дома. И ко
мне в койку. Я ему: «Куда ты, кобель!
Нельзя!» «Ах,— говорит,— нельзя! Так
какого хрена ты тут развалилась!»
Подхватил меня, да и об пол. Я была и —
нет. Очнулась — плаваю в крови-то, как
в луже. А он на койке и уж храпит. Поползла
я в коридор. Хорошо, соседка выглянула.
У меня и голосу-то не стало — позвать...
— Пьяный, что ль, был? — будничным
голосом спросила тетя Клава, будто и не
слышала, что Маруся так и сказала. И Катя
поняла, что и сама хотела спросить о том
же, словно они с тетей Клавой, обе, спешили
хоть как-то смягчить, оправдать поступок
Марусиного мужа, отвести его вину от
всех прочих — непьяных — лю дей.
—
Пьяный, пьяный,— уверила их Маруся.
—
Его надо посадить в тюрьму,— сказала
Катя не своим, каким-то тусклым голосом.
— Его посадишь! Свидетелей-то нет. Я
даже и не кричала. И синяков не было, как
вон сейчас. — Маруся закинула левую
руку за голову. На нежной бело-розовой
коже тыльной стороны плеча расплылся
безобразный черно-лиловый кровоподтек.—
А в милиции, знаешь, как говорят, когда
свидетелей нет? «Муж да жена — одна
сатана!» Может, я на него наговариваю.
— Да как это наговаривать на собственного
мужа!
— Очень просто. Кому надо —
наговорит,— заявила Маруся так уверенно,
что Катя не посмела спросить, кому это
и зачем бывает надо, уж, наверное, проще
разойтись...
Она спросила только:
—
А врачи? Могли бы подтвердить...
—
Может,— согласилась Маруся.— Так ведь
я оклемалась.
— Погоди! — Тетя Клава
подняла худую руку и потрясла, погрозила
пальцем.— Будет у тебя, девка, инвалидность,
коли не уйдешь от такого. Очень даже
скоро.
— Да ведь все жду. Приглядываюсь.
Может, образумится. Он до меня больно
охочий. Оттого и бесится. Ему вынь да
положь. А нет, так он и дерется.— В голосе
Маруси проглянула вдруг стыдливая
гордость.
— А тебе, дуре, и лестно! —
Тетя Клава даже села в своей постели,
чтоб увидеть лицо Маруси.— Вот погоди,
доведет тебя до инвалидности и забросит
со всей своей охотой, и другую будет,
как тебя, голубить, доводить до абортов.
— Вот и я говорю: еще полезет — зарублю.
Топором. Думаешь, я не знаю: он, только
я за порог, ведет кого ни то в дом? Я
зна-а-ю! — с угрозой пропела Маруся.— И
на стройке у него есть краля. Мне говорили.
А что, мой Валерка — мужик видный.
Любая...
Она не договорила и вдруг,
всхлипнув, уткнулась в подушку. Марусины
признания совсем сбили с толку Катю.
Невозможно было уследить за ее шараханьями:
ненавидеть такого — это понятно! До
топора понятно... Но гордиться?! Гордиться,
что тебя калечат? Да при этом еще и
изменяют?! И потом...
Катю передернуло,
когда она додумалась до этого — потом...
Ведь Маруся снова здесь! После всего, о
чем она тут рассказывала! Катя не хотела,
не могла поверить в то, что видела
собственными глазами. Принять, признать
все то, что составляло жизнь Маруси,
значило каким-то образом, что ее, Катиной
жизни, нет. Не могут они существовать
одновременно, как вот сейчас в этой
палате. Но ведь существуют! И то, что
привело сюда Катю — беременность,
привело и Марусю. Правда, с разными
целями... Но, значит, и у Маруси с Валеркой
было то же, что у Кати с Олегом... Вот что
не поддается разуму, противоестественно,
и вообще — не может быть!
Катя чуть
ли не вслух застонала, перевернулась с
боку на бок в постели и, наконец, села,
сбросив ноги вниз... Ей было тошно.
—
Надо руки помыть... Сейчас кормить
принесут,— пробормотала она слабым
голосом и пошла к крану над раковиной
в углу палаты.
Долго мыла руки, плескала
себе в лицо, лила на шею. Струйки воды
стекали, вызывая озноб, по спине между
лопатками, по груди, по ее ложбинке. Кате
казалось, что она нечиста, и как ей сейчас
взять Мишутку?
— Эй, девка! — прикрикнула
на нее тетя Клава.— Хочешь грудь
застудить?
И Катя, стуча зубами,
зарылась в постель, под одеяло. «Руки-то
ледяные»,—сообразила она и протянула
их между прутьев кроватной спинки к
трубам парового отопления.
«Как же
она может,— думала она о Марусе.— Такая
красивая, молодая. Как же она может. Так
унижаться...»
Катя была еще очень
неопытна в жизни, хоть ей шел уже двадцать
седьмой год и она рожала второго ребенка.
Но Катя была непрерывно счастлива, а
счастье близоруко и высокомерно, оно
плохой учитель житейской мудрости.
Мудрости, в общем-то, простой: она стоит
на том, что «все индивидуально»,— как
выражалась одна из Катиных коллег,
пожилая учительница,— и не спешит
судить.
«Но как же тогда общие понятия?
— возмущалась сейчас про себя Катя.—
Как, например, быть с любовью? То, что
Валерий — этот скот, «охочь до Маруси»,
и это любовь?! Индивидуальная, так
сказать!»
— Маруся,— строго, как на
уроке, спросила Катя,— почему не уйдешь
от него?
— Убьет,— последовал глухой
ответ в подушку.
— Уезжай!
— Куда?!
— вскинулась Маруся.— А жить где? Кому
я нужна? Квартиру этому кобелю оставить?
Лучше сама сдохну.
Катины попытки
придумать, как сказать Марусе, чтоб
поняла она, какая все это ерунда —
квартира и прочее — по сравнению с
личной свободой, смял и развеял сын
Михаил. Михаила — эдакое полешко с
прибинтованной головкой — внесла
сестра, держа на сгибе локтя, как галантные
кавалеры в кино из прошлой жизни держали
шляпы: слегка отведя локоть в сторону.
В другой руке у сестры была клистирная
кружка.
— Вот, кому ребенка, а кому
клизму,— проговорила тетя Клава весело.—
Готовься, Катюха! Твой час!
И то самое
— близорукое и высокомерное — счастье,
спугнутое было Марусей, обрушилось на
Катю водопадом, обвалом хрустальным,
отгородив ее невидимой, но непроницаемой
стеной от Маруси, тети Клавы и даже
сестры, склонившейся над ней с нежностью
матери и подкладывающей ей под бок
Мишаньку, Мишоныша, Мишку-зверушку,
Мышку-норушку, Махонького, Ми-шУтку, как
приговаривала беззвучно Катя, разглядывая
все еще красненькую мордочку своего
четырехдневного сына.
Она провела
пальцем по его горяченьким нежно-пухлым
и словно бы замшевым щечкам, по влажному
лобику, вокруг толстеньких темно-красных
губок, выпяченных, как у негритенка.
Почувствовав прикосновение, губки сразу
пришли в движение, и все личико вдруг
по-стариковски сморщилось, задрожало,
будто от ужасной обиды, и Мишка заорал.
Счастливо расхохотавшись, Катя вложила
сосок в его жадную темно-красную пасть,
и ребенок, хакнув, как дровосек, принялся
сразу сильно тянуть, сосать, причмокивая
иногда впустую, когда не успевал прижать
сосок языком.
Личико его сразу
расправилось, бесстрастно застыло,
бровки, а скорей пока лишь места для
бровей, поднялись, взгляд огромных
глазищ с яркими белками — сестра
говорила, что еще не видела младенцев
с такими большими глазами — сосредоточился
на чем-то своем, тайном, известном только
ему, младенцу. Теперь это был взгляд
мудреца. Наверное, он просто прислушивается,
как бежит молочко у него по горлышку,—
смеясь про себя над Мишкой-мудрецом,
думала Катя. И все всматривалась,
всматривалась в мордочку сына, ясно
различая под смешными пухлыми чертами
лицо Олега. И это было чудо, что от нее
отделился ребенок, повторяющий не ее
саму, а совсем другого человека, которого
— ведь было же такое время! — она и не
знала никогда! Первый сынок — Антошка
— походил на нее, и это было понятно и
естественно: он вышел из нее и походил
на iree. А тут... Просто чудо, волшебство.
И Катю томило, изводило желание скорей
попасть домой, к Олегу, вместе с ним
рассмотреть Мишутку, сравнить их обоих
— отца и сына. Она радовалась своему
томлению, как радовалась всему, что с
ней происходило во время этой второй
беременности. Это не то, что в первый
раз. Теперь она все знала сама. И радовалась
каждому знакомому признаку, и, как могла,
преодолевала всяческое неудобство и
собственные капризы, относясь к себе
со строгостью естествоиспытателя. Когда
на нее вдруг напал необъяснимый страх
перед поездками на автобусах и
троллейбусах, она сказала себе: «Это
просто ты за малыша боишься, это
неосновательно»,— и ехала куда надо,
унимая сердцебиение и замирая в ужасе
при каждом повороте машины.
Мишкин
час пробил рано утром. Прислушиваясь к
себе и ожидая повторения боли, Катя
улыбалась счастливо, еще не открыв глаз.
Ждала повторения, чтоб не ошибиться, но
и так знала: не ошибается — началось.
Вдруг проснулся Олег, хоть она не
пошевелилась, обнял ее, зарывшись носом
ей за ухо, в шею, пробормотал сонно:
«Что-то случилось? Тебе больно?»
И она
не удивилась его чуткости, ответила:
«Началось». Олег замер, как подстреленный,
и вдруг она ощутила что-то теплое,
мелко-щекотное на шее: Олег плакал, все
сильнее сжимая Катино плечо и вжимаясь
лицом в ее шею. Она поняла его и зашептала,
целуя мокрые глаза, щеки: «Ты что! Я
нисколько не боюсь! Дурачок! Олежка!»
«Мне так тебя жалко,— ответил он.— Я
во сне почувствовал, как тебе больно...
А тут ты говоришь — началось...»
Они
пошли в больницу пешком. Весенняя грязь
на глинистой дороге замедляла шаги.
Приходилось останавливаться, чтобы
переждать очередной приступ боли, и
Олег мучился, кажется, больше Кати, когда
видел, как всплывала в ее глазах терпеливая
улыбка, и глаза от этого становились
такими кроткими, что у него щемило
сердце, а живот невольно поджимался.
«Вдруг не дойдем?» — замирал он от ужаса
всякий раз... Но верил: она знала, что
делала, когда отказалась вызвать машину.
А потом они опять шли, клонясь навстречу
весеннему студеному ветру с Амура, и
Катя говорила, что чувствует, как будет
хорошо и, наверное, легче, чем в первый
раз.
В больнице, когда началась
последняя схватка, продолжавшаяся
почему-то без обычных перерывов два
часа подряд и закончившаяся родами, она
твердила себе, что это хорошо, что родится
сильный ребенок, и чувствовала себя
счастливой сквозь бесконечную разрывающую
ее боль. Она знала, что Олег с нею.
—
Мальчишка! — весело крикнула акушерка.
— Мишка,— отдаленным эхом отозвалась
Катя. «Ах, лучше б девочку,— бессильно
подумала она, но тут же и порадовалась:
— Зато мальчик — уже привычно, а девочка
— что-то незнакомое».
Сейчас Катя
вглядывалась в личико ребенка. Ей
казалось, что вместе с Мишкой она кормит
и Антошку. Минутами эта иллюзия была
полной: Антон так же морщил лоб, вздыхал,
поводил глазами. Мишка повторял все
уморительные гримасы Антона. Катя
стискивала зубы, вспоминая, что еще
долго не увидит своего старшенького.
Готовясь к родам, они с Олегом отправили
Антошку к бабушке, Катиной маме. Там, в
деревне, на западе, ему хорошо. Это Кате
плохо без него. Но делать было нечего:
здесь у них одна маленькая комната в
доме барачного типа. За водой ходят
далеко на колонку. Канализации нет, печь
топят углем. Она боялась, что сразу с
двумя маленькими им не справиться. Олег
сейчас хлопочет о квартире, но когда ж
она будет. По крайней мере год придется
жить без Антона.
— Антошка, Мишка,—
шепчет Катя младенцу.— Олежка,— добавляет
для полного счету. И опять волна счастья
охватывает ее, рождая чувственную истому
во всем теле.— Ну-ну,— бормочет она
смущенно, урезонивая себя,— еще на
ребенке отразится.— Катя подтрунивала
над собой за эту непонятную вспышку
чувственного влечения к мужу.
Оно
проснулось в ней, наверное, на следующий
день после родов. Она стыдилась себя.
Ей казалось это неприличным. Катя не
знала, что то ощущение счастья, в котором
она жила последний год, бурные роды, не
отнявшие ее сил, радость от молодой этой
силы и выливаются, выплескиваются из
нее этим победительным весенним чувством:
острым ощущением жизни, своей женственности
и таинственной связи с Олегом.
Она
знала, что одна встреча с мужем, взгляд
близко глаза в глаза, ощущение его плеча
рядом со своим наполняет ее блаженством:
тишиной равновесия всех сил души и тела.
Эта тишина — знак совершенства мира.
Опомнившись, она увидела, что Мишка
уже не сосет, а, сжав губки, смотрит на
нее взглядом соглядатая из иных миров:
взглядом непроницаемым, холодно
отвлеченным, полным иного — совершенного
— знания, не известного еще людям,
знания, не раздробленного на главы,
науки, разделы, но высшего, вбирающего
в себя всю жизнь разом в главной ее
тайне. Ее, свою родительницу, он знал
больше, чем она себя. Такой вбирающий и
в то же время отстраненный взгляд.
Казалось, на нее смотрела сама бесконечность
пространства и времени, и она, пылинка
жизни, исчезала в ее темном луче. Она
опасно приближалась к той грани, за
которой исчезает собственное Я, связь
вещей, значимость самого мира Земли. С
ней случалось такое, когда она пыталась
додуматься до смысла понятия —
бесконечность. Безумие витало где-то
рядом... Она спасалась от него, хватаясь
за что-нибудь самое простое и несомненное:
вот это стул — на нем сидят...
—
Маленький мой,— прошептала Катя теперь
мудрым глазам сына,— ты что, уже наелся?
— однако все еще чувствуя маленькой
себя, а не его.
Но большие глаза ребенка
стали делаться меньше, они сужались и
сужались, постепенно медленно закрываясь.
Он засыпал.
Катя освобожденно вздохнула,
судорожно, в два приема, как человек,
только что избежавший опасности.
В
палате было тихо. Женщины уснули,
пережидая, пока Катя накормит ребенка.
Она прилегла рядом с сыном. Чутко, как
олениха, подстерегая тот звук или шорох,
который может означать опасность. За
изголовьем кровати оглушительно стреляли
трубы парового отопления, где-то в
глубине больницы хлопали двери, резкими
голосами перекликались санитарки,
брякали их ведра,— все эти звуки не
угрожали им с сыном. Но бесшумно
открывшаяся дверь в палату... Катя открыла
глаза. Санитарка шла к ней, держа кулек
с передачей.
— Давай отнесу,— кивнула
она на спящего Ми-шутку.
— Я сама,—
прошептала Катя,— а вы мне двери
открывайте.
В детской сейчас жил один
Мишка. Там было голубовато от света и
особенной белоснежной чистоты. Катя
любила туда заходить, если знала, что
сестры нет поблизости. Санитарочки,
особенно вот эта, ей позволяли.
Вернувшись,
Катя достала из кулечка открытку, и
сердце забилось. Вот сумасшедшая! Олег
поздравлял ее с днем рождения Антона.
Писал, что у него все в порядке. Что в
школе все радуются за нее, а ее класс
горюет: яблони не скоро зацветут, а
ребята хотели бы завалить роддом
цветущими ветками. (Вблизи их города на
сопках было много диких яблонь.) Олег
писал: «Скорей бы ты вернулась: так жду
тебя». Катя знала, как пишутся такие
слова, И она в конце своих посланий о
самочувствии, о том, как ест Мишка, после
наказов Олегу покупать и пить молоко,
выводила напряженной рукой: «Я соскучилась
по тебе. Очень. Твоя Катя».
Но сегодня,
растревоженная Марусиными признаниями,
Катя написала много: «Тоска меня здесь
заедает. Домой бы. Знаешь, на фоне адешних
разговоров (тема одна: аборты, измены,
побои) наша с тобой жизнь кажется мне
утонченным празднеством, какой-то
блаженной идиллией. Ей-богу!»
И Кате
стало легче. Палата спала. Мельтешил за
окном серый от влаги, крупный снег;
сумеречно, грязновато белело белье на
постелях. Но было тепло, сонно, лениво.
Вечером зайдет Света, сестра из терапии,
их соседка по дому, захватит записку.
Катя заснула крепко, унося с собой в
сон Олегову открытку: букет свежих,
сияющих под солнцем ландышей в стеклянном
кувшинчике, вроде молочника, а рядом,
на клетчатой скатерти, брошены небрежно
лиловые колокольчики.
«Наверное,
последние ландыши... Уж и колокольчики
расцвели, а еще и ландыши стоят...» —
подумалось Кате.
Она проснулась от
счастливого ощущения, сквозь сон
коснувшегося ее. Открыла глаза: солнце!
Солнце, наконец, прорвалось к ним. Это
солнце, его луч, разбудил Катю, упав ей
прямо на лицо. «Ой, как хорошо!» — подумала
разнеженно Катя и, отодвинувшись чуть
от солнечного пятна на подушке, снова
уснула и увидела сон.
...Она видела,
что высокий речной берег за их пригородным
поселком, обычно глинистый, голый, сейчас
лоснится высокой густой травой
среднерусского луга в пору цветения.
Ветер, всегда дующий здесь, разогнанный
солнцем, влекомый движущейся массой
сильной амурской воды, этот солнечный
ветер гонит по траве волны, то потопляя,
то открывая цветы: лиловые, белые, ,
желтые, еще какие-то огненные! И эти
цветы и трава бегут, бегут, льются к
береговому обрыву и широким, во весь
луг, потоком падают вниз. Куда он уходит,
этот поток, Кате не видно, да она и не
задумывается, куда. Она сама в одной
больничной рубахе, босоногая, с рас- ]
крытой грудью, то ли бежит, то ли летит
среди цветов -\ и травы. Ласкающие
прикосновения нежных, как губки ребенка,
цветов к обнаженному телу, ветер,
развевающий волосы за спиной, парусящий
рубаху, тепло солнца на лице, груди, шее
наполняют ее ликующим телесным счастьем.
Радость одаряет ее легкой силой,
превращает в летящую птицу. Скорость,
полет, высота и солнце!
«Сбылось!
Сбылось!» — твердит про себя Катя, хорошо
зная во сне, что сбылось. Потом, в яви,
она так и не смогла вспомнить, что же
она поняла в том сне, в том состоянии
счастливого прозрения, которое было
таким простым, таким естественным, что
и не нуждалось в запоминании.
...Катя
проснулась и лежала, не открывая глаз,
приходя в себя, возвращаясь, возвращаясь...
Поняв, что видела сон, начала припоминать
все-все, чтоб ничего не пропустить, когда
будет рассказывать Олегу... Что же там
сбылось...
— Эй, мамочка, разжмуривайся,—
услышала она ласково-насмешливый голос
над собой. Над ней стояла Маруся, прижимая
к груди узелок из головного платка.
Улыбалась, светилась улыбкой.— Вижу, у
тебя глаза гуляют, значит, не спишь. Все,
Катя, выписываюсь. Так что будь здорова
с Мишуткой. Дай тебе бог всего, что мне
не дал. Не забывай! Да не попадайся,
смотри, как мы с Клавой.
Маруся говорила,
а Катя все никак не могла примирить свой
сон с явью. И странная — подспудная,
вопреки разуму — уверенность овладела
ею: Маруся каким-то образом знает, что
я сейчас видела во сне! Вон как смотрит!
Какие у нее понимающие, насмешливые
глаза!
И знала ведь, что не может такого
быть, а ей все равно было стыдно перед
Марусей за свой сон. Словно, увидев его,
она совершила бестактность по отношению
к Марусе. Хуже чем бестактность! Будто
назло Марусе увидела она свой сон! Мол,
вот, я-то какие вижу! А ведь даже и во сне
тебя с собой не взяла на зеленый-то луг!
Нет, не взяла... Вот и домой уходит одна
Маруся...
Испуганными неподвижными
глазами смотрела Катя вверх на Марусю,
обеими руками держа одеяло у себя под
подбородком. И, наконец, дошел до нее
смысл Ма-Русиных слов: уходит, потому
что выписалась. Проститься подошла. Вот
и все.
Одним движением Катя села в
постели, схватила Марусю за руки, держащие
узелок, словно хотела ее удержать, не
пустить. Катя совсем проснулась, но
чувство стыда теперь за свою беспомощность,
бесполезность для Маруси осталось.
—
Маруся, Маруся,— шептала неловким,
картавым со сна языком,— Маруся, не
болей... Ты не поддавайся... Маруся, чтоб
у тебя все было хорошо... Вот увидишь...
Увидишь...
— Ага, Катя. Ничего! Живем
ведь... Ты не думай! Ну, пошла я. Бывайте
все здоровы!
Маруся тряхнула руками,
на которых лежали руки Кати, ответив
так на ее пожатие, и ушла.
Вскоре
явившаяся сестра перестелила Марусину
постель чистым бельем.
1976 г.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





