ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
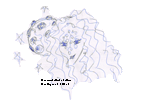
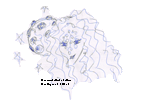

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Кащук Наталья 1983
— Какие же пышные да красивые цветы! Позвольте ближе приглядеться...
Нитка темно-синих, почти черных мелких бус охватывает тонкую шею; когда
женщина останавливается рядом, вижу, как пульсирует артерия под прозрачной
кожей, — даже вздрагивает беленький уголок платочка, завязанного под тугим
узлом волос. Любуется пионами, за одну ночь распустившимися из тугих бутонов.
Есть в этой женщине что-то от горлинки: доверие и грусть, беззащитность
шеи с черной ниточкой бус...
Всю палату наполнили бледно-розовые отсветы, аромат цветов приглушил
годами устоявшийся больничный дух. Заблудившаяся пчела, невесть каким ветром
занесенная даже сюда, на седьмой этаж, ярче оттеняет ту нежную розовость и сама
светится до тончайших коричневато-бархатистых мохнатых пушинок на спине, до золотых
порошинок перги на лапках.
— Возьмите и себе цветов.
— Нет, ой нет, любонька моя золотая, я только поглядеть хотела.
— Возьмите, очень прошу вас! — Вдруг остро почувствовала, что цветы
померкнут, что-то утратится от их красоты, если женщина ни с чем выйдет из
палаты.
— Помаленьку, помаленьку, не утруждайте себя. Я возьму. А вы —
поправляйтесь и красивы будьте, как эти цветы!.. Спасибо вам за них большое,
то-то Гринику моему будет утеха. Сынок ведь тут у меня. Знаете?
Знаю. Весь наш этаж знает. Парню уже восемнадцатый, а он щуплый, хилый,
светится, как тонкое влажное полотно против солнца, одни глаза на бледном лице,
тревожные, глубокие, как омут.
— И где только он подхватил эту тяжелую болезнь, мое доброе дитя? —
выплескивает свою давнюю боль женщина. — Заходится от хрипа, аж синеет. Этой
весной стал проситься: везите и везите в Киев. Хочу быть здоровым, как все
дети. А прежде не давался докторам, не давался в больницу отвезти.
— А чего ж вы его не уговорили?
— Детка моя золотая, разве я на то способна? Я бедная, темная женщина.
Видела, что Гриню плохо, что не от добра он лежит. А кабы отвезла в район или в
Черновцы — то, пожалуй, и совсем на погибель. Тогда разве что пальцы бы грызла,
что сама свое дитя погубила. — Женщина подошла к кровати, нагнулась ко мне: — А
нынче весной стала я замечать: каждый день воркует мой Гриня возле тына, пасет
глазами соседскую Богдану; пригожая девчушка, я вам скажу... Кому-то невесточка
растет. — Погрустнела. Отдалилась взглядом и мыслями.
— Гриша у вас один?
— Один, один — как сердце в груди... Божечку мой, только бы дохтора спасли
мое дитятко! Нынче на обходе профессор скажет, будет моему Гриню операция или
нет. До сих пор его просвечивали, прослушивали, какую-то трубку в самое сердце
пускали. Да-да!.. Каждое дело надо хорошенько подготовить... Я простая женщина,
с профессорами не равняюсь, но знаю, что честь и совесть людскую в себе надо
лелеять: полы мою — то чтобы каждая дощечка аж смеялась; бураки или кукурузу
пропалываю — землицу как перинку взрыхлю — пусть корень дождевую водичку пьет,
пусть листочек шелком зеленеет. А сердце резать — не бураки полоть... — И снова
печаль и боль на лице. — Намучили мое дитятко. Но — нужно. Они же, дохтора,
тоже хотят как лучше.
— Вот и будет все хорошо!
Хочу и сама верить в то, что говорю; забыть жалостливые взгляды нянечек
и сестер вслед Грише, сдержанную молчаливость хирургов при его появлении: тяжелый,
безнадежный... Разве что, может, сам профессор возьмется оперировать, тот
спасет.
...Со стеблей скатывается каплями вода, женщина подставляет лодочкой
ладонь. И в такой малости — ее натура, чтобы все опрятно, ладно, в чистоте
было.
За что же ей кара? Этот смертельный недуг единственного сына?
Зачем родилась она такой кроткой и податливой, что подчинялась воле и
желаниям даже малого ребенка? Хотя, во имя добра того ребенка, нужно было ту
волю сломить, подчинить здравому смыслу.
Почему фельдшер или медсестра, или кто там еще бывал в далеком
гуцульском селе, не позаботились о больном хлопце? Почему в школе не били
тревогу? Теперь они тщетны, как ливень на выжженном засухой поле, эти «зачем?»
и «почему?». Для каждого, кто пришел в эту больницу, свои «зачем» и «почему».
Доколь же на заостренных разломах беды, на терниях равнодушия, будет
зависать и гибнуть беззащитным лепестком человеческая жизнь!
Женщина ничего не говорит на прощанье, бесшумно прикрывает дверь.
Весь день пытаюсь избегать взглядом о́кна операционного корпуса — он прямехонько напротив моей палаты. Там за
широченными, как ворота, сплошными стеклами меркнет солнце, там властвует иной
свет — какой-то словно бы ненастоящий свет бестеневых ламп. В нем только резко
белеют маски и бахилы (одежда у врачей теперь зеленоватая, голубая или
желтоватая), слепит, как беззвучный крик, блеск хирургической стали.
Свет не выключают там и вечером, и кажется, что в зеленоватых сумерках
плавают и звуки музыки. Магнитофонные записи органных концертов звучат во время
операций, чтобы ослабить нервное напряжение хирургов. Звуки музыки в
зеленоватых сумерках... Голубиная кротость утренней гостьи... Что-то давнишнее,
из призабытой юности, тронули они в памяти. Какие-то заслоны снял тот тихий
голос, какие-то сорвал гребли и гати тот взгляд, пробудив ощущение, пережитое в
майской Праге.
Пражская весна... Пражское яро[1]...
Древний город, залитый паводком цветущей сирени, таинственные фигуры Карлова
моста, отраженные, как в зеркале, в тихоструйной Влтаве, медленное вращение
широких лопастей мельничного колеса поблизости кофейни «На Мораве»; и в небе,
прошитом зеленовато-серебряными полосами то ли лунного света, то ли звездной
пыли, — графически четкие, заостренные средневековой готикой башни Градчан.
Один на один с осиянным миром; короткое пронзительное мгновение, когда опадает
все будничное и обычное, и ты, легкий, крылатый, увлеченный течением созвездий,
мерцанием звездной пыли, ринешься за ними вечной частицей света...
В ту ночь словно сошлись вместе семеро легендарных советников-хранителей
и один за другим отперли семь ворот — каждый свои, своим ключом, за последними
засияла золотая корона, скрытое от повседневности диво. Только все семеро,
только семь ключей вместе могли явить его, тот золотой венец, пред людские очи.
И если бы не пришел хоть один из хранителей, если бы вдруг был потерян хоть
один ключ, — безвластными, бессильными стали бы и шестеро остальных...
Далекая пражская ночь, мягкое округлое «л» в речи моего спутника, ветка
цветущей сирени, которую он наклонил, чтобы вдохнуть аромат, наклонил, не
сломал, оберегая благодать и тишину, разлитую вокруг...
Неужели, неужели это все — снова мое? Неужели миновало самое худшее? И
весны, и серебряные ночи — мои опять? Жизнь — моя?..
Жизнь — моя! С этим просыпаюсь утром. Наклоняюсь к цветам.
А как же там с Гришей? Что сказал женщине профессор?
Осторожно, словно ступая по льду, иду в дальний конец коридора. Гринина
мать стоит у столика дежурной сестры, непослушными пальцами разглаживает
невидимые складки на халате, потом снимает его, тщательно складывает. На мой
немой вопрос опускает глаза:
— Сказали профессор, чтобы Гриню хорошенько все лето кормила,
полонинским молочком поила, меду давала. Сил ему надо набираться. Операцию
перенести — не стог сена выметать... Мед полонинский — он помочливый. Буду
давать дитятку... А на осень приедем опять.
Она так хотела уверовать в эту святую неправду. Ибо как же ей иначе пройти с сыном его последнюю, уже недолгую дорогу?
[1] Весна (чешск.).
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





