ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


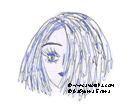
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Путилина Валентина 1986

Попутчики
Четыре дня минуло с тех пор, как вышла Груня из дому, а кажется,
давным-давно все идет и идет. По проезжим дорогам, по тропинкам и стежкам. Идет
босая, за спиной котомка, в руках толстая палка-посох.
Встречные любопытствуют: далече это она путь держит?
— В уездный город Севск, — отвечает Груня.
Засверкали на солнце купола церквей — Севск показался впереди. Туда и
надо Груне. Там конец ее долгого путешествия.
Глазам видно, да ногам обидно. Город будто испытывает Грунино терпение.
Отступает, прячется за рекой, никак до него не добраться. А уж, поди, не ранний
час. Высоко забралось майское солнце, припекает во всю мочь.
Груня спустилась к реке, опоясывающей город, с облегчением сняла котомку
и напилась прозрачной речной воды. Потом вымыла ноги и достала из котомки
лапти. Она берегла их. Лишь всего два раза обувала в дороге — под Погаром и
Трубчевском. Теперь тоже надо обуться: не пойдешь в город босиком. И
запылившийся платок надо сменить на чистый.
Она немного передохнула в тени под ракитой и направилась по большаку к
городу.
Вскоре ее обогнала подвода. Ехали двое деревенских: мужчина и женщина.
Одеты нарядно. Женщина в расшитой кофте и темно-синей, красными клеточками
юбке, поверх — холстинный передник, на голове высокий кокошник. Мужчина одет
по-городскому: в черных брюках, шерстяной рубахе и жилете. Видно, на
празднество торопятся оба.
Подвода остановилась, и женщина окликнула Груню:
— Издалече идешь, голубушка?
— Да из Матреновки, — ответила она. — Из-под Стародуба.
— А путь-то далек! — удивился мужчина. И поинтересовался: — На ярмарку в
Севск?
— Нет, — ответила Груня, — про ярмарку я и не ведала. Мне к здешней
учительнице нужно. Письмо ей несу.
— А мы на ярмарку, да немного припозднились, — сказала словоохотливая
женщина и пригласила Груню: — Садись, подвезем.
— Спасибо, тетушка, — поблагодарила та. — Я и вправду заморилась. Много
уже верст отмахала, не сосчитать.
И села на повозку. А женщине интересно, допытывается у своей случайной
попутчицы:
— Удивительно мне, какое такое у тебя важное письмо, что его и почте
нельзя доверить? Сама несешь.
— Не знаю, как и пояснить, — задумчиво отозвалась Груня. — Письмо это и
впрямь важное: наш деревенский учитель его написал. Просит, чтоб мне помогли в
Севске выучиться на сестру милосердия. Слыхали, война сейчас в болгарской
стране с турками идет?
— Как не слыхать? — ответил мужик. — Приезжали к нам люди из Севска,
минифест зачитывали, что Россия решила помочь болгарам.
— Ну, так вот, — продолжала Груня, — я и собралась в Болгарию ходить за
ранеными.
Женщина так и ахнула:
— Аль жить тебе надоело? В уме ты, девка? Вон какая молодая! Годов-то
тебе сколько?
— Восемнадцать, — ответила Груня.
— А родители? Неужто не были против?
— Благословили в путь, хоть и сильно кручинились. Мол, трудно будет. Я и
сама понимаю, что нелегко, а надо.
Голос у Груни спокойный, рассудительный. Сразу чувствуется, говорит о
том, что крепко продумано.
Женщина покачала головой и с жалостью посмотрела на девушку.
— Брось ты эту затею, — стала отговаривать она. — Разве тебе дома плохо?
Или там тебе, на болгарской земле, два солнца взойдет?
Груня засмеялась.
— Что ты, тетушка! Мне и одного солнца хватит. И дома мне хорошо. — И
уже серьезно сказала: — Ты по-своему рассуждаешь, а я иначе. Мне последнее
время так и слышится, будто кто на помощь зовет. Как же не откликнуться? У меня
ведь два брата добровольцами ушли на войну. Я просила, когда они уходили:
«Возьмите меня». А они в ответ: «Какой
из тебя солдат?» Почему же я не гожусь в солдаты? Сил-то у меня много, я знаю.
— Что и говорить, — согласилась с ней женщина. — Ладная да крепкая
выросла, это каждому видать.
Груня продолжала:
— Старший брат Егор, спасибо ему, присоветовал: «Иди в город, там,
слыхать, есть курсы сестер милосердия. Коль возьмут, старайся, познавай науку.
Будет нужно на войне». Наш деревенский учитель поддержал меня, написал письмо в
Севск своей сестре, чтоб она помогла мне поступить учиться. Вот зачем я тут. И
ты, тетушка, не отговаривай меня, лучше пожелай доли да везенья.
— Да жалко мне тебя, несговорчивую, — не могла успокоиться женщина. —
Жалко.
За разговорами не заметили, как доехали до Соборной площади, где
раскинулась ярмарка. Груня соскочила с повозки и низко поклонилась своим
попутчикам.
— Спасибо, что подвезли. — И добавила с веселым участием: — А ты, тетушка,
не огорчайся за меня. Вот увидишь, все будет, как надо.
Спокойный пытливый взгляд, веселые искорки в серых глазах, сама сильная,
решительная, не робкого десятка, такая добьется своего.
— Удачи тебе и счастья, — ласково пожелала ей женщина.
А ее муж сказал:
— Может, встретишь на войне брата моего — нет от него вестей, передай,
что все у нас справно. Петром Семеновым его звать.
Груня согласно кивнула головой. Отчего не передать? Лишь бы встретился.
На ярмарке
Ярмарка была уже в самом разгаре. Кругом шум-гам, свист, песни. На
Соборной площади сбились телеги с сеном. Мычат привязанные к телегам коровы,
визжат поросята, блеют овцы, пофыркивают лошади, громко торгуются покупатели с
продавцами.
Поблизости от Успенского собора играют на лире слепцы.
Мальчишки-поводыри тянут жалостливую песню, просят подаяния. Им бросают, кто
копейку, кто краюшку хлеба, кто пирог.
Деревенский люд, съехавшийся на ярмарку, приоделся. Особенно — девушки:
в цветных сарафанах с передниками, отороченными красной тесьмой. У некоторых
сверху наброшена кофта из белой шерсти. Мелькает синий, красный, зеленый цвет,
сливаясь в одно яркое, веселое разноцветье.
Груня загляделась на все вокруг, даже о своих неотложных делах забыла на
время.
Вон собралась толпа народу, больше всего ребятишек — представленье
глядят. Груня ахнула: медведь! Хозяин заставляет его показывать разные фокусы.
— А ну, миша, — говорит он, — покажи нам, как старая бабушка ходит.
Мишка разом пошел. На нем передник, в руках палка. Он тяжело опирается
на палку, идет, чуть прихрамывает. Кругом смех. Вот ведь какой способный,
правильно показывает!
Хозяин снова спрашивает:
— Миша, как молодайки ходят? Ну-ка, покажи. Уважь.
И тут медведь не оплошал, мигом отбросил палку и пошел пританцовывая.
Весело ему, публика тоже веселится.
— Ай да миша! Артист.
Нехотя оторвалась Груня от забавного зрелища. Надо поторапливаться, а то
не заметишь, как день пролетит.
Ах, ярмарка, ярмарка, один соблазн! Кругом жареное-пареное, сладкое, с
кислинкой, на любой вкус.
Груня заглянула в лавку, крытую брезентом, специально к ярмарке
состроенную. Бока открыты, и все, что на столе лежит и на полках, видно. Стоит
народ, любуется, выбирает гостинцы, какие глянутся: бублики березовые, белые,
рассыпчатые, пряники мятные, конфеты в ярких завертках, мягкие калачи, ватрушки
душистые, хлебцы медовые. Выбирай, чего душа запросит.
Кто-то взял целую снизку березовых бубликов, кто-то попросил полфунта
мятных пряников, другие стоят в нерешительности: им бы чего подешевле да
побольше.
Подскочил мужик-извозчик, в руке кнут, долгополый армяк ремнем
подпоясан. Сам мужик крупный, огненно-рыжий, и глаза рыжие, затаенно смеются, а
вид серьезный, брови хмурит. Расступись народ, некогда ему. Остановился у всех
на виду, громко спрашивает:
— Душа, чего тебе хочется? Выбирай! — И показывает на калачи: — Этого?
Прислушался, будто ждал, чтобы отозвалась душа, и сам себе сказал:
— Не надо нам калачей, выбирай что другое. Может, это подойдет? — И тут
же укорил душу-лакомку: — Ишь куда загляделась! Халвы захотела! Пошли-ка лучше
домой, на картошку-нелупёшку, нашу мужицкую еду.
Рыжий мужик ни на кого не взглянул и вышел из лавки. А все засмеялись.
Шутник! Укудрил потеху, угостил, называется, душу. Только разбередил ее.
Груня тоже улыбнулась. Такие развеселые люди и у них в Матрёновке есть.
С ними не пропадешь: шутку все любят. Но свою душу не обидела, купила два
пряника.
Рядом с лавкой обжорный ряд, где можно недорого поесть. Хочешь щи
горячие, хочешь котлеты или отварную воблу. Поблизости столпились нищие, ждут,
не перепало б чего: кусок хлеба, остатки супа.
У Груни с вечера маковой росинки не было во рту. Не выдержала, зашла в
обжорный ряд. Торговка налила ей тарелку щей на три копейки. И Груня стала не
торопясь есть. Но вдруг почувствовала чей-то пристальный взгляд и отложила
ложку. На нее глядела девочка в оборванном платьишке, в глазах голод. Груня
подозвала ее к себе.
— Поешь, детка, милая, — сказала она.
Девочка принялась жадно хлебать щи, а Груня вздохнула. Жалко нищенку,
видать, сирота бездомная. И отдала ей один пряник, с другим села за стол с
большим кипящим самоваром, попить чаю. Сначала она была одна. Потом сразу
появилось много народу. Из разговора поняла, что провожают на войну молодого
крестьянина.
Шумно ввалился уже знакомый огненно-рыжий мужик, который широко угощал
самого себя и не угостил, и тоже потребовал чаю.
Рядом с Груней сидит молодица, ее-то муж и уходит на войну. Тут же вся
большая мужнина родня.
Молодица торопливо глотает чай, обжигается, щеки пылают, в глазах испуг.
Выпила стакан, ей новый несут, выпила тот, подают еще. Она заплакала. Свекор
строго спросил:
— Ты чего?
— Батюшка, — плача ответила невестка, — да я не хочу больше, а мне все
подставляют стаканы.
— О, голова еловая, — укорил ее свекор, — зачем же пить, коли тебе не
хочется?
— Да совестно отказываться. Он приносит и приносит.
Груня всмотрелась в ее тревожные глаза и поняла: не из-за чая плачет
молодица, страшно ей мужа провожать на войну. Невмоготу расставаться с ним.
Понял все и молодой муж.
— Ничего, ничего! — сказал он. — Не плачь, не пропаду я. А ты жди меня.
Разом все за столом заговорили о войне. Рыжий мужик-балагур стал серьезным.
— А я, люди добрые, в Орле был, с мужиками в извоз ходили, — пояснил он.
— Там Самарское знамя видел.
— Какое такое знамя? — загалдели все разом. — Что-то мы не слыхали,
растолкуй.
— А вот какое, — начал рассказывать он, — я все разузнал. Для болгар его
сшили у нас в России, в городе Самаре, оттуда повезли в Болгарию. По пути
побывало, говорят, оно сначала в Москве, потом выставляли в Туле. И в Орле тоже
задержали ненадолго, чтобы могли поглядеть на него русские люди, поклониться
ему. Я как услыхал про Самарское знамя, тоже пошел поглядеть. Не мог упустить
такого случая.
— А то как же, — поддержали его слушатели. — Верно поступил.
Он окинул всех быстрым взглядом и продолжал:
— Люду-народу шло к этому знамени — не сосчитать: стар и млад, и знатные
и простые, и городские и наш брат мужик. Все как единая семья шли. Такое
сочувствие болгарским людям. Я люблю до всего дознаться, расспросил: куда, мол,
дальше повезут знамя? Ответили, что в Румынию, там сейчас собрались болгарские
ополченцы. Под этим знаменем они пойдут изгонять со своей земли турок.
Все одобрительно закивали, заговорили вразнобой. Мол, хорошо, что сшили
в Самаре знамя, и желали победы болгарам. Груня слушала молча, потом не
утерпела, спросила рыжего мужика:
— Мил-человек, — не знаю, как тебя называть, — опиши, какое с виду
Самарское знамя?
На нее поглядели, кто-то осудил: бойкая. Но Груня не смутилась, спокойно
ждала ответа.
— Ну, коль тебе интересно, зовут меня Захаром Терентьевым, — представился
мужик и молодецки тряхнул головой. — А про знамя скажу: большое оно, трех
цветов. Полоса красная, другая белая и третья синяя. На одной стороне крест
изображен, я заметил. И еще прочитал надпись на ленте: «Самара, Болгарскому
народу».
Груня на секунду зажмурилась, чтоб представить себе облик знамени и
покрепче утвердить в памяти. И с уважением подумала о Захаре Терентьеве: «Разве
узнаешь человека с первого взгляда. Шутил, смеялся, а то враз стал серьезным. И
глаза, оказывается, серьезные, и речи умные. Все к нему обращаются, вроде
каждому стал хорошим знакомцем. Расскажи, просят, что слыхал про войну».
— Одно знаю, — сказал он, — спешить надо на помощь болгарам. Слыхал я,
поднялись они там прошлой весной против турок, так те страшной казнью их заказнили,
ни детей, ни женщин не пощадили, живьем сжигали. Говорить жутко, волосы дыбом
встают.
— Не может быть того! — не верили люди, слушавшие Захара.
Другие ахали:
— Да что ж за лютость такая! Надо всем миром вызволять болгар, пока они
еще живы.
Молодица вскрикнула вдруг:
— Не ходи! Сгинешь ведь там! Не пущу! — осмелела она от страха за своего
мужа, заговорила во весь голос.
— Помолчи, — смутился он. — Совестно. Или забыла — меня народ на мирской
сходке избрал идти, доверил серьезное дело, а ты говоришь пустое. Вернусь я. —
И отцу: — Пора нам ехать, тятенька.
Все встали из-за стола. Захар пожал руку добровольцу.
— Воюй, браток, не теряйся! Нужно будет, пособим! — сказал он весело,
глаза вновь улыбчивые, и пошел к своей подводе.
Пошла и Груня разыскивать учительницу, адрес ее на конверте записан. Но
тут же остановилась: увидела старика-шарманщика с голубем на плече. Голубь
вытаскивает билетики из ящичка. В них обозначено счастье, кому какое выпадет.
Груне не захотелось испытывать судьбу, заглядывать вперед. Что было — знает,
что будет — увидит. Человек сам кует свое счастье, знать бы только, в чем оно.
С трудом пробралась Груня через тесную толпу и вышла на главную улицу
города — Киевскую, отсюда самый короткий путь из Киева на Москву.
А вслед ей еще долго несется ярмарочный шум. Не песни, не музыка, не
свист — издали все это теперь превратилось в один слитный голос ярмарки. И на
этот голос со всех концов спешат люди. Кто продавать, кто покупать, а кто
просто поглазеть на разные представленья.
Веселый, голосистый праздник ярмарка!
В доме
учительницы
На Киевской улице Груня остановила прохожего.
— Мне надобно учительницу, Зайцеву Ольгу Андреевну. Может, слыхал?
— Как не слыхать? — удивился прохожий. — Я старожил, весь век тут живу. —
И стал объяснять: — Видишь переулок? Так ты в него не сворачивай, иди прямо,
второй — тоже пройди. А увидишь третий, заверни и очутишься на улице
Никольской. Там большой дом под зеленой крышей, он сам тебе бросится в глаза —
один такой. Запомнила?
— Спасибо, — сказала Груня, — запомнила. На что лучше растолковал, всяк
поймет.
Она вышла на Никольскую улицу и как будто в родные места попала. Улица
здесь поросла травой, и не было, как на Киевской, двухэтажных каменных домов, а
только низкие, приземистые, с палисадниками. На заборе сушатся кувшины из-под
молока, ходит коза на привязи, резвятся телята. На завалинках сидят парни и
девушки, громко разговаривают, поют песни. Веселятся люди — ярмарка!
Груня всем подряд говорит:
— Здравствуйте вам!
Ей отвечают:
— Здравствуй!
Она без труда отыскала дом учительницы — он и вправду, как сказал
прохожий, выделялся среди других домов, — постучалась в дверь. На стук вышла
невысокая темноволосая девушка в белом фартуке. Спросила, что ей надо.
— Я к учительнице, — проговорила Груня. — Письмо ей принесла.
— К Ольге Андреевне? — удивилась девушка.
Она с любопытством поглядела на Груню и дружелюбно улыбнулась. Глаза
карие, живые.
— Пойдем, — сказала она.
Провела Груню на веранду, оставила ее там одну и понесла письмо
учительнице. Вскоре они вернулись вместе. Груня узнала учительницу, хоть
никогда и не видела ее. Похожа на брата, который учительствовал в Матрёновке.
Ольге Андреевне было лет за пятьдесят, худощавая, высокого роста. Седые
волосы собраны в большой пучок.
— Здравствуйте, голубушка Груня, — поздоровалась она первой.
Груня поклонилась ей.
— Я прочитала письмо, теперь все про вас знаю, — продолжала Ольга
Андреевна. И попросила девушку, которая впустила Груню в дом: — Соня, покормите
нашу гостью. Она ведь издалека пришла.
— Спасибо, — отказалась Груня. — Я на ярмарке поела и чаю попила.
— Тогда пойдемте ко мне, поговорим о вашем деле, — сказала Ольга
Андреевна.
Груня оставила котомку и палку на веранде и пошла вслед за учительницей
в комнату. Огляделась и ахнула: все заставлено шкафами с книгами.
— Неужто столько книг написано! — в изумлении воскликнула она.
Ольга Андреевна улыбнулась.
— Вы любите читать?
Груня смущенно взглянула на нее.
— Я ведь недавно научилась грамоте, — сказала она. — И до сих пор
привыкнуть не могу, какое же мне счастье! Первое время все хожу и складываю
слова из букв. Я уже и книжки кой-какие прочитала, только тонкие. И то всех
удивила. У нас как в деревне? «Незачем вам, девки, учиться, — твердят все в
один голос. — Прясть да ткать — вот лучшая наука». А мне страсть как охота
читать. Должно быть, все книги интересные? — И одернула сама себя: — Не о деле
я говорю. Ты мне лучше про курсы сестер милосердных расскажи. Как туда попасть?
Ольга Андреевна сочувственно вздохнула.
— Грунечка, — сказала она мягко, — не хотелось бы вас огорчать, но что
делать? Нет в нашем городе таких курсов. Пока нет.
Груня даже переменилась в лице.
— Как же мне быть теперь? — растерянно проговорила она. — Может, еще
где-нибудь учат? Городов-то у нас в России много. Ты назови покрупней и
поважней Севска.
— В нашей губернии самый главный — Орёл, — сказала Ольга Андреевна. —
Мне думается, там должно быть отделение Красного Креста. Да только, милая
Груня, вы не представляете себе, сколько до Орла верст. Не меньше полутораста.
А железной дороги в нашем городе нет. Как вы туда доберетесь?
— Да пешком! — воскликнула вновь воспрянувшая духом Груня. — Есть о чем
горевать! От Стародуба тоже не ближний свет, а я дошла к тебе сюда, не
уморилась. И до Орла дойду. Может, там и на Самарское знамя погляжу, поклонюсь
ему.
— Откуда вам известно про Самарское знамя? — удивилась Ольга Андреевна.
Груня довольно улыбнулась.
— Народ говорит, — сказала и пояснила: — Мужик, Захар Терентьев, был в
Орле, своими глазами его видел и нам про то на ярмарке поведал. Может, ты
знаешь что про знамя, расскажи.
Она уже успокоилась, приняв решение идти в Орёл. Неуемная
любознательность взяла верх над беспокойными мыслями.
— Снова вас огорчу, Грунечка. Боюсь, что в Орле уже нет Самарского
знамени. Сейчас оно должно быть где-то в пути, — сказала Ольга Андреевна. —
Возможно, уже в Киеве, потом его передадут болгарам.
— Скорей бы освободили их от турок! — вырвались у Груни слова от всей
души. — Как же им тяжко приходится! Брат Егор говорил, что они уже пятьсот лет
томятся под игом. Там турецкое иго, а у нас татарское было, — вспомнила она. —
Тоже тогда хлебнул горя горького наш люд.
Ольга Андреевна закивала головой.
— Верно, Грунечка, верно. И мы пережили страшное время. Триста лет, да
каких лихих! Вот у нас в Севске есть место, которое называется «татарское побоище».
Много там пролилось крови. На том месте построен Свято-Троицкий монастырь. Вы
проходили мимо него, когда шли ко мне с ярмарки по Киевской улице.
Ольга Андреевна на мгновенье задумалась, потом сказала:
— Мне очень хочется вам помочь, Грунечка. Подождите меня тут, а я схожу
в нашу земскую больницу. Может, вас возьмут ухаживать за больными, обучат этому
святому делу. И не надо будет на курсы сестер милосердия поступать. Да, да, —
обрадовалась она своей мысли. — Вот и выход. Отдохните пока с дороги, а я скоро
вернусь.
Но вернулась она нескоро. И по огорченному виду учительницы Груня
поняла, что хлопоты ее были тщетными. Так оно и оказалось.
— Ничего! — узнав об этом, сама стала утешать она расстроенную Ольгу
Андреевну. — Ты не горюй. А своего решенья я все равно не переменю — как
задумала, так и сделаю: пойду в Орёл. Спасибо, что ласково приветила. Мне пора.
— Нет-нет, никуда я вас не отпущу на ночь глядя, — остановила ее
хозяйка. — Сейчас вместе пообедаем, поговорим. Вы про моего брата расскажете,
как ему живется в вашей Матрёновке. Переночуете, а завтра с новыми силами в
добрый путь.
Груня не стала отказываться. Ей тоже хотелось поговорить с учительницей,
расспросить, что пишут в газетах про войну, узнать от нее, знающего человека,
какая она, болгарская земля, и какие люди там живут.
Разговору хватило до позднего вечера, и обеим было интересно слушать
друг друга.
Ольга Андреевна с уважением глядела на Груню. Малограмотная крестьянская
девушка оставляет дом и идет в далекую даль. Не ради корысти, а чтобы помочь
людям, которые живут за горами, за долами. В тысячах верст от родного края.
Таких случаев в истории сразу и не припомнишь!
Как и многие русские, Ольга Андреевна душой была в Болгарии. Верила,
война с Турцией необходима, чтобы спасти болгарский народ от истребления
турецкими завоевателями. Освободительную войну одобряли и ученые, и знаменитые
писатели, и художники, и простой народ. В России был брошен клич: «Освободим
нашу славянскую сестру!» И создавались народные ополчения, собирали
пожертвования для Красного Креста.
Груня слушала Ольгу Андреевну и все больше утверждалась в своем желании
стать сестрой милосердия. Она будет ею, каких бы усилий это ни стоило!
— А ведь на дворе уже ночь, — заметила Соня.
Груня сразу поднялась из-за стола.
— Спасибо за хлеб за соль, за милость вашу, — поблагодарила она хозяйку
и Соню.
— Я и не заметила, как стемнело, — удивилась Ольга Андреевна. И,
обращаясь к Груне, как-то проникновенно произнесла: — Я верю, Грунечка, все у
вас сбудется. Цель ваша замечательная, и характер есть. Дерзайте! И счастливого
вам пути. Не забывайте нас.
«Не забуду, нет», — благодарно подумала Груня и низко поклонилась
гостеприимной хозяйке.
Хороший город
Чуть рассветало, когда Груня покинула дом учительницы. Ее вышла
проводить Соня и, прощаясь, дала узелок с едой.
— А это, — протянула она ей узелок побольше, — велела передать тебе
Ольга Андреевна. Тут платье. Придешь в город Орел, переоденься, чтоб
понравиться на курсах сестер милосердия. — И, дружески улыбнувшись, сказала: —
Знаешь поговорку: по одежке встречают, по разуму провожают. Разум-то ценят
потом, а сначала — одежка. Пускай тебя сразу встретят хорошо.
Груня быстрым движеньем отстранила узелок, в глазах появились сердитые
искорки.
— Не надобно мне, — ответила она с обидой, — разве я нищая? У меня свое
есть, сама шила.
— Хоть и есть, да деревенское, — возразила Соня и принялась ее
уговаривать: — Возьми, не гордись, вот увидишь, пригодится в дороге. Не обижай
учительницу, она добра тебе желает.
Груня помолчала, вздохнула и взяла платье.
— Передай поклон Ольге Андреевне, душевный она человек. И тебе спасибо
за привет и ласку.
Соня проводила ее за ворота, прокричала вслед добрые пожелания, помахала
рукой, и Груня пошла в сторону Соборной площади.
«Бывают же такие люди, — думала она с благодарностью об учительнице. —
Какая обходительная и простая! Сочувствия в ней много к людям, хоть и знатная
родом. Вот и брат ее тоже добрый. Тот победней живет — семейство большое, а все
равно готов всем помочь. Пошел в деревню народ грамоте учить. Спасибо ему».
Город только что начинал просыпаться. Хозяева открывают и привязывают
ставни. Хлопают калитки. Переговариваются между собой соседи, вспоминают
вчерашнюю ярмарку.
Груня свернула на Киевскую улицу, в глаза бросилась монастырская башня.
Видно, про это место говорила Ольга Андреевна: «татарское побоище». Странная
башня. Или это только кажется, будто она чуть наклонилась? Не упала бы.
Из большого каменного дома вышла женщина. Заметила, как пристально
смотрит Груня на башню, спросила:
— Ты что на нее уставилась?
— Боюсь, не упала бы. Или мне показалось, что она покачивается.
— А, — махнула рукой женщина. — На нее все приезжие заглядываются. Наш
сосед, учитель истории, так и совсем называет ее падающей башней. Рассказывает,
в Италии тоже есть такая падающая. Наша-то не падает, давно, сроду такая.
— И ладно, что не падает, — заметила Груня. — А смотреть на нее
интересно. Экое диво!
Она вышла на Соборную площадь, где вчера еще кипела ярмарка. Сейчас там
было пусто, кончился праздник. Лишь двое слепцов топтались на площади, видно,
заночевали где-то под лавками. С ними мальчики-поводыри, протирают глаза
руками, сладко зевают. Им бы поспать, да доля выпала рано трудиться, на хлеб
зарабатывать. Может, из погорельцев они, отправлены на заработки, или из
деревни, где неурожай случился.
Бом-бом-бом! — разнеслось торжественно над городом. Груня подняла
голову. Бом-бом! Это севские куранты отбили пять утра на колокольне древнего
Успенского собора. Доброе предзнаменование: провожают в дорогу торжественным
звоном.
Росная тропа привела Груню к речке. У моста она оглянулась и
залюбовалась городом. Уютно раскинулся он на холмах, красиво. Далеко ввысь
взметнулись золотые купола церквей. Вокруг — цветущие сады. Тихая река Сев
уходит к древней крепости. Следы седой древности повсюду: соборы, монастыри,
остатки боевых башен, рвы. Город- крепость.
Груня хоть и впервые видит Севск, но он был ей знаком по описанию. Матрёновский
учитель, когда посылал ее сюда к сестре, рассказал заранее про город, чтобы
знала, куда идет. Память у нее цепкая. Услышит какой-нибудь рассказ или что
увидит, на все время запоминает. Так и про Севск запомнила, какой он, как много
испытал вражеских нашествий и всегда оказывался победителем. Очень ей
запомнились слова учителя, которые он сам вычитал в исторической книге: «Вельми
хороший град Севск. А люди в нем живут доброхотны и приветливы». Так и
зацепилось в памяти слово «вельми», то есть «очень», и «град» вместо «город».
По-старинному.
Она и сама теперь убедилась: хорошие здесь люди.
Низко поклонилась городу и пожелала всем: «Пусть живут себе, радуются.
Да здоровы будут».
Стежки-дорожки
Немалый путь предстоял Груне до губернского города Орла. Но если не
запугивать себя, не впадать в сомненье: дойду иль нет, окажется, не так уж это
и далеко. Дней за пять можно, пожалуй, добраться. И она шла мерным шагом, не
пугаясь верст. Уморится — сядет, передохнет в холодке, попьет воды из родника
или речки, перекусит, что найдется. И снова в путь-дорогу.
От Севска до Комаричей сорок верст. Их одолела Груня как-то незаметно.
От Комаричей до Кром верст семьдесят, остались за спиной и они. Вот уже от Кром
к Орлу зашагала. Люди сказали, верст сорок до него осталось.
Идет себе Груня, все идет. И дни отлетают, как птицы по осени. Куда они
исчезают? И отчего так быстро уходят? Или они стали короче? Время сократилось?
Только звездочка зоревая поманит за собой, глядь, уж вечер подступил.
Месяц, круты рожки, выглянул. Над ним звезда-путеводительница — месяцу путь
указывает. Светильники небесные зажглись. Пора думать и о ночлеге.
Ночевать всюду пускали, никто не отказал в пристанище. А утром вновь
большак, обсаженный ветлами, проселки, стежки-дорожки. Иная тропка ведет к
лесу. И тогда чудится, еще, еще немного, и за деревьями покажется Матрёновка.
Но за ними — лесная опушка и диво дивное: три яблоньки лесных. Взялись за руки
и вместе шагнули к ней навстречу, стройные, в пышных бело-розовых платьях до
пят. Сердце забилось от такой красоты.
За яблоньками-подружками открылась полянка с елками. На них краснеются
молодые шишки. Сюда бы сейчас брата Егора, чтоб нарвать шишек. Они, молодые,
вкусные.
И сразу встал перед глазами родной дом. Вспомнилось детство, старший
брат Егор. Он добрый, последнее отдаст. Стоит чего пожелать, всегда исполнит.
Один раз, когда она болела, принес ей белую кувшинку, над самым омутом сорвал,
чтоб только ее обрадовать.
Федя тоже хороший, но Егора не сравнишь ни с кем, главное, очень
жалостливый. Бывало, другие ребятишки наловят птиц и посадят в клетку. А он
никогда не держал птиц в неволе и клеток не мастерил.
И еще справедливый он, с малолетства всем защитник.
«Где-то сейчас братец дорогой? — вздыхает Груня. — Хорошо хоть, что не
один, а с Федей, вместе легче, поддержат друг друга».
Будто увидела их рядом. Оба рослые, худощавые, оба как на одно лицо:
сероглазые, волосы вьются, светлые, пшеничные.
Братьев принимают за близнецов, а они — погодки: Егору двадцать лет, а Федору
девятнадцать. «Свидимся ли еще когда? — пронзила вдруг тревожная мысль. — Не
все ведь с войны возвращаются».
Мамушка с отцом тоже, наверное, беспокоятся. Мыслимо, отпустить на войну
двух сыновей и дочку. Другие бы удерживать стали, отговаривать, а они,
сердобольные, о себе меньше всего думают, все о других. Правда, ее еще мамушка
пыталась отговорить: «Нет у нас денег тебе на дорогу. Как доберешься?» — «Я и
без денег, не думай, — успокаивала ее Груня. — Ты только отпусти». И мамушка
смирилась, не стала удерживать. «Иди, — говорит, — видно, планида твоя, судьба
такая — идти».
Отец тоже не отговаривал. Только сказал: «Сил-то хватит? Не отступишься?
Ноша тяжела». — «Не отступлюсь», — твердо ответила Груня. «Я и сам знаю, — с
гордостью произнес он и благословил в путь. — Ступай! — сказал он. — Иди и не
бойся. Коль выйдешь — дойдешь. Ты малость поможешь, другой, каждый по силам
своим, глядишь, соберется много. Бог даст победу! Любовь и терпенье в твоем
деле».
Да, он хорошо знал характер своей дочки. Знал, до всего ей было дело, и
где случится беда, она первая спешит на помощь.
Три года назад страшная хворь напала на их край — азиатская холера.
Повально косила людей. Ужас объял Матрёновку и соседние села. Некоторые бросали
дом, а кто-то прятался под печку, думая уберечься от страшной хвори. На борьбу
с азиатской холерой из Москвы приехали сестры милосердия вместе с доктором.
Груня вызвалась помогать им.
Ее нарядили в белый халат, дали белую косынку, научили, что надо делать.
Она кормила больных, купала детей. Глаза ласковые, руки добрые, милосердные,
ободряющий голос, мол, ничего, все пройдет. И никакого страха в душе. Оттого,
видно, к ней и хворь не прилипала. А придет домой, вымоется хорошенько и
обкурит избу можжевеловым дымом — можжевельник рядом растет. Предосторожности
помогли: никто в их семье не заболел.
Трудно было, уставала невмочь, но себя не жалела, понимала, нужна сейчас
тем, кто страдает и охвачен страхом. И шла на помощь, не думая о себе.
Да и как можно по-другому? Себя потом сам заказнишь, коль не отзовешься
на чью-то беду.
...Прошлым летом горела Матрёновка. А началось все с малого. Соседка
пошла к колодцу за водой в конец села, да еще под горку надо спуститься. И не
подумала, оставила горящую печку. Уголек выстрелил из печки и угодил в кострику
— сухие отходы от конопли, сваленные внизу поблизости. Вспыхнул пожар, все
загудело, затрещало. Груня увидела дым, бросилась к избе — знала, там в люльке
младенец. А в дверь уж не пройти. Огонь перебросился на сарай, пополз по забору
к Груниному дому. Ей бы свой дом спасать, а она выбила окно в соседкином,
пробралась в горницу и вынесла из огня ребенка.
С поля бежал народ, чтоб не дать огню переброситься на другие избы. Да
разве остановишь его в жаркую июльскую пору? Многие в тот год стали
погорельцами. Сгорел и Грунин дом.
Кое-как одолели поставить хатенку, но еще не скоро наладится хозяйство,
долго еще придется бедовать погорельцам.
Поле не досеяно, хата не достроена, самая горячая пора сейчас: позарез
нужны дома работники. Как же там управятся одни мать с отцом? «Может, не должна
я идти? Не время? — встревожилась Груня. — Нет и нет! — твердо отвела она свои
сомненья. — Вернемся с Федей и Егором и поле засеем, и хату достроим. А сейчас
там, в Болгарии, нужна наша помощь. Надо идти».
Сердце велит — ему одному она и повинуется.
Вспомнилось, как под Севском отговаривала ее женщина: вернись, мол. «Иль
для тебя два солнца взойдет?» Не за двумя солнцами идет она. Но только чувствует,
коль не пойдет — одно ей будет тускло светить.
И никто ее не отговорит. Коль вышла — дойдет.
Дорожные
встречи
На небе появились тучи. Не появились — подкрались, словно кошка на
мягких лапах-подушечках, тихо, вкрадчиво. Правда, было все-таки предвещание,
что погода переменится: лес вдруг сам по себе зашумел, без ветра — к дождю. Но
она не придала этому значения.
Загромыхал гром, острыми стрелами впились в землю молнии. Совсем рядом.
Будто кто намеренно метил в нее да промахнулся. Хлынул сильный ливень.
Груня поспешно схватила котомку и прижала к себе, стараясь загородить от
дождя. Богатому жаль корабля, убогому — кошеля. В котомке все ее богатство.
Дождю — шутка, поиграл и умчался, а Груня успела до нитки вымокнуть.
Теперь надо обсушиться, мокрая одежка прилипает к телу.
Она сняла сарафан с кофтой, развесила их на кустах и надела платье, что
подарила учительница; длинновато, но можно подшить. Иголка и нитка у нее с
собой.
Груня поправила свою длинную косу и погляделась в маленькое зеркальце.
Маленькое, да памятное, дорогое: любимый брат Егор купил, когда ездил в город
Стародуб. Он всем привез гостинцев, а себе ничего.
В зеркальце видать: платье ей к лицу. Не хуже, чем у Клаши с Евлашей. В
детстве Клаша с Евлашей были негордые, дружили с ней, хоть и дочки управляющего
имением. Дружили больше всего из-за того, что она знала много сказок, а они
любили ее слушать. Зазовут в господский сад, сядут под большим кустом жасмина и
просят: «Расскажи новую сказку». А сами оглядываются, чтоб ненароком кто из
прислуги не увидел их вместе, не то родители заругают. Потому что она бедная, у
них же отец — барин.
А Груня, хотя и прожила на свете десять лет, и не подозревала, что она
не такая, как Клаша с Евлашей. Жила себе как живется, бедности не стеснялась,
никому не завидовала и сызмальства трудилась, как все у них в доме.
Она ходила за три версты на помещичье поле полоть свеклу и окучивать
картошку. Как и другим детям, ей платили пятнадцать копеек в день. Потом за
сноровку и трудолюбие перевели ко взрослым. Она выполняла одинаковую с ними
работу и получала теперь уже на пять копеек больше. Родителям заметное
подспорье.
Мамушка жалела ее. Тяжело ведь вставать на утренней зорьке и
возвращаться на вечерней. Не хотела будить в четыре часа, а она сама заставляла
себя проснуться вовремя, чтобы не ушли без нее на подёнку.
С поля возвращались хоть и до смерти усталые, но всегда с песней,
большей частью одной и той же:
Уж как пал туман на сине море,
А на синем море корабель плывет.
Как на том корабле три полка солдат,
Три полка солдат, молодых ребят...
Груня выводит каждое слово с восторгом, от всей своей радостной души.
Хорошо вот так всем вместе идти! Тяпки на плечо, словно солдат ружье, бодрый
шаг, вся усталость долой.
Однажды она возвращалась с поля одна. Только что прошел сильный дождь, и
сияло солнце. На мосту ее обогнала коляска, в ней сидели Клаша с Евлашей в
белых легких платьях, на голове шляпки. Сестры заметили Груню, но проехали, как
незнакомые.
А она стояла и смотрела им вслед. Маленькая, в измокшем от дождя
сарафане; босые ноги, на плече тяпка с привязанным наверху узелком с едой.
Неожиданно для себя она подумала: «Отчего это? Клаша с Евлашей нарядно
одеты, в коляске ездят и на поле не ходят полоть? Отчего мы совсем не так живем?»
Подумала без зависти, с любопытством. Больше об этом она как-то не
задумывалась. Что ей Клаша с Евлашей? У нее своя жизнь. И вспомнились они обе
сейчас случайно, из-за городского платья.
Груня прилегла на траве под кустом и незаметно уснула. Проснулась, и,
как часто бывало дома, ее охватила радость. Наверное, оттого, что чувствовала
себя крепкой и здоровой, что знала, куда и зачем ей идти. И еще оттого, что
кругом все зелено и пахнет после дождя свежестью.
Рядом поднялись заросли стебельчатого аира. Если развернуть побуревший
стебель у самого корня, можно его съесть. И гусиный лук тоже съедобный. А
медуницы с баранчиками приятней сладких карамелек.
Низко над берегом пролетели дикие утки. Из лесу донесся чистый голос
иволги, цивкали овсянки, закуковала кукушка. Груня сбилась со счета, сколько лет
жизни посулила ей вещая птица.
Гудят шмели и пчелы. Важно выхаживает по мелкой воде аист. Схватил
добычу и полетел к своему гнезду кормить семейство.
Все вокруг мирно, по-домашнему. Даже не верится, что так далеко отсюда
Матрёновка.
Груня потрогала развешанную на кустах одежку. Почти сухая, можно
переодеться и в путь. Она уже знала, до Орла теперь рукой подать, надо только
выйти лесной тропой на большак.
Леса она никогда не боялась. Расхаживала в нем, будто по своему саду. Не
прислушивалась, не крадется ли кто следом. Чего бояться на своей земле?
Но сейчас непонятно почему ей стало боязно в незнакомом лесу. Услышит легкий
треск и оглядывается, ищет глазами, кто наступил на ветку, какой лесной зверь.
То послышится неясное бормотанье. А то вдруг явственно почудилось: кто-то
прячется за кустами. Страх охватил Груню. Кто-то тут есть! Недобрый человек!
Она кинулась бежать, не разбирая дороги, пока не зацепилась котомкой за
ветку дерева и не рассыпала свои вещички. Наклонилась, чтобы подобрать их. А
когда подняла голову, ужаснулась: перед ней — мужик. От страха и лица его не
разглядела, одна широкая смоляная борода.
Мужик как-то грустно усмехнулся, покачал головой.
— Не бойся, я не убивец. — И попросил будто даже виноватым голосом: —
Хлебцем я у тебя не разживусь?
— Отчего ж нет? — заторопилась Груня и вынула краюшку хлеба. — Бери,
мил-человек, а больше нечем попотчевать.
— Спасибо и на том, — поблагодарил бородач и отправился своей дорогой,
жуя хлеб на ходу.
Груня опустилась на пенек и какое-то время сидела в оцепенении. Потом
успокоилась. Не так уж он страшен, этот человек, не ограбил, не убил. Что его
заставило побираться? Какая беда выгнала в лес? Крепкий, здоровый, ему бы косу
в руки или топор, сам всех прокормит, а он, вишь, ходит, милостыню просит.
Чудно́. И чего только не встретишь на свете?
Так и не разгадав загадки про мужика, она пошла вновь лесной тропой и
очутилась на развилке двух дорог. Какую выбрать, чтобы привела в Орел?
Многими дорогами пришлось ей пройти от Стародуба. Иная бежит, петляет,
иная словно тихая речка течет, ровно, степенно, на такой не собьешься. Как же
поступить ей теперь у развилки?
В одну сторону пойдешь — до Орла не дойдешь; в другую — не знать, где
окажешься. Постояла, подумала. «Орел — большой город, — рассудила. — Туда народ
чаще и ходит, и ездит. Вестимо, ту дорогу сильней поутопчут, и колеи от колес
должны быть на ней поглубже. Скорей всего, она-то и верная».
И Груня решилась: пошла той дорогой, что больше изъезжена.
Матвей-правдолюбец
Садилось солнце, а до Орла оставалось еще верст десять. В стороне от
большака Груня увидела маленький поселок и свернула к нему.
Она выбрала хату победней, там охотней пускали на ночлег, постучалась в
окно.
На стук выбежали ребятишки и с любопытством уставились на нее. Вытирая
руки о фартук, вышла хозяйка, тетка Устинья, статная, красивая, лет за
тридцать.
— Заходи в хату, милая, — приветливо сказала она, — будем вместе
вечерять.
Гостья вошла, огляделась. В хате чисто, дети опрятно одеты, весело между
собой переговариваются. Она поставила посох, сняла котомку, умылась во дворе. А
когда вернулась в кухню, все уже чинно сидели за столом, на почетном месте сам
хозяин.
— Садись с нами поесть, — пригласила хозяйка. — Ждем тебя. Сейчас щей
налью.
Она вынула из печи чугун горячих щей, что остались после обеда, налила
большую миску и поставила ее посреди стола. Дети и взрослые, не торопясь,
потянулись к миске деревянными ложками. Хлебали щи молча и сосредоточенно, как
будто вершили серьезную работу. Но вот ложки застучали по дну миски, и тетка
Устинья с улыбкой спросила:
— Похлебали?
— Ага! — дружно отозвались ребятишки, во все восемь голосов.
— Молодцы, ловкие на работу, — похвалила она и поставила на стол
противень толченой картошки, к ней — соленые грибы летошнего засола. На закуску
— вода ключевая, кадушка у порога, пей сколько вздумается. Там сверху и ковшик
плавает.
После ужина разговорились.
— Трудно тебе, тетка Устинья, — посочувствовала Груня, — полон дом
ребятишек. Всех надо накормить, напоить.
— Ничего! — весело махнула рукой хозяйка. — Была бы мука да сито, а то
будет баба сыта. В своем табунке не пропадем. Тут у нас еще не все за столом,
самый маленький сыночек спит в люльке в горнице. Ничего! — И потом попросила: —
Ты нам лучше про себя расскажи, откуда ты и зачем тебе в Орел надобно.
Груня уже привыкла, без расспросов не обойтись, и коротко рассказала
историю своего путешествия.
— Ты гляди-ка! — воскликнула тетка Устинья. — Грамоте знает! Учиться
задумала! Знать, усердие у тебя большое? Вот уж девка-лента, — похвалила она. —
Молодец. А не боязно тебе одной версты мерить? Чай, кто ненароком и обидит?
Люди всякие встречаются, — заметила Устинья.
Груня задумалась.
— Да нет, тетушка, я шла и как-то все без страху. Только под Кромами
один раз оробела. Стою под навесом, спасаюсь от дождя, — начала она рассказывать,
— и подходят два здоровых мужика. Остановились рядом и молчат. Главное,
«здравствуй» не сказали. Я не дышу, думаю: «Кто вы, люди? Отчего «здравствуй»
не говорите? Неужто у вас что плохое на уме?» Страшно мне тогда стало.
— Может, они немые? — предположила Устинья.
— Кто ж их знает? Только оторопь берет, коль с тобой не здороваются.
— У нас так не полагается, — заметила хозяйка.
— У нас тоже, — сказала Груня. — Да! — вспомнила она. — Еще была у меня
худая встреча. Какой-то человек, заросший, босый, догнал меня в лесу, попросил
есть. Крепко я тогда его напугалась.
Тетка Устинья переглянулась с мужем и сказала:
— О, да ты, милая, понапрасну испугалась. Мы его знаем, то Матвей с
Михайловской дачи, что сразу за нашей Грачёвкой. Он не разбойник, не грабитель,
а случай такой вышел. Матвей наш — правдолюбец, и за то его возненавидели
богатые мужики, главное — Игнат Семин с Трифоном. Все им у нас кланяются,
почитают. Скажут Трифон с Игнатом какую небылицу, а все в один голос
поддакивают: «Правильно! Правильно!» Матвей укоряет: «Вы что, с ума спятили,
мужики? Правду от кривды не распознаете?» Все перечил, все правду доказывал, а
это не всем по нраву. Да еще на свою голову Матвей способен говорить складно.
То песню сложит, то прибаутку, да так едко: не в бровь, а в глаз. Чуть что, он
складными словами то одного побьет, то другого.
И тогда Трифон с Игнатом, мужиком богатым, задумали извести его, чтоб не
стоял поперек дороги. Возвели на него напраслину, будто он украл у Трифона
лошадь, а цыганам запродал. И порешили суд над ним учинить, самосуд. Мол, чтобы
другим не было повадно. Одним словом, порешили его убить.
Да нашелся благодетель, предупредил Матвея, чтоб не возвращался он
домой. И Матвей ушел в лес. Знал, исполнят свою угрозу недруги, потому что нет
на них никакой управы. С тех пор и скитается в лесу. Мы его все жалеем, а
помочь не в силах, разве что покормим при случае. Всем заправляют Игнат с
Трифоном, их-то мы и остерегаемся. А его нечего бояться.
Груня вздохнула: вот как она, жизнь, складывается. И оговорят тебя, и
могут извести. Неужто не найдется управа на таких злыдней, как Игнат с
Трифоном? Не должно быть так. Кто-то и за Матвея вступится, придет время.
Найдутся и другие правдолюбцы. Разве их мало на земле?
Гонец
В один миг вся маленькая Грачёвка узнала, что у тетки Устиньи
остановилась на ночлег девушка-странница. В Болгарию путь держит, на войну.
На нее пришли поглядеть и порасспросить, что слыхала она, что видела,
пока добралась до них. Уселись прямо на улице, кто на завалинке, кто на
сваленных перед избой бревнах.
Груня сначала даже оробела от вниманья к ней, но виду не показала. Ей
сразу припомнился разговор с учительницей из Севска, когда та сказала,
прощаясь: «Знайте, Грунечка, вы сейчас не просто путник с посохом, которому
предстоит дойти до Орла. Вы, как говорили в старину, — гонец, потому что несете
срочную весть. Рассказывайте людям о том, что происходит сейчас в Болгарии и
зачем идут туда наши воины. Надо, чтоб все об этом знали и помогали чем могли
для победы над турками».
Груня и сама понимала: когда вершится великое и справедливое дело — а
освобожденье болгар от ига как раз такое дело, — никто не должен стоять в
стороне.
И она стала рассказывать все, о чем сама наслышалась длинной дорогой. Не
забыла и о Самарском знамени, описала, какое оно и зачем его послали в
Болгарию.
Ее не перебивали, слушали, сочувствовали болгарам, готовые и сами помочь
хоть чем-нибудь. Лишь одна женщина хмуро взглянула на Груню и заметила:
— Своих забот нам мало, что ль? А ты вот бросила хату и пошла невесть
зачем. Отца-матери тебе не жалко?
Груня подавила обиду и укоризненно произнесла:
— Наверное, тетушка, ты не слыхала, как маются под турецким игом
болгарские люди. Целых пятьсот лет! А прошлым летом поднялся там народ, да в
одиночку не осилил супостата. Что же потом там творилось! Болгар загоняли в
избы и храмы и живыми сжигали. Расправлялись без жалости.
— Ой, да что же они за нелюди, эти враги! Чего же они такие лютые? —
ужаснулась тетка Устинья.
А Устиньин муж заметил:
— Надо торопиться вызволять болгар. Одним им никак не справиться, не
осилить силу турецкую.
Женщина с хмурым лицом стала оправдываться:
— Я-то по-другому думала. Живут, мол, обоко солнца люди, нам незнакомые,
какое до них дело? Неправа я.
Стоявший рядом с ней парень заулыбался:
— Что я тебе, маманя, говорил? Надо помочь. Вон с Михайловской дачи ушли
добровольцы, я тоже пойду.
Мать всплеснула руками. И снова сердито крикнула Груне:
— Наговорила тут! — Схватила сына за руку и приказала: — Идем домой!
Парень послушался, пошел, но упрямо проговорил:
— Ты не держи меня. Вон девка идет на войну, да еще пешком, а мне
совестно сидеть дома.
И по лицу было видно, что никто его теперь не удержит — уйдет
непременно.
— Раскипятилась баба, — заметил кто-то со смехом, — обойдется, она
отходчивая. Ты не сердись на нее.
Ей пожелали счастливого пути и разошлись по домам с нечаянной мирской
сходки.
— Небось спать захотелось? — спросила тетка Устинья гостью.
— Да еще как! — ответила та, зевая, и подумала с беспокойством: «Где тут
все улягутся? Семья-то велика».
Но хоть и мала избенка, а всех вместила, всем нашлось место. Кто лег в
горнице на полу, кто на печи — не испугался жары. А Груне постелили чистой
соломы в кухне на широкой лавке.
Ох, как она уморилась! Ножки-ходуножки гудят, разбитые, ведь все босиком
да босиком идет. Но уснуть сразу не смогла. Встает перед глазами увиденное за
день. А тут еще часики-ходики мерно тикают на стене. И хозяйка возится рядом.
То засыплет золой чуть тлеющие угольки, чтоб наутро раздуть огонь, тогда и
спичек не придется расходовать. То ворочает тяжелые чугуны, то выйдет за
чем-нибудь в сенцы или сарай. Много в крестьянском хозяйстве дел. Одно
кончаешь, за ним еще больше выстроилось в очередь.
Так и не дождалась Груня, когда хозяйка ляжет, уснула. Утром встала ни
свет ни заря, а печка уже топится.
— Умывайся, — сказала тетка Устинья, — да поешь в дорогу, все на столе.
А когда Груня позавтракала и взяла в руки свой посох, хозяйка разбудила
старшую дочь.
— Смотри за печкой, чтоб пожару не случилось, — наказала она ей. И вышла
проводить Груню, показать покороче тропку, которая ведет к большаку.
— Прощай, тетушка Устинья, — поклонилась Груня доброй женщине, когда они
вышли за околицу. — Сто лет тебе жизни.
— Тебе тоже, — ответила тетка Устинья. — На вот, возьми на дорогу. — И
отдала ей сверток с хлебом и кусочком сала.
Груня взяла.
— Спасибо, — поблагодарила она. — Буду тебя помнить.
— Иди, милая, — сказала ласково на прощанье тетка Устинья. — Побереги
там себя.
И пошла не оглядываясь: некогда ей, дома дел непочатый край.
В городской
управе
Все чаще стали попадаться подводы, одни обгоняют, другие едут навстречу.
Совсем близко губернский город Орел.
Груня поднялась на возвышенность и оттуда увидела город на дне огромной
котловины, там, где река Орлик впадает в Оку. На берегу дымятся трубы фабрик и городских
бань. И далеко, глазом не окинуть, уходят улицы. Большой город Орел.
Сердце замирает от волнения. Не затеряться бы ей тут, не испугаться.
Дело у нее немаловажное, надо довести его до конца.
Идет Груня и в мыслях разговаривает с важными особами, которые должны
решить ее судьбу. Она их еще не знает, но будто видит перед собой и старается
убедить, чтобы не отказали в ее просьбе. Пусть только возьмут учиться, а она
все силы отдаст ученью.
Но сначала надо разыскать городскую управу. Ольга Андреевна наказывала в
Севске: «Обратитесь сразу в управу, там должны знать про общество Красного
Креста».
Груня шла по городу и пугалась быстрых экипажей — мчатся, будто волки их
догоняют. Некоторые так и просто готовы были вылететь на тротуар, и не только
Груня — все прохожие шарахаются от них в испуге.
Вокруг все удивляло. Какие высокие дома! Длинные торговые ряды. А
Воздвиженская площадь даже больше, чем Соборная в Севске.
«Театр». «Гостиный двор», — читала про себя Груня подряд все вывески.
Хорошо быть грамотной, никого не надо просить почитать, что, мол, там, самой все
ясно.
Наконец добралась — перед ней дом с большими колоннами, городская
управа... Она с трудом открыла тяжелую дверь и вошла в здание управы. Но дальше
порога ее не пустили; строгий сторож спросил:
— Ты зачем сюда?
Груня поклонилась ему и сказала:
— Мне, мил-человек, узнать надо про курсы Красного Креста. Где они у вас
тут?
— Не слыхал про них, — ответил сторож.
— Да как же так? — всполошилась Груня. — Или я зря шла к вам столько верст?
Что ж мне теперь делать, головушка моя горькая?! Хоть плачь.
Но не заплакала, только рукой махнула, будто отгоняя от себя нежданную
напасть.
— Погоди, — сказал он подобревшим голосом, — не убивайся. Видишь, идет
господин, он тут работает, спросим его, может, ему что-нибудь известно про
Красный Крест.
Сторож показал взглядом на спускавшегося по мраморной лестнице человека
в шляпе и с зонтиком в руках. «Зачем ему зонтик, дождя нет?» — неожиданно для
себя подумала Груня. Но потом увидела, что человек опирается на зонт, будто на
костыль.
Сторож одернул пиджак и спросил господина про курсы Красного Креста. Тот
удивился:
— Зачем они тебе понадобились?
— Не мне, вот она интересуется, — объяснил сторож и показал рукой на
оробевшую Груню.
Господин окинул ее насмешливым взглядом и спросил:
— Учиться задумали?
Груня с готовностью кивнула.
— А позвольте поинтересоваться, вы азбуку знаете? Сумеете «аз» от «буки»
отличить? — с издевкой продолжал он.
— И читать, и писать могу, — с достоинством ответила Груня. — А ты,
барин, не смеялся бы, а лучше растолковал про курсы, коль знаешь что. — И
добавила укоризненно: — У нас в Матрёновке никто не стал бы тебя высмеивать,
помогли бы за милую душу.
Насмешливый господин сразу стал серьезным, будто устыдился Груниных
слов, и вежливо проговорил:
— В Орле нет курсов Красного Креста. Я знаю это определенно.
— А где ж тогда есть? — чуть слышно промолвила Груня.
— Скорей всего, в Москве. Так я полагаю, — раздельно и четко произнес
он.
— А до Москвы отсюда далече?
— Верст триста будет.
Груня ахнула:
— Милые мои, далеко-то как! — И тут же решительно проговорила: — Делать
нечего, надо идти.
— Неужели пешком? — удивился строгий господин.
— Триста верст — не ближний свет, — заметил сторож, — мужику и то не под
силу.
— Ничего, — уже спокойно сказала Груня. — Ничего. — И попросила сторожа:
— Сделай милость, укажи, по какую руку идти мне на Москву, как выйду из дверей,
по левую или правую.
— Пойдешь сразу направо, а там за первый угол завернешь, — объяснил
сторож и повторил: — Сразу направо, запомнила?
— Запомнила, — сказала Груня. — Теперь я пойду. Спасибо на добром слове.
— И она вышла на улицу.
А господин и сторож стали рассуждать, дойдет или не дойдет девушка до
Москвы.
— Отчаянная, — сказал о ней сторож с одобрением.
— Сильная, с характером, — задумчиво произнес господин. И добавил с
неудовольствием: — Ученье свет, а неученье тьма! Все учиться захотели. Пахать и
сеять некому будет скоро.
Он почему-то рассердился, кивнул сторожу и вышел на улицу, сильно
хлопнув дверью.
Сельская сходка
Груня завернула за угол и пошла широкой улицей в сторону Москвы. На
окраине города сняла лапти, спрятала их в котомку и легко зашагала по стежке,
протоптанной вдоль большака.
К обеду она оказалась в селе Воздвиженском, расположенном прямо на ее
пути.
Село было большое. Посреди, на пригорке, возвышалась старинная церковь.
Поблизости от нее — школа и лавка. Избы тянулись лишь по одной стороне. За
каждой избой двор, за ним амбар, крытый соломой, потом огород.
Напротив каждой избы, через дорогу, выстроились деревянные клетушки.
Хозяева хранили в них самое ценное: одежду, обувь, тканые вещи, зерно, чтобы не
погибло ничего, случись невзначай пожар. В деревнях они не редкость. Жаркое
лето прибавляет погорельцев.
Груня прошла все село и у последней избы остановилась, попросила попить
воды. Хозяйка зазвала ее в избу. Как водится, начались расспросы, издалека ль
идет да зачем.
— В Москву иду, — ответила Груня.
Хозяйка всплеснула руками от удивления и пригласила ее к столу.
— Поешь, милая.
И все удивлялась:
— А я гляжу, далеко это она идет, босая, с котомкой? Подумала, что
странница. Да ты садись за стол.
Груня отказалась:
— Спасибо, тетушка, я сыта. Меня уже покормили в поселке.
В окно громко постучали. На стук вышла хозяйка вместе с Груней.
— Чего ты? — спросила она мужика, державшего в руках большую суковатую
палку, ею он и стучался в окно.
— Хозяин дома?
— Нету. На что он тебе?
— Пусть на сходку идет, про войну будут говорить.
— Он не скоро вернется.
— Тогда сама ступай, — велел мужик. И пошел дальше. То к одной хате
подойдет, то к другой, громко выкрикивая: — На сходку! На сходку!
— Придется пойти послушать, — решила хозяйка.
— И я с тобой, — сказала Груня.
Они пошли вместе к волостному управлению. Там, возле церкви, всегда
проходили сходки, решались важные житейские дела, общие хозяйственные: какое
поле отдать под яровые, какое под озимые, как покосы разделить. А сейчас
собираются говорить про войну.
На возвышенном месте стояли трое — приезжие из Орла. Женщина в черной
юбке до пят и белой блузе и двое мужчин. Один из них, в светлом полотняном костюме,
объяснял, кто они такие и зачем приехали в село Воздвиженское.
Они представители Славянского комитета и собирают пожертвования для
Красного Креста и в помощь болгарским беженцам. Рассказал и о тяжкой участи
болгар, вся надежда которых на Россию, от нее они ждут избавления от турецкого
ига. Ее зовут на помощь.
На сходку подходили все новые люди, слушали тех, кто выступал, кивали,
всячески выражая свое участие. Кто-то запоздавший спросил за Груниной спиной:
— Чего тут они глаголят?
В ответ Груня услышала:
— Болгарам надо помочь, вот чего, а ты спрашиваешь.
— Так разве я против? Надо помочь, — миролюбиво ответил тот, кто задавал
вопрос.
Человек из Орла старался говорить как можно убедительней, чтобы до всех
дошел смысл его слов. Под конец он взволнованно произнес:
— Время пришло! Поможем братьям-славянам! Пятьсот лет изнывают они под
турецким игом и ждут нас сейчас с надеждой. В России звучит клич: «Спасем Болгарию!» И наш народ отзывается
делом на этот клич. Одни отправились на войну добровольцами, другие помогают,
чем богаты. Славянский комитет призывает и вас, уважаемые и достойные жители
села Воздвиженское, помогите Красному Кресту! Помогите болгарским беженцам и
детям-сиротам!
Мужик, созывавший народ на сходку, вскочил на большую бочку, чтоб его
всем было видно, и крикнул:
— Люди добрые! Не останемся в стороне, поможем и мы!
Послышался одобрительный гул:
— А то как же! Неужто мы на это не способны? Надо помочь!
— Ура! — крикнул кто-то радостно, и его поддержали несколько таких же
веселых голосов.
Площадь перед церковью быстро опустела. Но ненадолго. Вскоре туда вновь
потянулись люди, только уже не с пустыми руками, а с пожертвованиями. Несли что
кому по силам: домотканые холсты и чисто вымытые рубахи, полотенца, тулупы,
рукавицы, шерстяные носки. А один бедняк из бедняков принес новые лапти — не
захотел оставаться в стороне. Чем богаты, тем и рады.
— Зачем они? — удивилась женщина из Орла, которая принимала и записывала
пожертвования.
— Может, наш солдатик из деревенских захочет их надеть, — не растерялся
бедняк. И настойчиво потребовал: — Нет, ты уж возьми, уважь. Или наша копейка
щербата?
Едва отговорили его. Он пожимал плечами: чем, мол, не угодил, новые
лапти, хорошие.
Груня вздохнула, самой ей нечем помочь Красному Кресту. А ничего б не
пожалела, лишь бы люди не страдали. Стать бы поскорей сестрой милосердия, тогда
и от нее будет помощь.
Покидая Воздвиженское, она думала: «И тут живут отзывчивые люди, разом
все откликнулись. Кто чем рад помочь. — И вздохнула: — Мне-то все идти да идти,
далеко еще до Москвы, конца-краю не видно. Но все равно дойду, раз уж мне такое
испытание. Дойду», — убеждала она себя.
И стала вновь отмерять версты. С надеждой и верой в свои силы.
Чужая беда
Груня шла от деревни к деревне, от города к городу, и душа ее
наполнялась любовью к земле и людям. Все растет кругом, цветет, обещает знатный
урожай. Все есть для жизни. Реки обильны — вода в них прозрачная, леса богаты
зверем и птицей, дороги не пустынны. То один человек встретится, то другой.
Хоть незнакомый, а возьмет и заговорит, слово скажет приветное, от этого силы
прибывают.
Идет она по Руси, как по родной деревне. В чью бы хату ни постучалась, к
самому бедняку, а все равно накормят, напоят, ночевать пустят. И проводят почетно.
Такой обычай на Руси с давних времен.
Груня не отказывалась от еды и не отказывалась от милостыни, которую ей
подавали сердобольные люди в дорогу. Видела, не последнее отрывают, есть
хлебушек на столе. Так было и в самом начале ее пути, и в Орловской губернии.
Теперь Груня приближалась к Туле, до нее оставалось верст десять.
На реке Тулице среди курганов стояло небольшое село Терехово. Она
постучалась в крайнюю избу. На порог вышла женщина средних лет, в черном
городском платье. Лицо бледное, печальное, седые пряди в темно-каштановых
волосах.
— Пустите переночевать, — попросила Груня.
— Проходи, — пригласила тихим голосом женщина.
В комнате было четверо ребятишек, непривычно тихих.
— Ваня, разводи самовар, — велела женщина мальчику постарше.
Тот послушно вынес во двор самовар, налил воды, насыпал угольков и
набросал сверху шишек.
Кипящий самовар хозяйка сама внесла в дом, поставила на стол,
застеленный чистой белой скатеркой, и пригласила Груню пить чай. Ребятишки тоже
сели за стол. Все получили по маленькому кусочку сахара и хлеба. Груня тоже,
одинаковую со всеми порцию. Пили молча.
«Бедность-то какая, — подумала Груня. — Хлеба по крошечку, не хватит
червячка заморить, и тот с лебедой. Точно такой у нас в Матрёновке пекли в
неурожайный год после засухи».
— А ты, тетушка... — начала разговор Груня и спросила: — Как звать тебя?
— Александра Максимовна, — ответила женщина.
— Видно, ты, Александра Максимовна, — продолжала Груня, — случайно
оказалась здесь. Ты же городская.
— Не совсем случайно, — вздохнув, проговорила женщина. — Здесь мой муж
учительствовал. Недавно умер. А сами мы родом из Тулы...
— Мама! — перебила разговор девочка. — Дай еще кусочек хлебца.
Старший мальчик одернул ее:
— Где мама возьмет? Забыла!
Груня даже вздрогнула от таких слов, сразу есть расхотелось. Она
вытащила из котомки краюшку хлеба, что ей дали в дороге, и разделила всем
поровну.
— Как же дальше жить собираетесь, коль хлеба нет? — с тревогой спросила
она Александру Максимовну.
— Не знаю, — промолвила та, подавленно вздохнув. — Скотины у нас нет,
зерна почти никакого, картошки немного. Не мне одной, всем сейчас худо. Прошлым
летом здесь случилась засуха, все сгорело. Ни у кого хлеба нет. Терехово
наполовину опустело. Кто в город на заработки ушел, кто побираться в Орловскую
губернию. Здешним крестьянам всем несладко, а нам и того хуже. Доживем ли до
нового урожая?
Девочка, что просила хлеба, испуганно посмотрела на мать.
— Теперь мы умрем с голоду?
И заплакала, а за ней и остальные дети.
— Не плачьте, детки, не плачьте, — бросилась их утешать Александра
Максимовна. — Не умрем, нет. Разве не найдется нам чего поесть, кроме хлеба?
Ведь лето на дворе. Травка всякая растет, крапива, лебеда. Мы нарвем лебеды,
смешаем с горсточкой муки, вкусный испечем хлебушек, за уши не оттянешь.
— У меня от хлеба с лебедой живот болит, — пожаловалась девочка. — Он
зеленый и горький.
— А мы его с картошкой съедим, — утешала мать. — Ничего! На миру не
пропадем.
Груня тоже утешала детей — мол, что верно, то верно: на миру не пропадешь.
Она задумалась, потом сказала:
— Ты бы, Александра Максимовна, в Тулу вернулась. Все-таки родные места.
Есть там у тебя кто из родни?
— Мужнин брат, деверь, — сказала она и в сердцах воскликнула: — Лучше б
его никогда и не было!
Всю ее семью обидел деверь, обездолил. Вышло это так. В Туле у
Александры Максимовны был свой дом. Но жили они с семьей не в городе, а в
Терехове, где учительствовал муж. После его смерти она собрала свои пожитки,
посадила детей на повозку и поехала в Тулу на житье. Подъехала к воротам, а они
на запоре. На крыльцо вышел деверь и сказал: «Дом теперь мой, мне его твой муж
продал». И показал поддельные документы. Так и не пустил ее в дом.
Александра Максимовна рассказывала и с трудом сдерживала слезы.
— Повернули мы от родного дома и приехали сюда. Здесь все-таки полегче
жить, чем в городе. Огород есть, да что-нибудь сошью людям. С голоду не помрем.
У Груни гневно сверкнули глаза.
— Судиться с ним надо! — вознегодовала она.
— Пыталась, — сказала как-то устало Александра Максимовна. — Пришла к
адвокату, а он мне откровенно все выложил: «Есть деньги — судись, а нет — не
жди проку, пустое дело». — И добавила обреченно: — С сильным не борись, с
богатым не судись.
— Нет и нет! — воскликнула горячо Груня. — Быть того не должно! Борись и
судись! Возьми себя, тетушка, в руки, тебе детей надо спасать. А правда
победит, я верю.
Женщина слабо улыбнулась. Ее тронула Грунина горячность, то, что она
близко к сердцу приняла чужую беду.
— Я понимаю, надо защищать себя. Большой грех впадать в унынье, оно от
всякого дела отбивает. Спасибо тебе за участье. Я еще поднимусь, воспряну. Дай
срок от горя своего отойти. Ну, да ладно обо мне — ты о себе расскажи, —
перевела она разговор на другое.
И, выслушав Грунин рассказ об ее странствиях, задумчиво проговорила:
— Хорошо бы, нашелся кто и о нас, бедняках, позаботился. Оно всегда так:
далекому скорей посочувствуют, на помощь поспешат, а кто бедствует рядом — того
не замечают. Никому до твоей нужды дела нет.
— Не думай так, Александра Максимовна, — огорчилась Груня, — ведь у
болгарских людей беда большая. Как тут не поспешить? Они же нас ждут, зовут на
помощь. Не откликнемся — конец им.
— Разве я враг болгарам? — согласилась Александра Максимовна. — Конечно,
надо помочь им.
Груня понимала ее. Трудно живется бедной женщине. Не о далекой Болгарии
сейчас ее мысли. Дети есть просят, а у нее хлеб с лебедой, и того не досыта.
Она достала из своего потайного запаса рубль и отдала его бедствующей
семье. Другой оставила себе — про самый черный день.
Вот она,
Москва!
Отлетали дни, складываясь в недели. Позади остались крупные села и малые
деревушки, лесные поселки. Два города прошла Груня после Орла, уездный и
губернский, один — Мденск, другой — Тула. И вот открылся перед ней город
невиданной красоты, матушка-Москва. Наконец-то Москва!
— Какое нынче число? — спросила Груня случайного прохожего.
Он ответил:
— Пятнадцатое июня.
Внимательно взглянул на Груню — его удивил вопрос — и зачем-то добавил:
— 1877 года, если тебе хочется знать.
Груня благодарно кивнула. «Господи! Неужто добралась, — не верилось ей. —
Добралась! — ликовала она. — Добралась!» Ведь это была ее победа над всеми
трудностями и препятствиями. Как же не ликовать!
На окраине Москвы она решила немного отдохнуть, набраться сил и
подумать, как быть дальше. Умылась холодной водой из родника, переплела косу.
За долгую дорогу она сильно загорела и похудела, сарафан стал совсем
просторным, болтался на ней. Огорчили и лапти, как ни берегла, а все ж изрядно
поистоптались. Ну, не беда, покамест их хватит, а заработает денег, купит
ботинки.
Поглядев на свои ноги, вздохнула — разбиты до крови. Завернула их в
онучи — белые холщовые портянки — и надела расписные лапти, плетенные из узкого
лыка. Так-то уверенней себя чувствуешь, не то что босиком — в городе ноги
оттопчут.
По Москве Груня шла, во все вглядывалась и замирала от удивления.
Народу-то! Миллион! Можно целый день стоять и кланяться, все равно не успеешь
сказать всем «Здравствуй!». И главное, все спешат, куда-то летят. Хоть бы у
кого-нибудь дознаться про курсы Красного Креста.
Спросила прохожего, он отмахнулся: тороплюсь, мол. Другой прохожий выслушал
со вниманием, а помочь не сумел, сам про них не знает. Нашлись и такие, кто
посмеялся над ней: о чем, мол, спрашивает, деревня, а тоже что-то о себе
мыслит.
Но Груня не отступалась, терпеливо обращалась то к одному, то к другому.
Не должно быть, чтобы не нашлось на миру человека, который смог бы ей помочь.
Она не ошиблась. Нашелся все-таки знающий и доброжелательный человек,
привел ее к дому, где находились курсы.
Груня долго стояла перед дверью большого здания, не решаясь открыть ее.
Потом набралась духу, толкнула тяжелую дверь.
Ее пустили в комнату, где отбирали желающих учиться на сестер
милосердия. Даже выслушали. А взять не взяли. Оказалось — не берут
малограмотных, таких, кто едва только читать да писать умеет.
— А где берут? — спросила Груня. — Куда мне теперь пойти?
Пожилая женщина, ведавшая приемом на курсы, с сочувствием сказала ей:
— К сожалению, в Москве нигде, только в Петербурге. Там есть община
Красного Креста, где всех принимают.
Груня задумалась.
— А много верст до Петербурга? — спросила она, что-то решив про себя.
— Не меньше шестисот, — услыхала в ответ.
Опомнилась только на улице. Все пропало! Шестьсот верст! Это же
тьма-тьмущая. Самых крепких лаптей не хватит дойти туда. А дойдешь, может
случиться, все понапрасну.
Прикинула в уме: больше двадцати дней идти ее шагом до Петербурга. К
тому времени и война кончится. Вот тебе и на́! Шла она сюда долго, шла, теперь начинай все сызнова, той же дорогой,
только назад, в свою Матрёновку. А дорога в городе запутанная: переулки,
площади, тупики. Угадай теперь, куда повернуть, чтобы выйти к большаку, который
ведет из Москвы на Стародуб. Кого ни спросит, никто толком не знает. А кто-то,
может, и знал, да не совсем точно указал, скорей всего, без злого умысла.
Но Груня не пожалела, что пришлось поблуждать по Москве. Таких чудес
навидалась, всю жизнь будет вспоминать. И главное чудо — Кремль на Красной
площади. Золотые купола соборов, колокольни, каменные стены с башнями,
маленькие часовенки, ворота. Над Спасскими воротами — самая высокая башня с
орлом на вершине, ее украшают старинные часы.
Груня ахнула: «Уже полдень! И когда только время улетело!» Но уходить не
спешила, хотелось все разглядеть и запомнить.
Мимо прошел пожилой господин в легком сером костюме с тросточкой в руке,
с ним мальчик лет семи. У Спасских ворот он остановился, снял шляпу; глядя на
него, и мальчик стянул с головы ярко-синюю шапочку. Оказывается, как узнала
Груня из разговора господина с мальчиком, деда и внука, в Спасские ворота
Кремля испокон веков полагается входить с непокрытой головой. Ведь это
священное место, свидетель героического прошлого Русской земли, и чтут его, как
святыню.
А рядом собор Василия Блаженного. Груня подошла ближе, осмотрела со всех
сторон и вновь увидела у входа в собор деда с внуком. Здесь они тоже стояли с
непокрытой головой. «Иначе и нельзя, — невольно подумала Груня. — Перед этакой
красотой грех стоять в шляпе. Неужто люди сотворили все это своими руками?»
И в лад мыслям услыхала — дед объяснял внуку:
— А соорудили храм Василия Блаженного русские зодчие, Постник и Барма,
как сказано о них в летописи, «премудрые к такому чудному делу». Поставлен же
храм в честь победы над Казанским ханством. Ты запомни это, постарайся.
Мальчик кивнул головой; глаза серьезные, вдумчивые — обязательно
запомнит.
Дед и внук вошли внутрь собора, а Груня, в последний раз оглядев дивной
красоты собор, составленный из разноцветных башенок, медленно пошла по Красной
площади, к Москве-реке.
На время даже забыла про неудачу. Так все было кругом необычно,
интересно. Все земные заботы отступили перед тем, что она увидела, но покинула
Красную площадь, и сразу стало грустно, даже какое-то отчаяние нашло.
Вспомнился сон, что приснился намедни. Сон со значением, будто идет она по лугу
и речка перед ней. А надо на другой берег. Поднялась на узкий мосточек, пошла;
мосточек взял и обломался, прямо перед ней. Оглянулась назад — и там тоже
обломался. До одного берега далеко, и до другого не близко, а она плавать не
умеет. И нет ей пути ни вперед, ни назад.
То был сон, а сейчас похоже сложилось наяву. Вестимо, назад ей путь не
заказан, а вот вперед — оборвался. Незачем и некуда идти.
С горькой досадой покидала Груня Москву в тот же день, в какой и пришла.
Она шла разными улицами и переулками, сбивалась в пути. То попадет в
тупик, то свернет в ненужный переулок. И вдруг остановилась как вкопанная,
будто услышала тайный приказ. «Что же это я делаю! — прикрикнула она на себя. —
Куда иду? И зачем поддалась унынию? Мамушка ведь что говорила: «Потрудись,
Груня, на войне». И люди из Матрёновки сердечно пожелали: «Терпение и любовь
тебе». А я голову потеряла от досады, закручинилась».
И она тут же обратилась к проходившему мимо старику:
— Дедушка, мне нужна дорога, что в город Петербург ведет. Может,
укажешь?
— С величайшим удовольствием, — ответил старик. — Ступай прямо, пройдешь
всю улицу, в конце спросишь Красные ворота, оттуда недалеко и до Николаевского
вокзала. Там тебе растолкуют, на какой поезд лучше садиться.
Поездом Груня не собиралась ехать: у нее не было на билет денег. Всего
один рубль остался, так его про черный день надо приберечь. Какой там поезд?
Она пешком доберется до Петербурга. Эка важность! Столько уже прошла, одолеет и
эти шестьсот верст.
Груня добрела кое-как до Николаевского вокзала, оттуда мимо Марьиной
рощи прошла еще верст восемь и вышла к первой от Москвы остановке по
Николаевской железной дороге, к платформе Петровско-Разумовская.
Она приободрилась, успокоилась, и было такое настроение, будто именно
сию минуту началась ее главная дорога к заветной цели. Все остальное было лишь
подступами к ней.
Мир не без
добрых людей
На Петровско-Разумовской платформе Груня растерялась. В какую сторону
податься? Некого спросить. Повернула наугад, куда вывезет.
Навстречу ей шел очень прямой походкой мужчина средних лет. Лицо
приметное, будто из крепкого камня вырублено, лоб высокий, открытый, взгляд
доброжелательный.
— Добрый человек, — окликнула его Груня, — не укажешь ли мне дорогу на
Петербург? Совсем я тут потерялась. Не знаю, куда идти.
Незнакомец сразу остановился и спросил:
— А ты какую деревню ищешь?
— Я не про деревню говорю, — возразила Груня. — Мне нужен сам Петербург.
— Вот как? — удивился мужчина. — Разве тебе не известно, как далеко до
него отсюда?
— Слыхала, верст шестьсот.
— И дойдешь?
— Надобно, — ответила Груня просто. — Я ведь от самого Стародуба иду,
чай, уж месяц в дороге. Счет дням потеряла.
— Шутить изволите? — недоверчиво проговорил мужчина.
И внимательно посмотрел на нее. Взгляд серьезный, умный, собой
миловидная, одета опрятно, светлая коса чуть не до пят. Обыкновенная крестьянская
девушка. Право же, удивительно, каким образом она оказалась здесь, если идет
из-под Стародуба?
— Что же тебя побудило направиться в такую даль? — спросил он.
— Война, — вздохнув, ответила Груня. — Небось ты и сам знаешь, что мы
воюем с турками. — И она, слово за словом, стала рассказывать о себе: как шла
от Стародуба до Москвы, про мирскую сходку в селе Воздвиженском — как народ
сочувствует болгарам. И о том, что ее не приняли в Москве учиться на сестру
милосердия. Потому она теперь и идет в Петербург. Говорят, что только там берут
в ученье таких, как она, малограмотных.
Груня говорила неспешно, несуетливо. Взглянет украдкой на собеседника,
не утомила ли его словами, и снова продолжает. Видит, что он слушает ее
усердно, да еще расспрашивает сам обо всем. И глаза участливые, в душу
заглядывают. Такому человеку можно довериться, всю свою жизнь раскрыть.
— Ой, — спохватилась вдруг Груня, — заговорила я тебя, добрый человек.
Ты лучше скажи, что дальше, за этой станцией?
— Дальше — Химки, за ними Крюково, Клин, — стал подробно перечислять он.
Груня попросила:
— Напиши мне крупными буквами названия на бумажке.
Дорога научила ее предусмотрительности. Бывает, что один человек
правильно растолкует, куда и как идти, другой же сам собьется и тебя собьет.
Коль будет на бумажке написано, не надо объяснять никому, далеко ли идешь и
зачем. А только спросишь нужное название: Клин, или Крюково, или еще
какое-нибудь.
— Неужели все-таки пойдешь? — снова спросил Добрый человек (так назвала
его Груня про себя). И не для того, чтобы отговорить, а чтобы она могла более
явственно представить себе, какие трудности ждут ее в дороге, сказал: — Отсюда
путь намного тяжелей, чем от Стародуба до Москвы, особенно если взять ближе к
Петербургу. Места там глухие, болотистые; дремучие, непроходимые леса. Тебе не
страшно будет?
— А что поделаешь? — спокойно рассудила Груня. — Мне надобно идти
непременно.
Добрый человек поглядел на нее долгим изучающим взглядом, как будто
пытался разглядеть в ней что-то скрытое. Груня смутилась от его взгляда,
поправила платок на голове и перекинула косу через другое плечо.
— Послушай, — сказал он, — мы с тобой разговариваем, а все еще не
познакомились. — Протянул Груне руку и представился: — Михаил Николаевич
Алексеев.
Девушка еще больше смутилась, покраснела, потом с достоинством
поклонилась и ответила:
— Меня Груней зовут, Аграфена Тимофеевна.
— А фамилия?
— Фамилия наша Михайловы. У нас в Матрёновке подряд все Михайловы, и
родные, и соседи.
— Так вот, Аграфена Тимофеевна, — сказал Михаил Николаевич. — Я сейчас
напишу письмо своим друзьям в Петербург и попрошу, чтобы они тебе помогли
определиться на курсы сестер милосердия. Я ведь сам петербуржец, в Москве
нахожусь по работе. Профессия у меня такая, что приходится много ездить. Я
адвокат, или защитник, как тебе угодно. А случается, пишу статьи в газеты про
таких людей, как ты.
Груня застенчиво улыбнулась, приняв его слова за шутку. Что можно про нее
написать? Как шла, поспешала, истоптала лапти, и все покамест без толку?
А за письмо, которое ей может посодействовать, низкий поклон.
— Я теперь не то что дойду — на крыльях долечу до города Петербурга с
твоим письмом, — сказала она счастливым голосом.
— Нет, Аграфена Тимофеевна, — возразил Добрый человек, — время не ждет,
а до столицы верст не сосчитать. Пока ты дотащишься туда пешком, не останется
времени на учебу. Тебя ведь ждут раненые. Поезжай-ка лучше поездом.
— Ничего, — бодро ответила Груня, — доберусь и пешком. Сил у меня
хватит, не думай.
Михаил Николаевич уже давно понял, что у нее нет денег на билет, и сказал
просто, будто близкий человек:
— Я тебе дам денег на билет.
Груня ужаснулась и замахала руками:
— Что ты! Что ты, Добрый человек Михаил Николаевич! Разве можно? Да я
лучше пешком пройду лишние версты. Мне так привычней.
Михаил Николаевич принялся ее уговаривать:
— Послушай, друг мой, разве бы ты сама не выручила, если бы мне нужна
была помощь? Возьми, прошу тебя, хотя бы в долг, заработаешь — вернешь. Надо
торопиться, а ты препираешься. Поверь мне, ты обязательно станешь сестрой
милосердия. И надо, чтоб это было так.
Груня стояла молча, опустив голову.
— Прошу тебя, — уговаривал он. — Люди должны друг другу помогать. Тем
более во имя такого святого и правого дела. — И уже совсем решительно
проговорил: — Едем вместе на вокзал. Я сам куплю билет. Хорошо?
Груня не стала больше отказываться. Она рассудила: знать, должно быть
так, а не по-другому.
Михаил Николаевич подозвал извозчика, который стоял недалеко от
платформы, и они поехали назад в Москву.
Вокзал был огромный, какой-то гулкий, и Груня растерялась. Люди
суетятся, толкаются, того гляди, с ног собьют. И как тут разберешься, где кассы
с билетами, где посадка? Нет, пешком лучше идти — вольная дорога, просторная.
Но все оказалось гораздо проще, чем представлялось Груне. Добрый человек
оставил ее в зале ожидания, а сам сходил и купил билет на вечерний поезд. Потом
объяснил, с какой платформы следует садиться и в какой вагон. По своей привычке
Груня все основательно утвердила в памяти, повторив про себя наставления
Доброго человека, чтобы потом чего не напутать. Первый раз в жизни едет на
поезде, есть отчего потеряться.
— Да ты не робей, Аграфена Тимофеевна, — веселым голосом подбодрил ее
Михаил Николаевич, — все пойдет на лад, сама увидишь. Все устроится, как нужно.
От его слов и мягкой улыбки Груня и впрямь сразу приободрилась.
Михаил Николаевич написал обещанное письмо в Петербург, отдал ей и
сказал:
— Не потеряй смотри.
Груня только улыбнулась в ответ и напомнила Доброму человеку:
— Ты не забудь, запиши мне свой адрес, чтобы я могла долг тебе вернуть,
как заработаю деньги.
— Вот моя визитная карточка, здесь все обо мне, — сказал он и протянул
Груне небольшую карточку, на которой был указан его адрес. — А это, — он вынул
из кармана бумажник, — вот тебе деньги, купишь себе чего-нибудь поесть. Уверен,
что с утра еще ничего не ела.
Но Груня не захотела взять денег. Когда ее кормили в разных деревнях,
она вместе с хозяевами садилась за стол, такое было в обычае. У них в Матрёновке
тоже не отпустят из дому, кто бы ни зашел в избу переночевать, не накормив его.
Деньги же — это вроде подаяния. Нет, она не возьмет их.
— Не надобно мне, — отказалась она наотрез. — Не надобно. А про черный
день у меня найдется.
— Тебе виднее, — не стал уговаривать ее Михаил Николаевич. Он понял
Груню, ее независимый характер. — Счастливого тебе пути и успехов в учении, —
пожелал он. — Искренне рад знакомству. — Пожал руку на прощанье и ушел.
Груня сразу почувствовала себя осиротевшей. Как же она теперь справится
одна? Кругом люду всякого — тьма! С чемоданами, с мешками через плечо, а кто с
цветами, не то встречает кого-нибудь, не то провожает, и все громко
перекликаются. Шумно, многолюдно, как на ярмарке в Севске.
Стоит, растерянно оглядывается, неприютно ей в этой сутолоке. «Да что-то
я потерялась? Не в лесу ведь, люди кругом, — укорила она сама себя. — На миру
не пропадешь. Что не так, спросить кого-то можно. Всяк посоветует, что делать».
Но спрашивать не пришлось, так понятно все объяснил Михаил Николаевич.
Без труда отыскала платформу, на которую приходил ее поезд, нашла и место в вагоне.
Кондуктор дал свисток, поезд тронулся, загромыхал и пошел.
Сначала ей было немного боязно: не на подводе едет. Но очень скоро
улетучились все страхи, и она прильнула к окошку.
Как же все там интересно! Летят версты, будто у них за спиной крылья. Не
сравнить с тем, как она шла пешком. Там, где ей нужно было целый день пройти,
поезд за один час одолевает расстояние. Только что были Химки, глядь — Сходня;
проехали верст восемьдесят — вот вам город Клин. Не чудо ли?
Какая просторная наша земля! Идешь, едешь, а ей конца и края нет. И
людей много всяких встречается. Жила в Матрёновке, одних своих деревенских
знала — хорошие люди. Оказывается, и за Матрёновкой люди ничуть не хуже. И
всех, кто ей добро сделал, она навечно будет помнить.
Вот Михаил Николаевич, кто он ей? Чужой ведь совсем, а позаботился, как
родной. Такого человека нельзя забыть.
Давно так хорошо не было у Груни на душе. А тут еще увидела в окошко
звезду-путеводительницу и обрадовалась, как будто земляка в дороге повстречала.
Сейчас она и над Матрёновкой светит, кому-то путь указывает, как еще в
малолетстве указывала ей самой.
Идет поезд, постукивают колеса. Все уже давно спят в вагоне. А Груня,
как обычно, когда разволнуется, не может уснуть. О прошлом вспоминает, думает о
будущем. В прошлом все понятно, там она сама хозяйка, все, что произошло, ей
принадлежит, и никто ни отнять, ни изменить не может. А будущее не совсем в ее
власти: может сложиться и так и
по-другому. Будущее — это тайна.
«Ничего! Ничего!» — шепчет Груня, засыпая.
А в окно заглядывает звезда-путеводительница. Будто добрый привет из
родной Матрёновки.
Белые ночи
Исполнилась заветная Грунина мечта: она поступила учиться на курсы сестер
милосердия. Нет, не письмо Доброго человека, Михаила Николаевича, помогло ей, а
собственный характер.
Правда, сначала она даже пыталась найти друзей Михаила Николаевича. Но
ей не повезло. Было как раз такое время, когда петербуржцы выезжают на дачу.
Уехали и они. Пришлось Груне набраться решимости и действовать самостоятельно.
Она явилась в общину Красного Креста, где отбирали учениц на курсы сестер
милосердия, и предстала перед комиссией для собеседования. С ней долго
говорили, задавали разные вопросы. На одни она ответила, на другие не смогла. И
хотя понравилась своими дельными ответами, ее все-таки не приняли. Посчитали,
что ей трудно будет учиться. На курсах надо много заучивать, уметь слушать
лекции и записывать. И хотя бы немного разбираться в анатомии. А она и слова
такого не слыхала.
Груня вышла в коридор и долго стояла у окна, пока не разошлась комиссия,
проводившая собеседование. Но чуда не произошло, никто ее больше не спросил ни
о чем. И решение не изменили.
«Что ж теперь делать? Все пропало бесповоротно. Некуда больше податься».
Она сердито смахнула слезы, натянула котомку на плечи, взяла посох в руки.
Сейчас остается только одно: отправиться на вокзал. Там она переночует, а на
рассвете вновь зашагает пешком из Петербурга на Стародуб. Денег на обратный
билет у нее не было. «Вот и настал самый черный день», — подумала она. И такое
у нее было на лице отчаяние, что проходившая мимо девушка остановилась рядом и
участливо спросила:
— Случилось что-нибудь? Может, я могу помочь вам?
Груня безнадежно махнула рукой.
— Ну все-таки? — не отступалась девушка и представилась: — Вера
Мелентьева, только что зачислили на курсы сестер милосердия. А вас как зовут? —
спросила она.
Груня неохотно назвала свое имя и с недоверием оглядела девушку. Одета в
светлое кружевное платье, золотые сережки, туфельки на каблуках. Какое ей дело
до простой крестьянки? Но нарядная девушка не уходила, и Груня рассказала ей о
своей неудаче.
Вера оказалась решительной.
— Ты должна поступить, — твердо сказала она. — Идем сейчас же, не
откладывая, к Алферову Александру Игнатьевичу. Он известный профессор, хирург,
и главное — председатель приемочной комиссии. Я знаю, где он сидит, пойдем к
нему. — И она потянула упиравшуюся Груню по коридору, повторяя: — Он все поймет.
Я попрошу за тебя.
— Лучше я одна пойду, сама за себя скажу, — решила Груня. — Пусть разом
все решится, как должно быть. Не надо просить за меня.
— Иди! — подбодрила ее Вера, когда они подошли к дверям кабинета Алферова.
— Иди! Я тебя подожду.
И осталась ждать в коридоре.
Алферов принял Груню. Она взглянула на его строгое лицо и в первый
момент оробела: очень похож на отца Клаши и Евлаши. Такой же сухопарый, и
бородка клинышком. Не посочувствует, не поймет — нечего даже и просить. Но
отступать от задуманного не умела.
А профессор молча ждал, что скажет ему посетительница. Таких у него на
приеме еще не бывало: в городском платье и в расписных лаптях, за спиной —
котомка (не бросишь же в коридоре!), в руках — посох.
— С чем пришли, рассказывайте, — сказал он наконец.
— Хочу стать сестрой милосердия, — сразу начала Груня, — а меня не
приняли. Говорят, мол, не по силам тебе такая ноша. Трудно, мол, будет. Я и не
отрицаю, что трудно. А старанье зачем? — И с обидой в голосе проговорила: — Они
мне про анатомию толковали. А по-русски не объяснили, что это такое.
— Наука о строении человека, — пояснил Алферов, с любопытством глядя на
девушку.
— Пусть я пока еще не знаю, как человек устроен, когда же мне расскажут,
буду знать. Я быстро все запоминаю. Сам проверь, скажи что-нибудь, я запомню, —
боролась изо всех сил Груня за то, чтоб ее взяли учиться.
— И стихи запоминаешь? — уже весело спросил Алферов.
— А то нет! — ответила Груня смело.
— Хорошо! — сказал он, озорно блеснул глазами и, чуть понизив голос,
произнес:
Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!
Запомнила?
— спросил он, уверенный, что нет.
Но Груня повторила слово в слово и, улыбнувшись, добавила:
— Как же не запомнить? Здесь все складно и понятно. Ты что потрудней
спроси.
— Ну, слушай потрудней, тоже стихи Некрасова:
Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...
Но и эти стихи, хоть и не с такой легкостью, Груня повторила.
— Да, — согласился Алферов, — память у тебя отменная. А теперь расскажи
о себе. Откуда ты? И почему хочешь быть сестрой милосердия? Поставь же,
пожалуйста, свой посох куда-нибудь и сядь.
Судьба Груни была в тот день решена. Ее зачислили на курсы и выделили
пособие, чтобы она смогла их закончить.
Она поселилась в маленькой комнатке, в трехэтажном доме на Фонтанке,
между мостами Египетским и Калинкиным. Оттуда недалеко добираться на занятия
при военном госпитале.
Трудно было входить в непривычную жизнь. Надо много запоминать и
заучивать, особенно сложной наукой оказалась анатомия. Вот уж никогда раньше не
предполагала, как много следует знать о человеке, чтобы ему помочь, вылечить
его. Знать, как он устроен, на память, будто стихи.
Всего шесть недель отводилось на учебу. А как много нужно было
постигнуть за этот короткий срок! И самое важное — научиться понимать состояние
больного и раненого, уметь перевязать раны, приготовить лекарства, помогать при
операциях.
И Груня не теряла ни минуты, истово трудилась. Утром и днем была на
занятиях в госпитале. А дома все, чему учили, заучивала наизусть. И так до
глубокой ночи.
Только — вот странно! — ночей-то в Петербурге вовсе не было. Поздний
час, а все еще светло. И не оттого, что месяц светит. В Матрёновке и при
месяце, когда полагается, темнеет, лишь звезды мерцают на небе, но они не
мешают спать.
Здесь же и звезды другие: не золотые, жемчужные. И месяц — светло-зеленый.
Вокруг все видно и не видно, будто подернуто полупрозрачной дымкой.
Деревья у Калинкиного моста не отбрасывают тени, и памятники тоже, и
дома. Город — без тени. И тихо-тихо, молчит все.
Белые ночи над Петербургом...
«Чудотворство!» — шепчет Груня в который уж раз. И с трудом засыпает.
Лекция
профессора Алферова
В большом зале Петербургской медико-хирургической академии собрались
врачи, студенты, сестры милосердия — все, кто в ближайшее время отправится на
фронт. Ждали выступления профессора Алферова, ученика знаменитого хирурга
Пирогова.
Груня сидела в первом ряду, чтоб не упустить ни единого слова
профессора, который так счастливо решил недавно ее судьбу. Да и запоминалось ей
легче, когда она видела лицо учителя.
Алферов вошел подтянутый, быстрый, внимательно оглядел слушателей и
начал лекцию о военных госпиталях и перевязочных пунктах, о помощи раненым на
поле сражения, о милосердии.
Он говорил просто, будто вел беседу с каждым с глазу на глаз, и Груня
легко запоминала. Даже успевала кое-что записать. А вот и совсем близкое ей:
рассказ о людях ее профессии.
— Только любовь и самопожертвование делают ваш труд истинно милосердным,
— говорил он, обращаясь к сидящим в зале сестрам милосердия. — Солдату важно
знать: если ранят его, он не останется без помощи, его не бросят умирать от
ран. Надежда и вера придают ему силу и отвагу, ведут к победе. Пусть вдохновит
вас пример героического служения своему долгу участниц Крымской войны.
И он, сам участник Крымской войны, напомнил о Даше Севастопольской.
Тогда, в ту войну, которая происходила немногим более двадцати лет тому назад,
против англо-французских войск, высадившихся на Крымском полуострове, женщин не
брали в армию. И совсем еще юная Даша выдала себя за матроса. Остриглась,
надела матросский костюм и в таком виде попала на поле сраженья. Во время битвы
у реки Альмы она остановила повозку в небольшой лощине под деревьями и начала
оказывать помощь проходившим мимо раненым. Поила их, перевязывала раны, и так
до конца боя. О ее поступке узнали в Севастополе, и она уже больше не
скрывалась. Работала в женском платье дни и ночи, на перевязочных пунктах и в
госпиталях, порой помогала при операциях. За спасение многих жизней ее
наградили серебряной медалью.
— Такие у вас были прекрасные предшественницы, — всматриваясь в лица сестер
милосердия, сказал Алферов.
Груне показалось, что он узнал ее и ей сказал эти слова. Она была
взволнована — в Даше Севастопольской она почувствовала родную душу. Подобно
отважной Даше, она готова была отдать жизнь свою за людей. Какое счастье, что
сейчас не нужно таиться и переодеваться в солдатскую одежду, чтоб попасть на
фронт. За это, как сказал Алферов, надо благодарить Пирогова. Он много сделал,
чтобы допустили женщин на передовые линии. Сумел убедить всех, кто был против,
как необходим и дорог там самоотверженный труд сестер милосердия.
Из зала кто-то прислал Алферову записку. Он прочитал ее вслух:
— «Где сейчас Пирогов? Почему нет его в академии?» Сейчас Николай
Иванович не у дел и живет где-то под Киевом, — медленно, с каким-то скрытым
вызовом проговорил Алферов. — Великий патриот и замечательный ученый остался не
у дел, — продолжал он, — потому что нетерпим ко всякому злу и неправде. Но я
уверен, что его еще позовут послужить делу милосердия, делу спасения
человеческой жизни. Он нужен России!
В зале раздались аплодисменты, кто-то из студентов крикнул:
— Слава Пирогову! Мы помним его!
На лице Алферова появилась улыбка. И уже спокойным голосом он продолжал
лекцию о помощи раненым на поле сраженья.
Добрый человек
Груня шла домой и в уме повторяла все, о чем услышала на лекции Алферова.
Утверждала в памяти.
Хотелось есть. Дома был хлеб — главная ее еда, хлеб с чаем, через день
гречневая каша. Но сегодня по строгому Груниному распорядку каша не полагалась.
Иначе не дотянуть до следующего пособия. А на то, что ей выдали, она купила
ботинки: в лаптях не пойдешь на занятия.
«Ничего, выдюжим, — подбодрила она сама себя. — Другим хуже приходится».
Вспомнилась обиженная вдова из-под Тулы, Александра Максимовна, и зеленый хлеб
с лебедой по норме. Вот где настоящее бедствие! И помощи ждать неоткуда.
Груня приближалась к дому. Подошла к парадному входу и не поверила своим
глазам: там стоял Михаил Николаевич. Добрый человек! Сердце заколотилось от
радости, на лице появилась застенчивая улыбка. Даже поверить не решалась,
неужели это он? Неужели нашел ее!
Михаил Николаевич шагнул навстречу и протянул ей обе руки.
— Дай-ка я на тебя погляжу, — громко сказал он. — Тебя не узнать,
Аграфена свет Тимофеевна. Гляди, какая раскрасавица!
Он и впрямь удивился. В памяти запечатлелась совсем другая Груня: утомленная
своим путешествием, чуть ли не в тысячу верст, и немного растерянная. Скорее,
даже какая-то оглушенная громадой впечатлений, которые обрушились на нее. Он
запомнил Груню в сарафане, выгоревшем на солнце, ситцевой кофте, в лаптях, за
плечами котомка, в руках посох. А сейчас перед ним настоящая барышня!
И вся светится от счастья.
— Как вы меня нашли? — спросила она удивленно.
— Старался. Все общины Красного Креста обошел. Спрашивал: не значится ли
у вас ученицей Аграфена Тимофеевна Михайлова? Та самая, что отважно пустилась в
путешествие из-под Стародуба прямехонько в Петербург?
Он говорил шутливо, подтрунивая над ней и над собой, преувеличивал
трудности, связанные с ее поисками. В глазах — веселые искорки: гляди, мол, какой
я герой. Потом уже серьезным тоном сказал:
— Я ведь, Груня, искренне был уверен, что ты поступишь учиться, добьешься
своего. Спасибо тебе. Когда поверишь в человека и не обманешься — вроде
дорогого подарка получил. Ты согласна со мной?
Груня смутилась и промолчала. Ей хотелось сказать о многом: как она
благодарна ему, как ждала, разговаривала с ним в мыслях. Но произнесла совсем
не то:
— Я скоро верну вам долг, не беспокойтесь.
— Вот тебе и на! — укоризненно проговорил Добрый человек. — Разве я за
тем пришел? Мне хотелось повидаться с тобой, узнать, может, помощь тебе нужна.
— Спасибо, Михаил Николаевич, — растроганно проговорила она. — Мне так
хорошо, так хорошо!
— Ну и славно. — И спросил: — У тебя есть свободное время?
— Нисколечко, — вздохнула она и пошутила: — Хоть бы взаймы где взять, да
отдавать потом будет жалко. Нисколечко нет времени, — повторила она. — Надо
назавтра заучить все, что нынче объясняли. У меня уже много чего записано в
тетради.
— Молодец, серьезно относишься к учебе, — похвалил ее, как маленькую,
Михаил Николаевич. — Корень учения горек, а плод его сладок. И дальше постигай
свою науку с усердием. Но сегодня позволь себе поблажку. Я хочу показать тебе
Петербург, и поговорим дорогой; расскажешь, как тебе живется.
Груня растерялась:
— А уроки?
— Ничего с ними не случится. Позанимаешься подольше вечером, не поспишь,
— решил за нее Михаил Николаевич. — Ступай, отнеси тетради домой, я тебя внизу
подожду. Договорились?
— И то правда, — охотно согласилась Груня. — Успею — выучу, все равно долго
не засыпаю, на белые ночи гляжу, диву даюсь, отчего они такие.
Она поднялась в свою комнатушку и вернулась тотчас, будто боялась, вдруг
это ей все привиделось. Глянет, а Доброго человека вовсе и нет. Но глянула — не
привиделось ей: стоит Добрый человек, ждет ее.
На Невском
проспекте
День был необычный для Петербурга, на редкость солнечный, хотя и не
жаркий. Как радостно было идти по Невскому проспекту, самой красивой улице
города, не одной, а с Добрым человеком, идти и разговаривать с ним. Все ему,
оказывается, интересно знать о ней: и когда родилась, и где жила, про братьев
Егора и Федора и про то, как она задумала идти учиться, чтобы ее взяли на
войну. Груне и самой удивительно, как ей легко говорить с ним. Слова сами
находятся, и робость куда-то отступила. Видно, оттого, что он слушал вдумчиво,
серьезно и в то же время успевал подбодрить ее улыбкой, неожиданной шуткой.
Вокруг было много народу, но она видела только одного его на шумной улице.
Но вот Михаил Николаевич взял Груню за руку и сказал:
— А сейчас помолчим, будем переходить на ту сторону. Смотри в оба.
Не простое дело — перейти Невский проспект. Груня едва сдерживалась,
чтоб не броситься бежать. Ей казалось, что все экипажи летят на нее, только
чудом проносятся мимо. Наконец они благополучно переходят дорогу, оказываются
на другой стороне Невского. И ее уже больше не пугает топот лошадей, звон
подков, крики кучеров. Она во все глаза смотрит вокруг, все запоминает,
удивляется про себя.
Груня уже успела за то короткое время, что живет в Петербурге, кое-что
подметить из жизни столичного города. Как и Матрёновка, он просыпался рано.
Только в Матрёновке все поднимались с петухами и занимались одинаковой
крестьянской работой, а здесь всяк знал свой час. Раньше всех проезжают куда-то
ломовые извозчики по Калинкиному мосту — ей видно из окна. Потом лавочники
открывают свои лавки, кухарки идут с корзинками за провизией. Подносчики воды
вдвоем несут кадушку с водой. Идет простой люд.
А к полудню начиналась другая жизнь. Улицы наполнял служебный народ:
чиновники, офицеры, конторщики. Их Груня обычно не видит, в это время она
занимается на курсах сестер милосердия. Зато сейчас увидела, как живет Невский
проспект в три часа дня.
По Невскому проспекту прогуливались богато одетые люди, одни — пешком,
другие едут в роскошных каретах. Знакомые раскланиваются, но большинство идут
важно, ни на кого не глядят.
Груня почувствовала себя здесь не на своем месте, будто без спросу вошла
в чужой богатый дом.
— Выше голову! — сказал вдруг Михаил Николаевич. Все-то он понимает. —
Знаешь, куда мы сейчас с тобой пойдем? На Мойку. К дорогому для всех русских
людей месту. Смотри и запоминай, что увидишь.
Они вышли на Мойку, и Михаил Николаевич сказал:
— Вот здесь, Груня, не так уж и давно, лет сорок тому назад, проходил
великий человек, Александр Сергеевич Пушкин. Ты слыхала когда-нибудь о нем?
Груня даже обиделась.
— Разве есть люди, кто бы его не знал? Я даже его стихотворение помню
наизусть.
— Ты еще всего Пушкина прочитаешь, — сказал Михаил Николаевич. — И не
только его. А теперь посмотри — вот дом, где он жил последние годы. Здесь он и
умер, смертельно раненный на дуэли. В то время нашему гениальному поэту шел
тридцать седьмой год. Как это мало! Я сюда часто прихожу. Будто близкого
человека идешь проведать. Да так оно и есть! Пушкин всем нам очень близок. Без
него нашу жизнь невозможно себе представить.
— Я запомню этот дом, — пообещала Груня, сдерживая волнение. — И другим
буду про него рассказывать.
— Этого мне и хотелось, — сказал Михаил Николаевич.
От дома на Мойке, где когда-то жил Пушкин, они направились к Сенатской
площади, посмотреть памятник Петру Великому. Об этом прославленном царе Груня
слыхала еще в Матрёновке и своей крепкой памятью запомнила имя основателя
Петербурга.
Сначала они подошли к Исаакиевскому собору, царившему над Невой. В
солнечный день он был особенно прекрасен со своим величественным куполом,
сияющим на солнце.
И вот знаменитый памятник. Конь взлетел над гранитной скалой, на коне Петр
Великий в тоге — римской одежде, в руке фельдмаршальский жезл. Конь топчет
копытом змею.
С восторгом и некоторым страхом глядела Груня на памятник Петру Первому.
Какая сила в нем могучая! За ней наблюдал Михаил Николаевич, его обрадовало, с
каким интересом смотрит она на памятник.
— Послушай, Груня, — сказал он и стал читать стихи:
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася...
Знаешь,
кто это написал? Пушкин, — пояснил он.
— Все тут правда! — воскликнула Груня. — Вон какой задумчивый и грозный
стоит царь, Нева перед ним, а он на город рукой показывает.
И, оглядев снова памятник со всех сторон, заметила:
— Хороший здесь мастер работал, навеки поставлено. И красиво.
Михаил Николаевич быстро взглянул на нее и неожиданно подумал: «А ведь
Груня не так уж давно в крепостных числилась, до трехлетнего возраста. Ее могли
продать или подарить кому вздумается. Не отменили бы крепостного права, она бы
так и значилась чем-то вроде живой вещи у своего хозяина. Вздор какой-то». И
заботливо спросил:
— Не устала?
— Нет, нет, — поспешно ответила Груня. Ей не хотелось расставаться с ним
так скоро.
— Тогда давай заглянем в книжную лавку, — предложил он, — это совсем
рядом.
— Заглянем! — обрадовалась Груня.
Они зашли в лавку, и Михаил Николаевич отобрал несколько книг, полистал
и протянул небольшой томик ей.
— Возьми на память о нашей прогулке по Петербургу, — сказал он.
Груня взяла книгу.
— «Пушкин», — прочитала она.
И благодарно прижала к себе книгу.
Сестра
милосердия
На пороге лавки появилась женщина. Ее тут явно хорошо знали.
Продавцы заулыбались и стали выкладывать на прилавок редкие книги.
Увидев женщину, Михаил Николаевич как-то мгновенно подтянулся и
стремительно шагнул к ней.
— Юлия Петровна, дорогая! — воскликнул он обрадованно. — Позвольте вашу
руку, — и почтительно поцеловал ей руку.
Груню поразило лицо женщины — нежное и в то же время волевое, большие
красивые глаза и оживленная улыбка. Чувствовалось, что ее переполняла радость,
которую она и не старалась скрыть.
Будто продолжая прерванный разговор, Михаил Николаевич сказал:
— Догадываюсь, все-таки добились своего.
— Да, да, вы угадали, мой друг, — услышала Груня. — Добилась. Завтра
еду. И не одна. Мне удалось образовать санитарный отряд. Все мы добровольцы.
Теперь уже скоро займемся настоящим делом, не пустым времяпрепровождением.
«Вот оно что! — подумала Груня. — В Болгарию едет, будет, как и я,
ухаживать за ранеными».
Юлия Петровна (Груня сразу запомнила, как назвал ее Михаил Николаевич)
была в костюме сестры милосердия. Коричневое платье с полосатым фартуком из
бумажной ткани, на груди красный крест из такой же ткани, на голове белая
косынка.
Груня отвернулась, чтобы не показаться любопытной, и стала листать
подаренный ей томик Пушкина.
— Позвольте представить вам Груню, будущую сестру милосердия, — услышала
она вдруг рядом и быстро обернулась.
Юлия Петровна приветливо улыбнулась ей и тотчас стала расспрашивать об
учебе.
— Как много надо успеть в короткий срок! — посочувствовала она. —
Наверное, трудно приходится.
— Трудновато, — смущенно призналась Груня, — иной раз даже страх берет:
ну, как не осилю науку, и выйдет, зря меня учили.
— А вы не пускайте страх в душу, — подбодрила ее Юлия Петровна. —
Человек все может, если цель у него высокая и чистая. Главное в нашем с вами
деле любить ближнего своего больше, чем себя. — И добавила тут же: — Конечно,
одной любви мало. Нужны знания. Я сама последнее время с величайшим усердием
готовилась, чтобы получить звание сестры милосердия. Училась ходить за
больными. Старайтесь, и все одолеете! Желаю вам счастья! — сказала она сердечно.
— Верьте в себя.
— Спасибо! — поблагодарила Груня. — И вам счастья и здоровья.
Юлия Петровна поцеловала Груню, а Михаилу Николаевичу сказала:
— Пожелайте и вы мне добра, друг мой. Когда теперь увидимся, никто не
знает.
Михаил Николаевич поклонился ей и поцеловал на прощанье руку.
— Я приду провожать вас на вокзал.
Они расстались. Юлии Петровне нужна была какая-то книга, и она осталась
в лавке, а Михаил Николаевич пошел провожать Груню домой, чтобы не затерялась
на шумном Невском проспекте.
Некоторое время они шли молча, каждый по-своему размышляя о встрече с
Юлией Петровной.
— Фамилия ее Вревская, — заговорил первым Михаил Николаевич. — Она
баронесса. Но как далека она от людей своего круга! Юлия Петровна из тех, кто
готов положить душу свою за других. Она всегда там, где нужна ее помощь, где
горе и страданье. Запомни ее имя. Я верю, ты еще услышишь о ней.
— Она мне сразу полюбилась, — сказала Груня. — Добрая и не гордая. И
говорит так, будто я ей ровня.
— А чем не ровня? — возразил Михаил Николаевич. — Вы обе сестры
милосердия и собираетесь служить одному и тому же делу: исцелять людей, отвоевывать
их у смерти. Высокое предназначенье! Гордись собой и храни свое достоинство.
Вот так-то, Аграфена Тимофеевна, — снова шутливым тоном заговорил он. —
Кажется, мы доплелись до твоего дома. Пора расставаться.
Груня с благодарностью посмотрела на него и очень серьезно сказала:
— Спасибо, Михаил Николаевич. У меня сил прибавилось за нынешний день.
Теперь и учиться легче станет.
— Вот и учись, старайся! Таков мой наказ! — не хотел быть серьезным
Добрый человек. И пообещал: — Я приду снова тебя проведать, не знаю, когда
точно. Мне нужно в Тулу, там предстоит расследовать одно сложное дело.
Настолько сложное, что даже вызвали адвоката из столицы.
— В Тулу? — быстро переспросила Груня.
— Почему это тебя заинтересовало? — удивился Михаил Николаевич.
Она немного замялась, как бы раздумывая, говорить или нет, потом
решилась.
— Знакомая у меня появилась под Тулой, — заговорила она медленно,
подбирая слова. — Беда у нее. — И уже твердым голосом произнесла: — Только вы
можете ей помочь. — И рассказала про обиды вдовы, у которой отняли дом по
подложным документам. Но никто не берется ее защитить. И о голоде в деревне
рассказала.
Михаил Николаевич достал карандаш и записную книжку.
— Ты не запомнила название деревни? — спросил он, собираясь записать
его.
— Как же? Терехово. На реке Тулице, рядом с Тулой.
— А фамилия вдовы?
— Не спросила, — огорчилась Груня. — Зовут — помню как: Александра
Максимовна. Да зачем она нужна, фамилия? В деревне каждый друг друга знает.
Найдется и без фамилии.
— И то верно, — согласился он. — Найду, если, конечно, окажусь в тех
краях. Точно не обещаю, все зависит от того, как сложатся дела. Ну, будь
благополучна! — попрощался Михаил Николаевич и пошел стремительным шагом. А
Груня смотрела ему вслед, пока он не скрылся за углом.
Как ни взволнована была Груня событиями сегодняшнего дня, но, вернувшись
в свою комнатку, сразу же принялась за уроки. Лишь глубокой ночью погасила
лампу и примостилась на подоконнике. Будто на ладони выстроился перед ней весь
прошедший день: лекция профессора Алферова, встреча с Михаилом Николаевичем,
замечательная Вревская. В памяти оживают их слова, теперь они навсегда с ней.
Сразу вспомнилась и Ольга Андреевна из Севска, и тетка Устинья. Даже трудно
представить себе, что совсем еще недавно она никого из них не знала. И как
много уже для нее сделал каждый из них.
Все-все хранила благодарная Грунина память. И душа становилась шире,
наполнялась могучей силой доброты.
Давно погасли во всех окнах огни. Поздний час, а на улице светло. Сияют
неправдоподобные звезды-жемчужины. Над Калинкиным мостом повис зеленоватый
месяц. Белые ночи в разгаре. Странные, таинственные ночи.
В Петергофском
госпитале
Быстро пролетели полтора месяца учебы. После строгого экзамена, который
принимала комиссия во главе с профессором Алферовым, Груня получила заветное
свидетельство. В нем значилось, что теперь она имеет право быть сестрой
милосердия.
Груня была счастлива. Она ждала: не сегодня завтра ее направят в Болгарию.
Сейчас там идут тяжелые бои, в газетах об этом пишут постоянно. И хотя она
газет не читает — у нее нет свободного времени, но о самом главном, что
происходит в Болгарии, знает. Люди рассказывают. А недавно снова все заговорили
про Самарское знамя, о котором в первый раз Груня услыхала в Севске на ярмарке.
За его судьбой вся Россия следит.
В битве за Старую Загору Самарское знамя едва не попало в руки врагов. В
газетах писали, как четыре дружины ополченцев отбивались от целой армии
Сулеймана-паши. Был убит знаменщик, и туркам удалось схватить знамя. Вслед
устремились ополченцы — отбили его, но подхвативший знамя капитан Калитин
вскоре был убит. Еще один ополченец поднял знамя и упал тут же. В тот день
погибло много болгарских ополченцев. Но знамя уберегли от турок, унесли в горы.
Для всех болгар оно было святыней, и берегли его как настоящую святыню.
«Сколько же там люду-народушку полегло, — вздохнула Груня. — Вот где
наша помощь нужна».
Она подала прошение в Главное управление Красного Креста с просьбой
поскорее направить ее в Болгарию. Но получила отказ. Туда посылали самых
опытных, самых лучших сестер. Надо было доказать, что она не зря училась. И что
там, где ждут милосердную помощь, она сумеет ее оказать.
Снова далеко было от основной цели — служить раненым, ради чего она
отказалась от мирной, спокойной жизни.
Груня погоревала, но не пала духом. Надо ждать, надо быть не только
настойчивой, но и терпеливой. Жизнь человеческая не идет единым порядком. Жизнь
— не только постоянный труд, но и преодоление всяких препятствий. Тебе не
хочется что-то делать, а надо, ты и делай. Тебе страшно, а ты иди; иди и не
бойся.
С того часа, как Груня покинула Матрёновку, немало перед ней вставало
препятствий. Сильней всего страшили долгие версты, зверь лесной и иной человек.
Но она одолела версты. И никакой зверь не напал на нее, и человек не обидел. А
поддалась бы страху, отступилась — не стала бы сестрой милосердия.
Теперь еще одно препятствие к главной цели: у нее нет опыта работы.
Нужно преодолеть и это. Убедить военную комиссию, что она нужна на войне. Но
сначала показать свое умение здесь, в Петергофском госпитале, куда ее
определили на практику.
Ей приходилось потрудней, чем другим сестрам милосердия. Ведь она была
малограмотной. Надо было не отстать от грамотных и набирать знания впрок. И
Груня истово старалась это делать. Ее учили: одного усердия мало, нужно умение.
А еще учили быть доброй. Старшие сестры наблюдали за новичками, как они
относятся к больным. Жалеют ли их? Способны ли угадать лишь по движению ресниц,
как чувствует себя больной? Этому учили Груню. И она без усилий постигала науку
— жалеть и любить больного, помогать слабому.
В Петергофском военном госпитале сразу заметили Груню. «Прилежная,
усердная», — говорили о ней с одобрением. Она всему научилась, что должна уметь
делать сестра милосердия. Накладывала повязки, аккуратно снимала бинты,
готовила лекарства, сама просилась помогать хирургу, когда шли операции. Ей
очень хотелось все уметь. Ведь там, на войне, негде и некогда доучиваться. Там
нужны умелые, чтобы вовремя помочь раненым.
Сегодня у Груни первое ночное дежурство. Больные уснули, в палате
тишина. Она сидела задумавшись у маленького столика. Вспомнился дом. Как там
живется ее родным? Нет что-то от них вестей. Уже несколько писем домой отослала,
хоть и коротких, но о самом важном в них сказано. Звание сестры милосердия
получила, и, может статься, совсем скоро ее направят в Болгарию. Сыта, одета,
обута — пусть не тревожатся. И еще пусть порадуются — подруга у нее появилась,
Вера Мелентьева. Та самая, что надоумила пойти к профессору Алферову с просьбой
принять на курсы сестер милосердия.
С Верой они поселились в одной комнате, неподалеку от госпиталя. Она тоже
приезжая, родом из Воронежа, из богатой дворянской семьи.
В Петербурге у нее есть родственники: тетка и двоюродные братья. Она
могла бы жить у них на всем готовом, но не хочет: любит независимость. Хороший
она человек, открытая, щедрая душа. Старается не только помочь в трудный
момент, но и научить всему, что знает: и как слова правильно выговаривать, как
вилку в руках держать, как покрасивей одеться. И все это делает не обидно, от
чистого сердца. А на днях — вот уж не думалось, не мечталось — сводила в театр.
Груня даже зажмурилась, чтобы снова увидеть себя в театре. Подруги из
Матрёновки не поверят, где она побывала. «Ты мастер, — скажут, — выдумывать
сказки».
— Сестрица! — услышала она вдруг и вздрогнула, застигнутая врасплох со
своими домашними мыслями. Не место, не время им сейчас. Виновато огляделась.
— Пить, сестрица! — раздалось снова.
Она быстро подошла к больному, напоила его, поправила одеяло, и он скоро
уснул. А потревоженные мысли вновь слетелись к ней и сложились в письмо к
своим, в Матрёновку. Осталось только на чистый лист их перенести. Но как это не
просто сделать!
Она шепотом произносит слова и старательно выводит их на бумаге, как
бусинки на нитку нанизывает. Пересказала все последние новости из своей жизни и
закончила как обычно: «Остаюсь навсегда ваша дочь Груня».
Вести из
Болгарии
В Петергофский военный госпиталь привезли раненых, прямо из Болгарии.
Сюда их еще ни разу не привозили. Среди них — болгарин, его положили в палату,
где работала Груня.
Он был какой-то необычный, яркий: сам смуглый, глаза черные, блестящие.
Болгарин поймал Грунин взгляд и улыбнулся.
— Моето имя е Недялко Драганов. А ты как се назваш? — спросил он не
совсем по-русски, но понятно.
Груня назвала свое имя и сказала:
— Ты помолчи, побереги силы. Тебе трудно.
— Нет, — возразил он и заговорил быстро-быстро. С трудом, но можно было
уловить знакомые слова: дом, мама, сестра, татка. Они звучали как русские,
только с твердым выговором. Связать же слова в отдельные предложения Груня не
смогла. Лишь по лицу догадывалась, что он рассказывает о чем-то тяжелом,
страшном.
Прибывший вместе с ним солдат, тоже тяжело раненный, — его звали Сергей
— сказал:
— Мы вместе воевали, Недялко из болгарского ополчения. У него горе —
всех родных побили турки, никого не осталось. Он немного говорит по-русски, а
сейчас волнуется и путает слова.
— Умею немного по-русски, — подтвердил Недялко. И снова стал
рассказывать про себя. Слова звучали непривычно на русский слух, будто
наталкивались на преграду и, сделав усилие, преодолевали ее. Он говорил про
свой родной город Тырново, но слов не хватало, и Сергей остановил его.
— Передохни, друг, — сказал он сочувственно, — я сам расскажу. — И
Груне: — Мы вместе освобождали Тырново, красивый, древний город, вместе воевали
на Шипкинском перевале. Там нас обоих и ранило. Его утром, а меня под вечер.
Лежу под кустом в ложбине, то забудусь, то в сознание приду. И позвать не могу
на помощь — турки рядом. Тьма уже опустилась в горах. Ну, все, думаю, конец
моей жизни. Глядь — свет ко мне приближается. Идут двое: женщина и старик, в
руках фонарь раскачивается. Тут они меня и увидели. Оказывается, они сами,
никто их не просил, не заставлял, ходили выискивали раненых. Если б не они,
лежать бы мне вечно в той земле. А то помогли добраться до своих, раны
перевязали. Вот они какие, болгары, славные люди.
Груня радовалась:
— Как же хорошо, что они такие сердечные!
Солдат оживился, лицо порозовело, в глазах появилась улыбка. Он стал
вспоминать, как воевал в Болгарии. Раненому дороги воспоминания, он снова
чувствует себя сильным. И так нужно, чтоб было кому выслушать его, это как
целебное лекарство. А Груня слушала участливо.
— Если бы ты видела, сестрица, как нас там встречали! — вспоминал
солдат. — Лошадей целовали наших, не только нас. От такой картины слез
невмоготу было сдержать. И шли мы по Болгарии, будто по родной России, так там
о нас заботились, кормили, поили. Что и говорить-то! Так оно и было, ничего не
сочинил, — прочувствованно сказал солдат. Он умолк, но все еще продолжал
улыбаться своим воспоминаниям.
— Ты, случаем, не видел там братьев моих? — с надеждой спросила Груня. —
Михайловы их фамилия. Одного Егором звать, другого Федором. Вспомни.
— Нет, сестрица, не упомню, — с сожалением ответил Сергей. — А я с
первых дней на войне. И через Дунай переправлялся, а Михайловых не было рядом.
И Тырново освобождали — не встречал их. Нет.
Услыхав название родного города, болгарин встрепенулся, попытался
приподняться, но не смог. Глаза стали грустными-грустными.
— Не горюй, — ласково проговорила Груня. — Вот увидишь, ты еще вернешься
в свой город. — И погладила его по голове, как маленького. А он неожиданно поцеловал
ей руку.
— Най-сърдечно ти благодаря, — сказал он по-болгарски. Чуть-чуть
повернулся на правую сторону, так ему было легче. И скоро уснул.
— Ты тоже усни, — сказала Груня Сергею.
Тот послушно кивнул головой и зажмурился, чтобы скрыть мучавшую боль. Но
Груня заметила все и не уходила, пока он не сказал:
— Отпустила.
Груня облегченно вздохнула. Никогда она не привыкнет к чужому страданию,
самой сразу становится больно.
Она перебирала в памяти рассказ солдата о Болгарии и мысленно была там.
Скорее бы и ей на передовую. За последнее время много сестер Красного Креста
уехали туда на службу. А они с Верой все еще работают в Петергофском военном
госпитале. «Набирайтесь опыта, чтобы от вас была на фронте польза», — говорят
им. Даже обидно. Неужели они мало знают? Кажется, все уже умеют делать, что
положено сестрам милосердия, а от них требуют еще большего. От каждой сестры,
не только от них с Верой Мелентьевой.
Петербургской
осенью
Пасмурно. Накрапывает мелкий дождик. С моря дует холодный ветер. Недавно
случилось наводнение. Нева вышла из берегов, пробежалась по набережной неподалеку
от дома, где жила Груня. Залила подвалы и нижние этажи и, нагнав страху,
медленно отступила. Жизнь вновь пошла своим чередом.
Рабочий день в госпитале начинался рано. На улицах еще темно, и самое
неприятное — не дающий передышки дождь. А в Матрёновке сейчас стоит сухая
осень, «бабье лето». В лесу орехи созрели, высыпаются из своих гнездышек-шапочек.
В огородах все убрали. Горят, сияют на солнце листья — желтые, красные,
золотые. Осеннее загляденье! Из дому пишут: «Урожай хороший собрали. Ссыпали зернышки.
С первого намолота испекли пирогов с коноплей». Груня счастливо вздыхает.
Но это так, для радости, воспоминанье. Главные же мысли Груни о далекой,
пока неведомой Болгарии. Бои там идут, не прекращаются, особенно на Шипке.
Тяжело досталось во время августовских сражений и нашим солдатам, и болгарским
ополченцам. Стояла редкостная жара. Солдат измучила невыносимая жажда. Воду
можно было достать лишь из ручейка, который протекал в ущелье восточнее горы
Святого Николая. Отправлялись за водой добровольцы. И почти никому из них не
удавалось вернуться живым. К счастью, на помощь пришли жители Габрова и
окрестных сел. По нескольку раз поднимались в гору женщины с кувшинами воды и
едой, чтоб напоить и накормить солдат, помочь раненым. Прославились и
габровские мальчишки. Они под пулями подносили солдатам воду, и многие из них
погибали, как настоящие воины. Невероятные тяготы выпали на долю защитников
Шипкинского перевала, но они устояли под натиском турецких войск, отбили их
напористые атаки.
И вновь донеслась до России весть о знаменитом Самарском знамени.
Там, на Шипке, двадцать первого августа разгорелось особенно крупное
сражение. Пятьдесят батальонов турецких войск двинулись против Орловского полка
и пяти дружин болгарского ополчения. Но защитники Шипки день за днем отбивали
яростные атаки врагов. Особенно страшен был последний штурм.
Кончились снаряды, не было патронов, и уже совсем рядом синие мундиры и
красные фески. «Алла! Алла!» — доносились воинственные крики турок. Они рвались
к Самарскому знамени.
Нечем отбиваться, и на атакующих стали сбрасывать камни.
«Шипкинские орлы» отстояли перевал. На вершине горы продолжало
развеваться Самарское знамя, все изрешеченное пулями.
После сражений на Шипке и под Плевной в Россию прибыло много раненых. Еще
больше оставалось их там, в Болгарии, в дивизионных госпиталях.
Груня сетовала: «Неужели и теперь не пошлют на передовую? Когда же тогда
еще?»
Но наконец-то! Свершилось! Пронеслась весть, что большую группу сестер
милосердия направляют в Действующую армию на Балканы. Вошли в нее и Груня с
Верой Мелентьевой. На сборы отводился короткий срок.
Дни пролетали с неимоверной быстротой. И вот уже завтра отъезд.
Как всегда перед значительным событием, стало тревожно. Груня сидела
задумавшись. Не упустить бы чего важного... Надо распрощаться со всеми, кто ее
учил и поддерживал. Да чтоб, случаем, долгов каких за ней не осталось. Вдруг
что произойдет непредвиденное, не полагается уходить, не отдав долгов. С Михаилом
Николаевичем она расплатилась, отослала деньги по почте. И письмо на днях
послала, сообщила, когда уезжает.
Перебрала все в памяти, написала письма в Севск, Ольге Андреевне, и
домой и стала укладывать вещи в дорогу. Ну, вот, все сделано. «Что-то Вера не
идет, ей тоже надо укладываться, не собрала еще свои вещи», — заботливо
подумала Груня.
Сегодня они с Верой еще не виделись. Днем не пришлось: работают в разных
палатах, а вечером — тоже. Потому что Вера ушла к своим петербургским
родственникам проститься перед отъездом.
«Да что ж это ее нет! — беспокоилась Груня. — Поздно!» Она уже
собиралась лечь спать, и в это время вернулась подруга.
— Ты не спишь? — весело крикнула Вера с порога. — Ах, как славно!
Сняла пальто с капюшоном, такое же, как у Груни и других сестер
милосердия.
— Не узнать тебя! Как же красиво! — воскликнула Груня.
Обычно Вера была в сером платье с фартуком и белой косынке — в таком
виде полагалось сестрам милосердия являться на работу. А тут — нарядное
бархатное платье темно-вишневого цвета. И прическа к лицу: густые темные волосы
собраны в большой пучок. На ногах — модные туфли на высоком каблуке.
— Захотелось принарядиться, прихорошиться, когда еще доведется... —
будто оправдывалась Вера. И рассказала, где была. Сначала у тетушки, потом со
всеми родственниками слушала оперу «Демон» в Мариинском театре. — Ах, Грунечка,
как замечательно все пели! Жаль, что тебя со мной не было.
Она быстро переоделась и стала укладывать вещи в чемодан, продолжая
рассказывать про оперу. Ведь Груня даже не слыхала, что бывают представления,
где актеры не говорят, а поют на разные голоса.
— Вернемся живые, мы с тобой вместе послушаем оперу, а рассказывать о
ней трудно. — И вдруг неожиданно попросила: — Дай-ка мне стихи Пушкина,
помечтаем, что ждет нас. Молодец твой Добрый человек, замечательную книгу
преподнес тебе, бесценную.
Груня вынула томик стихов, который положила в чемодан поверх своих
вещей, и дала подруге. Интересно, как она задумала мечтать вслух с книгой?
Вера наугад открыла страницу и стала читать первое, что бросилось в
глаза:
В надежде славы и добра,
Гляжу вперед я без боязни...
Довольно!
— быстро захлопнула она книгу. — Не станем искушать судьбу — читать дальше.
Здесь прямо про нас с тобой написано. О славе не будем думать, добро и
милосердие — вот наша слава. И — вперед без боязни!
Груня подхватила ее слова:
— «Иди и не бойся!» — так мне сказал отец, когда я уходила из дому на
войну. Мне его слова помогают.
Она улыбнулась своим воспоминаниям. Ей было сейчас так хорошо сидеть
рядом с подругой и говорить о том, что близко.
— Спасибо тебе за все, — сказала она Вере.
— И тебе тоже, Грунечка.
Они умолкли. Каждая подумала о том, что ждет впереди и выпадет ли еще
когда такой спокойный вечер?
Уснули они обе поздней ночью и встали непривычно рано.
— А я дома побывала во сне, — с улыбкой сказала Груня. — Мамушка пирогов
напекла, один мне дала, другой тебе велела передать. Хороший сон. Быть удаче
нам обеим.
— Ты добрая, — сказала Вера. — Тебе доброе и снится. — И напомнила: —
Скоро ехать. Надо попрощаться с больными. Ты пойдешь к своим?
— А как же! — воскликнула Груня.
Они закончили сборы, чтобы потом без спешки ехать на вокзал, и
отправились в Петергофский госпиталь.
Груня обошла палату, пожелала всем здоровья. Ей тоже говорили в один
голос:
— Возвращайся здоровой. Береги себя! — И просили, чтобы написала письмо.
А болгарин Недялко сказал на своем языке слова, понятные и без перевода:
— До вижданя, госпожица сестра! Най-сърдечно ти благодаря.
И снова, как в первый день прибытия в госпиталь, поцеловал ей руку.
Благодарил за все.
— Выздоравливайте, родные! — от души пожелала Груня. И пошла. У порога
оглянулась и поклонилась. Всем сразу.
На вокзале
Уже смеркалось, когда Груня с Верой добрались до Николаевского вокзала.
Неласково провожал их Петербург. Накрапывал дождь. Дул пронизывающий ветер.
— Дождик в дорогу — хорошая примета, — и здесь находила Груня повод
порадоваться.
А Вера молча улыбнулась в ответ. У нее тоже было хорошее настроение.
Николаевский вокзал был полон народу.
Люди смеялись, говорили, плакали, старались перекричать друг друга.
В этой сутолоке Груня потеряла подругу. Она ходила по вокзалу, пытаясь
разыскать ее, потом увидела, но подойти не решилась. Веру окружили
родственники, пришли проводить ее. Других сестер тоже кто-нибудь провожал.
Только Груня оказалась одна, и от этого было немного грустно.
Постепенно в зале стихли разговоры, начались официальные проводы сестер
милосердия. К ним обращались с напутственным словом, называли патриотками и
подвижницами, прославляли за стремление помочь тем, кто больше всего нуждается
в их помощи. За любовь не только к своей родине, а ко всему человечеству, так
как лишь истинная любовь могла вдохновить их на такой самоотверженный труд.
Груня близко к сердцу принимала каждое слово, ведь это и к ней оно
обращено, и согласно кивала. «Конечно, любовь: и к русским солдатам, и к
болгарским людям. Без любви и веры в Добро никакие блага не свершаются» — это
она понимала сердцем.
Торжественные выступления закончились. Заиграла музыка, и вновь все
сбились возле своих родных. От нечего делать Груня принялась разглядывать
вокзал.
Вот тут она сидела до рассвета тогда, в июне, когда приехала в Петербург
из Москвы. Впрочем, никакого рассвета и не было. Все время было светло, белые
ночи — примета этого великого города.
Прямо отсюда она в то утро вышла на Невский проспект, ставший ей
навсегда близким. Там она с Добрым человеком ходила, там познакомилась с
замечательной женщиной Юлией Петровной Вревской. Кто знает, может быть, удастся
увидеть ее в Болгарии. Ведь Юлия Петровна сама сказала на прощанье: «Может,
встретимся еще».
По вокзалу прошли к платформам жандармы. Засвистел паровоз. Начиналась
посадка. Сестры милосердия направились к своим вагонам.
И тут на платформе Груня увидела Доброго человека. Он шел твердым шагом
в распахнутом пальто, в шляпе, в руках — зонт и цветы. Переходил от вагона к
вагону, заглядывал в окна, явно кого-то разыскивая. Груня догадалась — ее,
конечно, на то он и Добрый человек. Глаза засияли от счастья: «Пришел! Пришел!»
Он увидел ее и быстро шагнул навстречу.
— Так вот где ты, Аграфена свет Тимофеевна! — весело проговорил он. —
Возьми, это тебе, — протянул он ей букет лиловых астр.
— Спасибо, спасибо, — прошептала она взволнованно. — Как же мне
хотелось, чтобы вы пришли! — от всего сердца вырвались у нее слова. — Мне
теперь этой радости хватит на всю жизнь.
Михаил Николаевич шутливо поклонился и воскликнул:
— Помилуйте, помилуйте, сударыня! Это я должен радоваться. Так-то,
сударыня. Цените себя. — И перевел разговор на серьезный лад: — Ты лучше, друг
мой, обещай написать мне, как прибудешь к месту назначения. Я буду ждать твоих
писем, они мне очень нужны. А чтобы ненароком не позабыла мою просьбу, вот тебе
пакет с бумагой и конвертами. Их надолго хватит.
«И об этом позаботился, — подумала Груня растроганно. — Добрый, добрый
человек!»
— Да, — вспомнил он, — посылает тебе поклон Александра Максимовна. Я
взялся вести ее дело.
Груня только благодарно взглянула на него.
До отхода поезда оставалось совсем немного времени.
— Ты должна вернуться, Груня, — сказал Михаил Николаевич на прощанье. —
Счастливого тебе пути. И не отступайся от своей цели!
Он кивнул ей, потом поцеловал руку.
Поезд тронулся. Все прильнули к вагонным окнам, прощаясь с теми, кто
оставался дома. Груня стояла притихшая и опечаленная. Неужели никогда больше не
увидит она своего Доброго человека? Самого лучшего из всех, кого она узнала за
последнее время. «Ничего! Ничего!» — произнесла она спасительное слово, которое
всегда ей помогало. Помогло и на этот раз.
На болгарской
земле
Долга и длинна дорога из Петербурга в Болгарию. Проехали Москву и Тулу,
скоро должен быть Орел. У Груни сердце замирало от волнения, так памятно здесь
все ей. Еще три месяца тому назад шла по этим местам пешком. Где-то поблизости
село Воздвиженское. И сразу вспомнилась тетка Устинья. Как она там поживает,
добрая душа?
В Орле поезд немного задержался. Груня с Верой вышли на платформу.
Кругом множество народу. Станция загромождена военными поездами.
На запасном пути стоит товарный вагон. Около прохаживаются солдаты в
серых шинелях с красными погонами и синими петлицами. Фуражки тоже с синими
околышами. На поясе патронные сумки. Солдаты немного похожи друг на друга:
светло-русые, сероглазые и синеглазые, с виду крепкие, может, орловские, а
возможно, кто-то из Севска. Крепко засел в памяти у Груни этот старинный город.
Слышен гул паровозов, стук колес, свист — все в движенье, все живет
военными заботами.
Наконец, тронулся и Грунин поезд. Снова замелькали теперь уже незнакомые
места.
Как же велика Россия! Не скоро осталась граница позади. Потом — Румыния,
и вот — долгожданная болгарская земля.
Величавый Дунай, высокие горы, широкие равнины, виноградники, диковинные
фруктовые сады — все поражает своей непривычностью. Тут же следы войны: сожженные
села и деревушки, разрушенные дома. Вот оно, какое лицо войны-пагубы! И
охватывает щемящая жалость к людям, переживающим страшные бедствия, к
земле-страдалице...
После долгих дней пути санитарный поезд, наконец, прибыл к месту
назначения. Большой отряд врачей, сестер милосердия и санитаров был распределен
по разным военным госпиталям. Груню с Верой и старшей над ними сестрой
милосердия направили в лазарет под Горным Дубняком, верстах в десяти от Плевны.
Сам же Горный Дубняк находился в руках турок.
Сестры милосердия выехали на санитарной повозке к месту своей службы. Их
сопровождал ездовой Тимофеич. Уже немолодой солдат, лет сорока, коренастый,
крепкий на вид, чуть прихрамывающий после недавнего ранения.
Лошади шли мерно, спокойно, Тимофеич не торопит их. Впереди
вырисовываются высокие горы — Стара-Планина. Вокруг виноградники и фруктовые
сады. Воздух напоен ароматом трав и зрелых плодов. И над всем — теплое
царственное солнце, не такое, как в туманном Петербурге.
— Хорошо-то как здесь! Благодать! — восхищенно воскликнула Вера.
— Добрая земля, — согласился Тимофеич, — тучная. — И спросил с
нескрываемым нетерпением: — Ну, что там у нас нового, в России? Я уж, почитай,
пять месяцев как из дому.
— Все по-старому, — ответила Вера. — Осень пришла. Урожай, говорят,
неплохой, как-то обошлось в этом году, не случилось нигде засухи. В газетах о
войне много пишут, о подвигах наших солдат под Плевной и на Шипке. Мы так
рвались в Болгарию.
— А я, честно сказать, по дому сильно тоскую. Семья у меня большая —
сыновья, дочки, жена добрая, родители еще здравствуют. Хочется всех повидать.
Всего ничего, может, с версту проехали вместе, а будто век знакомы друг
с другом. Мягкий, спокойный взгляд Тимофеича вызывает доверие. И говорит он
охотно, на все вопросы отвечает обстоятельно. Понимает, как не терпится только
что прибывшим сестрам узнать обо всем сразу. Для них здесь все внове.
— А в бою страшно? — допытывается Вера.
— Разве нет? — ответил Тимофеич. — Да ведь двум смертям не бывать, одной
не миновать. Чего таиться, хочется уцелеть. А что делать? Со мной так: вначале
жуть берет, потом себя забываешь, одно на уме — одолеть ворога. Я, видишь, до
Плевны дошел. Как раз тут под Плевной в двух крупных сраженьях участвовал,
служил в 12-м пехотном полку у самого Скобелева.
— Скобелева? — переспросила Вера с почтением. — Про него легенды
складывают, говорят, он необычайно храбрый человек.
— Истинная правда, — согласился Тимофеич. — Храбрости у него не
отнимешь. Но что всего дороже нашему брату солдату, заботливый он, думает о
нас.
— А какой он из себя? — расспрашивала Вера.
— Бравый такой, молодцеватый, — с удовольствием проговорил Тимофеич. —
Годов за тридцать ему, не больше. Взгляд у него хороший. Посмотрит на тебя, в
душу проникает. Турки зовут его по-ихнему, по-турецки, «Ак-Паша», по-нашему
значит «генерал в белом».
Я его в первый раз видел на Дунае. Наша 14-я пехотная дивизия
переправлялась на лодках на другой берег. И Скобелев с нами. Турки осыпали нас
пулями со всех высот. Только к утру удалось закрепиться на другом берегу Дуная.
Отступили турки, но бой не кончался. Наши стрелки засели в виноградниках и
оттуда стреляли по неприятелю.
Тут я и увидел Скобелева. Идет по винограднику прямой, в белом кителе,
пулям не кланяется. То к одному стрелку подойдет, то к другому, скажет два-три
слова, подбодрит и дальше следует. Всех обошел, как простой ординарец, передал
приказ генерала Драгомирова о наступлении. Храбрый человек, не прячется от
опасности! Солдаты ему верят, в огонь и воду идут за ним. Он, видишь, как
говорит? «Стрелять последними должны мы, а не противник». Сам всегда идет
первым, а уходит последним.
Вот он каков, Михаил Дмитриевич! — с гордостью проговорил Тимофеич и
молодцевато подтянулся, будто почувствовал себя вновь в боевом строю, перед
взором самого Скобелева. Славного «генерала в белом».
Петрана
Лошади чуть замедлили ход и устало поднялись на пригорок, откуда
открывалось большое кукурузное поле. Проехали его и очутились меж двух холмов,
в маленьком поселке. И сразу их санитарную повозку окружили местные жители. Они
улыбались и что-то громко говорили. Оказалось, приглашают в гости. Да так
настойчиво и сердечно, что нельзя было не откликнуться на приглашение.
— Давайте остановимся, — решила старшая сестра. — Ведь от всей души
просят. Зачем обижать людей?
К Груне подбежала девочка лет девяти, протянула цветок и быстро сказала
что-то.
— Детка, милая, как тебя зовут? — спросила она маленькую болгарку и
погладила по голове.
Девочка взглянула на нее преданными глазами, силясь понять, и огорченно
произнесла:
— Не разбирам те, не разбирам, — и прижалась к ней.
Высокий седой старик наклонился к девочке и повторил ей по-болгарски
Грунин вопрос:
— Как се назваш?
Девочка вся засветилась улыбкой и крикнула:
— Петрана! Огнянова Петрана! — Показала на старика: — Дядо Бойчо
Огнянов. — И, уже совсем осмелев, сказала, подбежав к молодой женщине: — Мама.
Димитрица.
— А меня Груня зовут, — сказала Груня.
— Груня! Груня! — нестройно повторили рядом.
Все кругом старались говорить как можно понятней: аккуратно подбирали
слова, по многу раз толковали одно и то же. И Груня не заметила, как исчезли ее
подруги и ездовой Тимофеич.
— Где они? — растерянно оглядываясь, спросила она.
Ей показывали руками: там, мол, там. Она поняла, что их увели к себе
домой соседи.
Петрана крепко взяла Груню за руку и настойчиво потянула к своему дому.
Сама раскраснелась, глаза горят, темные волосы раскинулись по плечам красивыми
локонами. «Какая пригожая», — залюбовалась девочкой Груня.
— Молим те, молим, — повторяла приглашение и мать Петраны.
— Много те молим! — просили ее в дом все.
Она сразу поняла, чего хотят от нее. «Молим», конечно, значит «просим»,
а «те» — и в Матрёновке говорят так. И уже без перевода понятно слово «много».
Петрана с гордым и счастливым видом повела гостью к дому. Красивый дворик, сад,
в доме чистота. В углу рядом с иконами стояло небольших размеров знамя с
золотым львом. Под такими знаменами отряды болгарских повстанцев вели борьбу за
освобождение от турецкого ига.
На столе в одно мгновение появились незнакомые Груне блюда: банница —
слоеный пирог с брынзой, фаршированный перец, кукурузный хлеб, баклажанная
икра. На закуску персики, дыня, сливы, виноград.
— Ешь, ешь, — угощают Груню все. И вперемежку с русскими словами — их
немного знает дед Петраны — объясняют: — Хороший нынче урожай, давно не было
такого.
— Добре́, добре́, — согласно подтверждают за столом. И вновь в один голос начали ей
что-то втолковывать.
Рядом сидит Петрана, глаз не спускает с гостьи из России. Груня и сама
не знает, отчего так, но вдруг она начала улавливать значение непонятных слов.
Будто знала их раньше и забыла, а вот теперь вспомнила наконец.
— Разбираш ли ме? — допытывалась хозяйка, которая пыталась объяснить,
как жилось им под властью турок.
— Разбирам, разбирам, — уверяла по-болгарски Груня. — Аз разбирам.
Оно и не сложно было разобрать. Скажут «турчин», и на лице ужас и ненависть,
сразу понятно — про турок разговор. Скажут «русин», «рускиня», «дядо Ваньо» — и
на лице улыбка. Как же этого не разобрать! А слово «аз» слышала еще в
Петергофском госпитале от Недялки — что значит «я».
«Сгинуло лихо! Сгинуло! Дядо Ваньо пришел! Свобода!» — нужен ли здесь
перевод? Только вслушивайся. Настраивайся сердцем и умом, чтобы услышать. И
Груня трепетно вслушивается, впитывает смысл слов, их звучание и
вознаграждается за это. Как старые знакомцы предстают перед ней болгарские
слова, только в непривычной для них одежде. Даже странно, как можно было их не
узнать с самого начала.
— Разбирам! Разбирам! — восклицает она, счастливая тем, что почти все
понимает. И как после встречи с учительницей из Севска, с теткой Устиньей,
Добрым человеком, подумала: «Господи, какие же хорошие люди! Век бы не
расставалась с ними!»
А всех милее ей девочка Петрана. Ласковая и добрая, совсем как младшая
сестренка Анюта. Но внешне такие непохожие: Анюта голубоглазая, беленькая, как
ромашка, и спокойная, а Петрана быстрая, в глазах огоньки горят. Только
улыбаются обе девочки одинаково ласково. Все цветы алые, все дети милые, и
русские и болгарские.
Вынула свое драгоценное зеркальце, Егоров подарок, и отдала Петране. На
долгую память.
Быстро пролетело время в гостях, пора в путь. И так позволили себе
поблажку, почти час гостевали. Придется нагонять время в дороге.
Опять у дома собрался народ. К Груне подошла старушка в черном платке и
быстро что-то проговорила. Понятными были лишь слова: «Добре госпожице». Зато
без слов все было ясно, когда старушка погладила ее по лицу и поцеловала в
румяную щеку.
Подвода тронулась.
— Спасибо! Живите долго и счастливо! — громко крикнула на прощанье Вера.
Ее слова подхватили мальчишки и, прыгая, повторяли на все лады:
— Живите долго и счастливо! Долго! Счастливо! — И бежали вслед до края
поселка, поднимая облака пыли.
Русские солдаты
Чем ближе к Горному Дубняку, тем оживленней становилось на дороге
движенье. На сильных конях проскакал отряд кавалеристов. Лишь пыль взвилась над
дорогой. Медленно двигалась артиллерия. Пушки на дубовых колесах, обитых
железом, на стволах ярко выделяются клейма — в них город Санкт-Петербург. Вот
откуда прикатили!
Из-за поворота вышли солдаты в темных мундирах и темных фуражках. За
спиной тяжело нагруженные ранцы, на плече ружье. Вид усталый: много верст
отшагали. Впереди офицер с длинной саблей. Он вдруг скомандовал:
— Запевай!
Запевала, лихо сдвинув на затылок фуражку, начал с ходу:
Было дело под Полтавой,
Дело славное, друзья,
Мы дрались тогда со шведом
Под знаменами Петра.
Все подхватили, мигом приободрившись, любимую солдатскую песню. Тимофеич
остановил повозку и хотя негромко, но с азартом начал выговаривать знакомые с
давних времен слова про Петра Первого:
Сам командовал полками,
Сам он пушки заряжал.
На лице Тимофеича мелькнула улыбка. Вспомнился вдруг случай со знакомым
солдатом-артиллеристом. Тоже дело было славное, только не под Полтавой, а под
Плевной. Не выдержал, стал рассказывать своим попутчицам, как в бою оказался
артиллерист один перед турками со своей пушкой. Другой человек на его месте
оробел бы, а он — куда там! Головы не потерял. Сам себе подавал команды, сам
подносил снаряды, сам пушку заряжал. И все у него выходило ловко, как-то
весело. Держался наш бравый артиллерист, пока не стало чем отбиваться. Тогда
только покинул вал.
— Чем не герой? Герой! — похвалил Тимофеич отчаянного храбреца и
повторил с удовольствием слова из солдатской песни: — «Сам он пушку заряжал!»
Он не сердито прикрикнул на лошадей. Те побежали трусцой, а он пустился
в рассужденья.
— Вот ты интересовалась, — обернулся он к Вере, — страшно ли в бою?
Конечно, страшно. Но надо! И ты идешь. А случиться всякое может, опять же надо
надеяться, что тебе не дадут пропасть, коль что случится. Сам погибай, а
товарища выручай — по такой заповеди и живем здесь. Расскажу я, коль охота
слушать, еще про один случай, летом, как раз было в горах, возле Бобровского
ущелья. Отрядили наши разъезд наблюдать за турецкими постами. Ровным счетом
выехало двенадцать человек. Ехали-ехали и очутились у пропасти. Повернули назад
— а там засада! Турки стоят, поджидают. Картина сложилась отчаянная. Куда
податься?.. «Марш! Марш! Коням шпоры!» — скомандовал унтер-офицер. Крепкие кони
мигом перелетели через пропасть. Ускользнули от засады, вырвались! Вырвались — да
не все! Одного солдата не досчитались.
Унтер-офицер, не раздумывая, перемахнул через пропасть, где сбились
турки, и увидел нашего солдатика. Тот спешился, ружье на изготовку, а вокруг —
синие мундиры и красные фрески. Хотят турки взять русского солдата живьем.
«Держись!» — крикнул унтер-офицер, рубанул шашкой направо-налево,
подхватил солдата и ускакал вместе с ним. Вслед полетели пули, да, видишь, ни
одна не задела. Вот какие бывают случаи, — с гордостью закончил Тимофеич.
— Это подвиг! — восхищенно сказала Вера, она за всех вела разговор со
словоохотливым ездовым. — Оба они герои.
— Я и говорю, — подхватил Тимофеич и задумался, перебирая в памяти
разные случаи. С тех пор как он переправился через Дунай, многое довелось
повидать, хлебнуть всякого лиха. Всему дал свою оценку. Одно, достойное, —
возвысил, другое — осудил. И, отвечая своим мыслям, проговорил вслух: — Я вам,
сестрицы, мог бы еще и про солдата Степанова рассказать. Поучительный пример.
Но начал не сразу рассказ, чтоб пробудить больший интерес.
Закурив, тихим голосом стал подгонять лошадей, а когда те вновь сбавили
шаг, заговорил:
— Это тут как раз под Плевной было, в начале августа. В бой пошла 19-я
пехотная рота. (Груня заметила про себя: Тимофеич любит точность. Называет и
время, когда что произошло, и номера частей.) Наши дрались отчаянно, —
продолжал Тимофеич, — но перевес был на турецкой стороне. Мы несли большие
потери. Было много раненых, ранили и солдата Степанова в голову и ноги.
Очнулся он поздней ночью. Луна светит, и тишина вокруг. Только слышит он
конский топот — двое турок едут. Солдатик лег на спину, притворился мертвым.
Турки соскочили с лошадей и стали обшаривать убитых, раненых же добивали. Один
турок ударил Степанова в лицо ногой, проверить, может, живой. Солдатик наш
сдержался, вытерпел страшную боль, не вскрикнул и глаз не открыл. Не
пошевелился и в тот миг, когда стягивал с него, идол поганый, сапог с
перешибленной ноги. А напоследок турок вновь ударил его. Все выдержал Степанов.
Откуда у него только силы брались!
Вороги уехали, но это еще не все испытанья.
Снял он с себя рубаху, оторвал рукав и обмотал рукавом разбитую ногу.
Делать нечего, спасай сам себя, солдат. И он пополз, сдерживаясь, чтобы не
застонать от мучительной боли.
Наступил рассвет, а он все ползет! Еще, еще! Не хочет сдаваться смерти.
Турки вновь его чуть не обнаружили, но он успел в кустах спрятаться. Проехали
мимо, не заметили его. Только на вторую ночь дополз горемычный до своих —
натолкнулся на казачий разъезд. «Братцы! Братцы! Спасите!» — крикнул он слабым голосом,
не в силах подняться. Его услыхали. Казак посадил его к себе на коня и привез в
лазарет.
Так вот и спас себе жизнь солдат Степанов. А потерялся бы, пришел в
отчаянье, и не стало бы его. Теперь он снова на ногах, в 19-м Костромском полку
состоит.
Да что там! — воскликнул Тимофеич. — Хоть и говорят: от судьбы не уйдешь
— да только судьба судьбой, а за жизнь крепко стой, не отдавай попусту. Она для
славных дел годится.
Все! — закончил неожиданно Тимофеич. — Отвел душу, наговорился и вас
совсем заговорил. Что там случилось? — встревожился он.
Навстречу ехали болгары на телегах и вьючных лошадях. Из корзин,
пристроенных на ослах, выглядывали дети, тревожно озираясь по сторонам.
Молодая болгарка с ребенком на руках подбежала к санитарной повозке.
— Турки не придут? Надо бояться? — быстро спросила она.
— Не бойся, — ответил Тимофеич.
Она заплакала, но уже успокоенно. Кто-то произнес:
— Боже, дай русским силу!
Следом прозвучали слова:
— Много счастья! Много здравия, братушки! На добр час!
Толпа расступилась, пропуская санитарную повозку с Тимофеичем и сестрами
милосердия.
Вот она, болгарская земля! Разделилась: к одним свет и радость пришли,
другие еще горе мыкают. Одни ликуют: «Свобода!», другие в неволе страдают.
Но сгинет, скоро сгинет лихо на болгарской земле. Придет для всех
долгожданная свобода!
Битва за Горный
Дубняк
Болгарская осень, так похожая на российское «бабье лето», сменилась
ненастьем. Похолодало. Начались сильные дожди.
Все ждали сражений за Плевну.
Турки превратили Плевну в неприступную крепость. Вокруг ряды окопов,
траншеи, редуты. Само расположение города благоприятствовало турецкой армии: он
раскинулся на холмах, внизу — глубокая лощина, по которой течет река Вит.
Не раз пытались русские солдаты штурмовать Плевну. Но безуспешно.
Особенно тяжелые сражения произошли в сентябре, незадолго до прибытия сюда сестер
милосердия из Петербурга. Потери русских были так велики, что Главное
командование предложило на некоторое время отойти от Плевны.
Но позднее было принято новое решение: начать ее осаду.
Из Петербурга прибыл в Действующую армию генерал Тотлебен, чтобы возглавить
руководство осадой. Тотлебен — талантливый русский военный инженер, который
отличился еще в Крымскую войну, во время героической защиты Севастополя. Теперь
на него возлагали большие надежды.
Он тотчас же приступил к осадным работам. Прежде всего было намечено
завершить полное окружение города и сделать это как можно скорее.
Турки не подозревали о замысле русских и чувствовали себя уверенно. Под
Плевной на Софийском шоссе они построили сильные укрепления в трех деревнях —
Телише, Горном Дубняке и Дольнем Дубняке. Как раз здесь проходила дорога, по
которой турки беспрепятственно подвозили в Плевну продовольствие и оружие.
Необходимо было помешать им это делать, только тогда и удалось бы завершить
полное обложение Плевны.
Помешать — значит отбить у турок все три их укрепления на Софийском
шоссе, в первую очередь Горный Дубняк. Начать бой за Горный Дубняк приказано
было генералу Гурко, командующему войсками за рекой Вит. Сорокадевятилетний
генерал всегда действовал смело и решительно. Уже в начале войны под его командованием
Передовой отряд Дунайской армии — всего двенадцать тысяч человек при сорока
орудиях — совершил смелый переход через Балканы и седьмого июля захватил
Шипкинский перевал. Были одержаны им и другие славные победы.
В ближайшее время гвардейским частям генерала Гурко предстояло начать
бои за Горный Дубняк.
Болгарский разведчик Иван Додонов разузнал, что там находится три тысячи
турецкой пехоты, тысяча кавалерии и два орудия, и сообщил об этом русским.
Донесение разведчика помогло более тщательно подготовиться к предстоящей битве.
В ночь на двадцать третье октября солдаты начали сниматься с бивуаков.
Готовился в поход и санитарный летучий отряд, в состав которого входила Груня.
Солдаты грелись у догоравших костров; у всех серьезные, задумчивые лица.
Впереди бой. Не всем повезет, не все останутся живыми. Вспоминали о доме,
уговаривались не бросать друг друга, коль ранят кого-то из них. Ничто так не
страшило солдата, как попасть в плен к туркам.
От костра к костру переходил офицер с длинной саблей на боку. Говорил
что-нибудь ободряющее то одному солдату, то другому и непременно просил:
— Смотри, братец, береги патроны. Без толку не выпускай. Стреляй редко,
да метко.
— Да уж мы знаем, — отвечал солдат, — надо беречь. Постараемся.
Он, как и офицер, понимал, что силы были не равны. Большая разница — с
вооружением у русских и у турок. Вражеская пехота была вооружена новейшими
английскими скорострельными винтовками, с прицелом на тысячу восемьсот шагов. И
патронов было в изобилии — англичане снабжали бесперебойно. А у русской пехоты
винтовка устаревшего образца с коротким прицелом: всего на шестьсот шагов.
Новыми же винтовками — берданками, которые считались не хуже турецких, вооружены
были лишь стрелковые части. Не хватало и патронов.
Но «пуля — дура, штык — молодец!» — говорил русский солдат и шел в бой
без страха. Да и прибавляла ему сил вера в правоту вершимого им дела. Он знал,
зачем пришел в Болгарию: не завоевывать, а дать
ей свободу.
На рассвете раздалась команда:
— Разбирай ружья!
Барабанщик забил тревогу, и гренадеры четвертого батальона Павловского
полка ринулись вперед.
Они шли по открытой местности под сильным огнем неприятеля, укрывшегося
за брустверами редутов.
— За мной, братцы! Ура! — кричал офицер, увлекая за собой гренадеров.
Ружейный огонь участился. Рвутся снаряды, падают первые убитые.
Груня поползла вперед под яростным огнем медленно и неуверенно. Она все
сильней прижимается к земле, и наступает миг, когда она уже не способна
сдвинуться с места. Смертельный страх сковал ее движения. Зачем она тут?
Невмоготу выдержать весь этот ад. Поблизости разорвался снаряд, пыль повисла
над головой, закрыла небо, все закрыла вокруг. Пыль в горле, пыль скрипит на
зубах, трудно дышать. Неужели она еще жива?
Хочется слиться с землей, исчезнуть. Жить, жить, только бы жить!
— Сестрица, помоги! — услышала она слабый голос.
Подняла голову, огляделась, рядом раненые. Как же не заметила их сразу?
Это страх застилал ей глаза, страх за свою жизнь.
Усилием воли взяла себя в руки, подобралась к раненому, быстро и ловко
перевязала его.
— Доберешься сам? — спросила она.
— Доберусь, спасибо, сестрица.
Груня помогла ему приподняться, провела немного и, убедившись, что он
хоть и шатаясь, но может идти, бросилась на помощь другим раненым.
Только что бежал солдат и вдруг тяжело рухнул на землю. Груня
наклонилась над ним, смотрит, куда ранен.
— Ты уж не бросай меня, сестрица, — произносит чуть слышно солдат.
— Как можно? — успокаивает его Груня. — Ты потерпи, солдатик, потерпи,
сейчас легче станет, — приговаривает она, делая перевязку. Позвать бы
санитаров, да пока придут, солдат может погибнуть. Приходится самой
действовать. Сил у нее хватает, и она тащит раненого на шинели до ближайшего
укрытия за маленьким холмиком. Оттуда его уносят санитары, а она, пригнувшись,
где ползком, где перебежками, возвращается в самое пекло.
Гвардейцы пошли в новую атаку. Свист пуль, стоны раненых, звуки турецких
рожков, русское «ура!» и турецкое «алла!».
«Хоть бы живы были солдатики! Хоть бы живы!» — молит Груня. Сейчас для
нее эти незнакомые люди были дороже всех на свете, стали ей родными. Ничего бы
не надо, ничего, лишь бы спасти их, лишь бы уцелели они!
Гвардейцы стали отходить под натиском турок. «Алла! Алла!» — слышались
победные крики. Вот уже совсем близко враги. Над ними развевается зеленое знамя
с полумесяцем. Еще немного, и сомнут русских.
Но подоспело подкрепление. В третий раз двинулись гвардейцы к холму,
главному редуту, где засели турки. Кто-то раньше всех вскочил на вал и крикнул:
— За мной, братцы! Вперед! Ура!
Шум, грохот, взрывы. Все застилает густой белый дым.
— Спасибо, ребята! Славно! Славно! — слышался подбадривающий голос
офицера. — Не отходить! Стоять до последнего!
Гвардейцы бросились в штыковую атаку и погнали турок.
На поле остались раненые и убитые. Груня с другими сестрами милосердия и
санитарами продолжала разыскивать раненых. Одних перевязывала на месте, другим
помогала добраться до лазарета.
Усилился дождь, начало смеркаться. Как будто бы никто не остался лежать
на поле боя, всех унесли. Можно возвращаться на перевязочный пункт. Но какое-то
внутреннее беспокойство мешает Груне уйти. Она спустилась в ложбинку, заросшую
кустарником, обошла ее и услыхала стон. На опавших листьях лежал человек.
— Ты живой, солдатик? — кинулась к нему Груня.
— Живой, живой я! — поспешно, задыхающимся голосом отозвался солдат,
боясь, что его тут оставят, если он мгновенно не откликнется. И застонал.
— Потерпи, милый, потерпи, — засуетилась Груня. — Сейчас я тебе помогу.
Все хорошо будет.
Она приподняла раненого, подтащила к кусту, чтоб он мог прислониться к
нему, и стала перевязывать. А когда кончила, сказала:
— Попробуй встань. — И, поддерживая его, просила: — Помогай себе,
солдатик, помогай, надо встать.
Он чуть приподнялся, но тут же упал.
— Не могу, — тоскливо сказал он. — Видно, пропадать мне тут.
— Я одна не справлюсь, не дотащить тебя, вишь, какой пошел ливень. Надо
позвать санитаров, они тебя на косилках унесут. Пойду схожу за ними.
— Погоди! — испугался солдат, — Попробую еще раз встать.
Он немного приподнялся, но вновь упал со стоном.
— Вот видишь, придется звать людей, — уговаривала его Груня.
— Так ты не забудь про меня, — с тревогой проговорил он. — Не забудешь,
а?
— Что ты, солдатик, мыслимо ли такое? — укорила его Груня. — Жди, я
мигом вернусь.
Она ушла, а вскоре вернулась с двумя рослыми санитарами, которые унесли
раненого солдата в лазарет.
Горный Дубняк был взят штурмом. Через несколько дней удалось отбить у
турок еще два важных укрепления — Телиш и Дольний Дубняк. Замкнулось кольцо
вокруг неприступной Плевны. Теперь ни с какой стороны не могла прийти к туркам
помощь.
«Добре дошли, братушки!»
Плевна была полностью отрезана от основной турецкой армии. Все дороги к
ней закрыты... Но осажденные — их было пятьдесят тысяч — не собирались
сдаваться, а еще сильней стали укреплять свои позиции. Они отрыли вокруг города
глубокие и такие широкие траншеи, что там могли передвигаться не только пешие,
но и конные части. С молниеносной быстротой возводились прочные блиндажи.
Подступы ко всем орудиям и складам с боеприпасами были заминированы.
Теперь Плевна казалась еще более неприступной, чем раньше.
Но Тотлебен рассчитывал взять противника измором, без больших потерь. К
концу ноября в Плевне начался голод, об этом говорили лазутчики, приносившие
сведения о турках. И главное, о чем также говорили лазутчики, «турецкие войска
падают духом и каждый день дезертируют».
Чувствовалось: вот-вот начнется битва за город. Все напряженней
становилось ожидание. Прибыло новое пополнение болгарских ополченцев. Лица
смуглые, глаза черные, волосы густые, темные. Обмундированием тоже не похожи на
русских солдат: в темно-зеленых мундирах с красными погонами, на шапках кресты.
Про ополченцев в русской армии отзывались с одобрением. Сам генерал
Гурко сказал, что в сраженьях с турками они показали себя такими героями,
которыми может гордиться и русская армия.
Турки затаились. Ни выстрела, ни обычных для них неожиданных вылазок.
Тишина нависла над позициями.
А вскоре бурлящую реку Вит переплыл из Плевны болгарин-разведчик и принес
важное сведение: турки готовятся прорвать блокаду.
На рассвете десятого декабря началась атака. Сплошной цепью хлынули
турецкие стрелки на первую линию обороны. Стоявший там батальон Симбирского
полка был смят и оттеснен.
С ходу турецкие стрелки вклинились во вторую линию обороны. Но
подоспевшие гренадеры отогнали их и захватили у них восемь пушек. А рядовой
Астраханского полка Егор Жданов в одиночку пробился к турецкому полковому
знамени и захватил его, уничтожив великана-знаменщика и двух стерегущих знамя
янычар.
Битва за Плевну длилась долго, становясь все ожесточенней. Но перевес
оказался на стороне русских. Среди турок началась паника. Они было бросились
бежать к оставленным укреплениям, чтоб в них укрыться, но опоздали — там уже
были русские.
Так, десятого декабря, после пяти месяцев сражений, отборная турецкая
армия Осман-паши подняла белый флаг.
Военнопленный турецкий командующий, раненный в ногу, сидел у небольшой
высотки. «Непобедимый», по-турецки Гази, сдавал победителям свою шпагу. На лице
и деланное смирение, и бессильная ярость. Дрожат руки, которые он пытается
спрятать от устремленных на него со всех сторон взглядов. Рядом с ним стоят
десять пашей, генералов, тоже пленных. Взяты в плен были и свыше двух тысяч офицеров,
и более тысячи всадников.
Склонив головы, шли пленные — их было более сорока тысяч — и кидали на
землю оружие и свои знамена. На пленных молча смотрели выстроенные в шеренги
русские гренадеры.
Единодушное победное «ура!» разнеслось над Плевной, когда было брошено
наземь последнее турецкое знамя.
Освобожденный город ликовал. Торжественно звонили колокола. Болгары
встречали победителей хлебом-солью, женщины осыпали их веточками самшита.
Слышались возгласы:
— Братушки! Русы! Добре дошли, спасители наши! Дед Иван пришел! Да
здравствуют братушки!
Солдат зазывали в дома, ставили на стол все, что удалось сберечь от
турок. Гремела музыка.
Сквозь толпы людей пытаются пробраться Груня с Тимофеичем. Их обнимают,
целуют, девушки дарят Груне белый платок. Из дома выбегает женщина с караваем
хлеба в руках, в подол юбки вцепился мальчонка лет четырех. Женщина ищет
глазами, кому бы преподнести хлеб, и, увидев перед собой Тимофеича, протягивает
ему каравай. Он отломил кусочек и разделил его с Груней.
Молниеносно образовался круг. Обхватив друг друга за плечи, мужчины
пустились в огневую пляску — хоро. Рядом запели. Увидев, с какой радостной
улыбкой и как сосредоточенно вслушивается Груня в песню, пытаясь уловить смысл,
стоявший возле нее ополченец спросил:
— Разбираш, сеструшка? О чем песня, разбираш?
Груня улыбнулась в ответ.
— Про свободу поют.
— Слышишь? Слышишь? — добивается ополченец. Глаза горят, белозубая
улыбка не сходит с лица. Сам стройный, высокий, Груня до плеча ему. — Разбираш?
Они поют: «Вставайте, братья!» Разбираш?
— Разбирам, — по-болгарски отвечает Груня. Ее глаза тоже блестят — день
такой счастливый.
— По-нашему говоришь, — обрадовался ополченец. — А я умею по-вашему. Я
жил в России, там учился.
Он говорил быстро, чтобы успеть сказать все сразу, но рядом запели новую
песню, и он не выдержал, подхватил ее:
Откогаз е, мила моя майно льо,
Зора зазорила,
Оттогаз е, мила моя майно льо,
Войска преварвяла.
Конь до коня, мила моя майно льо,
Юнак до юнака...
Пели с нескрываемым ликованием, согреваясь песней. А когда кончили,
ополченец наклонился к Груне:
— Сеструшка, разбираш что-нибудь?
Почему-то ему очень хотелось, чтоб русская сестра поняла главное.
Поняла, что это не просто песни, а вера народа в освобождение, в победу, это
сопротивление турецкому игу.
— Мало что поняла, — призналась Груня. — Только знаю: «юнак» значит
«храбрый». И еще догадываюсь, что «зора зазорила» — «засияла заря». Так?
— Правильно, правда! — в восторге воскликнул ополченец и сдвинул
набекрень шапку с крестом так же лихо, как русские кавалеристы.
— Скажи мне еще, — попросила Груня, — я первые слова запомнила, они
повторяются, что значит: «Откогаз е, мила моя майно льо»?
— Как не понять? — искренне удивился ополченец. — «Откогаз» — значит
«когда», «мила моя майно льо» — «милая моя матушка». Что непонятного тут? Эту
песню наши люди пятьсот лет поют. С ней они ходили в поход против турок. В ней
— вера в победу. — И повторил по-болгарски: — Зора зазорила!
— Зазорила! — как эхо отозвалась Груня.
Молодой ополченец загляделся на нее, хотел что-то сказать, но неожиданно
толпа танцующих подхватила его и увела с собой.
Груня с Тимофеичем направились к госпиталю, сейчас там много работы.
Раненых — не сосчитать, и своих и турок.
Толпы не убывали на улицах Плевны. Танцевали, веселились счастливые люди.
Как долго ждали они этого дня! Пятьсот лет! Верили: придет помощь из России,
придет дед Иван. И станет родная земля свободной.
Крепко ждали, надеялись, но не сидели сложа руки: скрывались в горах,
вооружались. И вот появился Васил Левский. Много лет ходил он по своей стране,
поднимал народ на борьбу. Говорил, что наступит время, когда на болгарской
земле не будет не только турецкого ига, но и ни бедных, ни богатых. Все будут
равны.
Турки казнили народного героя, но жили его призывы к оружию, поднимали
людей на подвиги.
И наступило двадцатое апреля 1876 года: началось всенародное восстание
против турецкого ига. Вставайте, стар и млад! И встали самые смелые, взяли
вилы, оглобли, дубины, взяли старые ружья и самодельные пули. «Свобода или
смерть!» — было начертано на их знамени с большим золотым львом. И они
сражались, как львы. Но силы были неравные. Турки подавили восстание, зверски
убили тридцать тысяч непокорных болгар, однако не поставили народ на колени.
Вновь вся надежда оставалась на русских. И вот они пришли. Как и пелось
в народных песнях, из-за Дуная-реки... Правда, не вся еще болгарская земля
свободна. Но Плевна может ликовать, Плевна свободна.
Гремит музыка, танцуют и поют болгары, не смолкают возгласы «ура». И
слышится вокруг:
— Здорово, братушки! Здорово, дед Иван! Свобода навеки!
Перед
наступлением
В караулке, прозванной брянской хатой, засветился огонек. Здесь, у
подножия Николаевской горы, расположился отряд поручика Брянского полка
Денисова.
Брянскую хату знают не только защитники Шипкинского перевала, знакома
она и болгарским беженцам. Поручик Денисов не раз подкармливал из своих скудных
запасов беженцев и делился с ними одеждой.
А однажды в сильную метель брянцы подобрали у подножия горы
полураздетого мальчика. Его внесли в хату, отогрели, накормили и одели в теплую
одежду. Мальчик оказался сиротой. Идти ему было некуда, и он остался у
приютивших его солдат, живет теперь здесь, в брянской хате.
Светало. Поутих ураганный ветер, не смолкавший всю ночь. Скрипнула
дверь, и из занесенной снегом хаты вышел худощавый человек в военной форме. В
руках он нес раскладной стул. Вслед за ним выбежал болгарский мальчик, приемыш,
обеими руками прижимавший к себе, чтоб не уронить, кожаную сумку. Мальчик пошел
рядом. Но вот худощавый человек остановился, обнял мальчика за плечи, взял у
него сумку и дальше пошел один, проваливаясь в снегу.
Это был художник Василий Васильевич Верещагин, который уже долгое время
находился здесь, на Шипке, рисовал ее защитников. Сейчас он поднимался на
вершину Николаевской горы, собираясь делать наброски для большой картины. Уже
пришло и название ее: «На Шипке все спокойно».
Там, куда он поднимался, на вершине Николаевской горы, в страшные метели
и при нестерпимом морозе бессменно стоят на часах брянцы. Вместе с Орловским
полком и болгарскими ополченцами Брянский полк обороняет Шипку уже с августа
месяца.
Если бы вдруг заговорили горы! Если бы смогли поведать о том, что было
здесь в августе 1877 года, им бы не поверили. Но остались живые свидетели,
участники августовских сражений. Они все еще продолжают защищать Шипкинский
перевал. Сейчас они гибнут от лютых морозов, а тогда, в августе, гибли от
нестерпимого зноя, от жажды. Под страшным огнем противника.
Командующий турецкой армией Сулейман-паша пытался в те дни любыми силами
укрепиться на Николаевской горе. Несколько суток бились защитники Шипки и
отразили удар. Но ненадолго. Турецкие войска исступленно бросились в новую
атаку.
Была светлая лунная ночь. Не сразу заметили турки, что небо потемнело. Черный
диск надвинулся на луну. Лунное затмение! Турки ужаснулись: для них это было
плохим предзнаменованием. Но прошло замешательство. Развернув свое зеленое
знамя, они ринулись в решающую атаку.
Защитники перевала выбивались из сил. Потери были огромны.
Вот уже видны разгоряченные злобой лица врагов. Оставалось только
вступить в рукопашную схватку. Больше защищаться было нечем.
Конец!
И вдруг раздались крики «ура» — то прибыл Брянский полк. Брянцы сделали
героический марш-бросок. И поспели вовремя, хоть для этого пришлось совершить
невозможное. Так, солдаты 4-й стрелковой бригады прошли в полной боевой
выкладке сорок верст за шестнадцать часов, а солдаты 14-й дивизии — шестьдесят
верст за двадцать пять часов. Лица почернели от усталости, но солдаты тут же
вступили в бой и бились до глубокой ночи, приговаривая: «Знай, турок, как
ходить на русских».
Больше противник не пытался захватить перевал.
Началось долгое «Шипкинское сидение». Турки «уселись» у подошвы горы
ждать весны. Они были уверены, что русские не выдержат сильных холодов и сами
покинут перевал.
Но русские не уходили. Вместе с болгарскими ополченцами они уже пятый
месяц стойко держали оборону.
Должно быть, тогда и сложил кто-то солдатскую песню про «шипкинских
орлов»:
Вспомним, братцы, как стояли
Мы под Шипкой в облаках
И как турки лезли в гору,
Да остались в дураках.
Нехитрая песня, зато точная и задорная, как воспоминанье бывалого
солдата.
Зима выдалась невиданно холодная для Болгарии, почти русская. Дули
ураганные ветры. Все засыпало снегом.
Случалось, землянки обваливались под снежными заносами.
Часовые коченели от холода. Много было обмороженных и больных.
А в это время каждый день неизменно генерал армии Радецкий посылал в
штаб главнокомандующего одно и то же донесение: «На Шипке все спокойно!»
...Верещагин добрался до вершины Николаевской горы. Огляделся. Перед ним
уже ставшая привычной картина. Склоны гор, покрытые густыми лесами, засыпанные
снегом крутые горные тропы, глубокие ущелья и впадины. Внизу, у подошвы горы,
тянется цепь турецких траншей. Оттуда прямо на перевал нацелены батареи. Все
кругом зловеще затаилось.
Верещагин опускает неподалеку от землянки раскладной стул, с которым он
никогда не расстается и вскоре в его альбоме появляется карандашный набросок:
солдат стоит по пояс в снегу, опираясь на ружье. Вид утомленный, но нет в лице
солдата обреченности. Есть верность долгу, озабоченность и человеческая
доброта.
Для будущей картины сделано уже много набросков. В них боль художника и
его любовь к герою-солдату, на долю которого выпали неимоверные страдания. В
них — правда. Очень жестокая и суровая, которая ранила сердце.
Когда Радецкий увидел рисунки Верещагина в альбоме, он побледнел — такое
сильное производили они впечатление — и попросил уничтожить их, чтоб их не
увидели в России.
Верещагин не выполнил просьбу генерала, продолжал рисовать, не
отступаясь от правды.
Становится все холодней. Усиливается ветер. Верещагин заканчивает свою
работу и прячет альбом в кожаную сумку. Надо спускаться вниз, пока не
разразился настоящий ураган.
Возле брянской хаты его ждет мальчик-приемыш. Увидев художника, бежит
навстречу и отбирает у него сумку. Несет ее сам. Темнота окутала Шипку. Чуть
светит огонек в окошке брянской хаты. Свистит, воет свирепый ветер.
На Шипке все спокойно!
Зимний переход
через Балканы
Победа под Плевной открыла русским войскам дорогу на Шипку.
Двенадцатого декабря Военный совет принял решение о переходе войск через
Балканы. Начинать переход надо было как можно скорее, не дожидаясь весны, чтобы
не дать туркам опомниться после поражения. Не дать перестроить свои силы. И
гнать их, гнать безостановочно с болгарской земли.
Вести́ наступленье предполагалось сразу в трех направлениях. На запад, в
сторону Софии, двинутся войска генерала Гурко. Через Троянский перевал пойдет
отряд генерала Карцева. А части Радецкого, охранявшие Шипкинский перевал,
должны были действовать в этом же районе.
На Шипке у противника была сильная оборона. Там, у селения Шейново, в
Казанлыкской долине, стояли лагерем тридцать пять тысяч турецких войск во главе
с командующим Вессель-пашой. Чтоб избежать больших жертв, намечалось обойти
врага с двух сторон по труднопроходимым перевалам и нанести неожиданный удар.
Сделать это должны были правая и левая колонны из отряда Радецкого.
Таков был общий замысел сражений, принятый через два дня после победы
под Плевной. Замысел небывало смелый. Ведь стояла суровая зима, все тропы
занесло снегом. Никогда еще ни одна армия мира не переходила зимние Балканы.
Это считалось невозможным. Но русская армия думала иначе.
Тридцать первого декабря войска генерала Гурко одолели Балканский
хребет, а через четыре дня была освобождена София. Сразу же выступила левая
колонна и направилась к Травненскому перевалу. Ждал своего часа и Скобелев,
возглавлявший правую колонну. Он готовился, как всегда, тщательно, действуя по
суворовской поговорке: «Солдат до́рог».
Скобелев старался все предусмотреть. Солдаты получили запас сухарей на пять
дней и необходимое в горных условиях обмундирование. Заранее были подобраны
выносливые лошади, хотя больше приходилось рассчитывать на людей при подъеме в
гору. К трудному переходу готовились и сестры милосердия. Они должны были
следовать за передовыми частями и уже прибыли в Топлиш, где стояла правая
колонна.
Наконец-то Груня собственными глазами увидела прославленного генерала
Скобелева. Правду сказал Тимофеич, вид у него молодецкий, лицо красивое,
голубые глаза, ясный взгляд.
Она уже много о нем слыхала и от раненых, не только от Тимофеича.
Рассказывали, что он прибыл в Болгарию добровольцем. Что за храбрость был
награжден двумя Георгиевскими крестами и золотым оружием. И еще говорили, что у
него много недругов. Некоторые высшие чины невзлюбили его, завидовали его
славе, наговаривали на него самому царю. Рассказывали такой случай: когда после
героической переправы через Дунай царь Александр Второй торжественно обходил
войска, поздравляя с победой, он отвернулся, увидев Скобелева.
И все равно слава и храбрость Скобелева победили вражду, и имя «генерала
в белом» узнали все в Болгарии и в России.
Перед началом похода Скобелев обратился к солдатам с напутственным
словом. Он не скрывал, что предстоит трудный переход через Балканы. Без дорог,
через глубокие снежные сугробы, одолевая высоты, остерегаясь пропастей. И все
это на виду у сильного врага. Он призывал быть мужественными, хранить славу
своих отцов.
Солдаты слушали его с волнением. Перед каждым вставал в памяти
пройденный путь: переправа через Дунай, сраженья за Плевну, бой под Горным
Дубняком. Теперь их ждут новые подвиги.
— Наше дело святое! — закончил Скобелев.
И в ответ разнеслось могучее «ура!».
На лицах солдат преданность: все пойдем без страха!
Ему верили, его любили и чувствовали себя готовыми совершить подвиг,
отдать свою жизнь во имя победы.
Смолкли крики «ура!», и наступила совершенная тишина. Скобелев вновь
заговорил.
— Болгаре-дружинники! — обращался он теперь к болгарским ополченцам. — В
боях с врагом вы заслужили любовь и доверие ваших ратных товарищей, русских
солдат. Пусть будет так же и в боях, которые предстоят!
И вновь в ответ прогремело «ура!». И вновь в этом возгласе слились
голоса русских и болгар.
Как и в боях под Плевной, они пойдут вместе и стойко выдержат любые
испытанья. Выдержат, чтобы победить.
Перед вечером отряд направился к Имитлийскому перевалу, в обход Шипки.
Оттуда он должен был спуститься к деревне Шейново, где собрались главные силы
турок.
Впереди — авангард во главе с генералом Столетовым. В авангард входит
рота саперов, один стрелковый батальон, сотни уральцев, две болгарские дружины.
Следом — остальные части Скобелева, в том числе пять дружин болгарского
ополчения. С этими дружинами прошел Столетов от Дуная до Балкан. Ополченцы
любили своего русского генерала за доверие к ним, за справедливость, за то, что
переносил вместе с ними все тяготы августовских сражений за Шипку. И вот он
снова идет с ними, невысокого роста, с седыми висками, умное, волевое лицо. От
всего его облика веяло спокойствием и внутренней силой.
Неожиданно хлынул ливень со снегом и тотчас же ударил сильный мороз.
Люди с трудом карабкались по обледеневшим скатам, появились раненые и
обмороженные.
— Братцы! Навались! Раз-два-три! — слышалось в заснеженных горах.
Под эти возгласы солдаты поднимали пушки на крутых подъемах и спускали
на канатах, которые закреплялись за деревья и камни. Иначе было не одолеть.
— Эх, дубинушка, ухнем! Сама пойдет! Сама пойдет! — отдавалось эхом. И
здесь, как искони велось в трудную минуту, солдаты помогали себе песней.
Снег высотой в два метра, крепкий мороз, пронизывающий ветер.
— Навались, братцы! Навались!
И одобрительное:
— Славно, ребята! Спасибо!
Кое-где двигались по одному, проваливаясь по пояс в снег. Поднимались и
скатывались назад на крутых каменистых подъемах. От сильной стужи гибли кони.
Тяжело было в этом походе солдатам, но еще тяжелее сестрам милосердия,
которые неотступно следовали за отрядом. Непрерывно требовалась их помощь: то
перевязать раненого, то поддержать ослабевшего, напоить чаем продрогшего от
холода. В то же время и самим надо было удержаться на ногах, не упасть, не
ослабеть. Идти и идти вперед.
Подъем становился все круче, все труднее. Одну высоту одолели, за ней
новая, еще более опасная. Сорвался — и косточек не собрать, внизу бездонная
глубина.
Груня почувствовала, как ее начинает одолевать отчаянье. Дойдем ли?
Кругом опасность, все грозит смертью. Можно голову сложить и от пули врага, и
от неосторожного движения. Но все равно: «Коль выйдешь — дойдешь!» — упрямо
твердила она самой себе. Главное — не пускать страх в душу. И верить, что без
нее, как и без каждого, кто шел с ней рядом, не обойтись. Не было б сестры
милосердия Груни, возможно, кто-то и не выжил бы, остался на поле боя. А кто-то
пал духом, не получив вовремя поддержки. Надо дойти обязательно.
Если бы наладилась погода! Перестал бы сыпать безжалостный дождь со
снегом!
Вчера на минуту Груня обрадовалась. Сквозь тучи нежданно-негаданно вынырнул
месяц, вгляделась — круты рожки. Народился молодик, круты рожки, — к хорошей
погоде — есть такая примета. Но как видно, в горах иные приметы, не те, что в
русской Матрёновке. Не помогли круты рожки, небо вновь заволокло тучами. И
вновь то снег, то ливень, то ураганный ветер.
Впереди, точно призраки, возникают деревья и скалы. Груня поглубже
надвигает на голову суконный башлык. Холодно. Ноги как деревянные, высокие
походные сапоги не греют. Спасает только движение, но идти приходится медленно.
За сутки одолели не более семи верст, и то с большим трудом.
Переходить заснеженные Балканы в мороз и при ураганном ветре казалось
настолько невероятным, что турки и не допускали мысли о наступлении русских.
Они спокойно оставались у Шипки, собираясь дотянуть до весны, чтобы потом самим
двинуть на русских.
Тем временем отряд Скобелева продолжал переход.
Узкие тропы извиваются среди громоздящихся одна на другую скал. Идти по
ним мучительно трудно и опасно. Не раз срывались и падали в пропасть лошади,
соскальзывали вниз повозки и орудия. Иссякали последние силы.
Наконец-то привал у вековых буков. Люди с большими предосторожностями
разжигают костры, тянутся к огню. Чуть обогревшись, уступают друг другу место.
К костру поднялась Груня с большим чайником кипятка, напоить озябших
солдат. Поодаль от костра она заметила человека в заледеневшей, как у всех,
шинели. Он сидел на складной табуретке и рисовал солдат, протянувших руки к
костру. Груня узнала его: художник Верещагин. Он был и под Плевной, где его
легко ранило.
Художник поднялся со своей складной табуретки и подошел к костру погреть
озябшие руки. Груня торопливо налила в кружку кипятку и протянула ему.
— Погрейтесь, — сказала она сочувственно.
Он взял с благодарностью и стал пить, согревая о кружку руки. Стоявший
рядом солдат в изумлении уставился на Груню.
— Егор! — вскрикнула она. — Братец!
Их мгновенно окружили солдаты, все улыбаются: брат с сестрой
встретились. И где? Вон куда забросила обоих судьба, на Балканы. А Груня с
Егором поверить не могут, что встретились. Разом заговорили, торопясь разузнать
о жизни друг друга.
— Что, нет Феди с тобой? — спросила Груня.
— Разъединили нас после Плевны, — не сразу ответил брат.
— Вместе бы вам лучше было, — огорчилась она. — Где же теперь Федя?
— И сам пока не знаю, — сказал он. — Да ты не думай плохого, Грунюшка.
Все обойдется. Расскажи-ка лучше про себя. Вижу, стала сестрой милосердия.
Умница ты у нас.
Груня счастливо улыбается. Повезло ей безмерно — встретила любимого
брата. Сразу все трудности забылись, будто мир сошел на землю, — так светло,
так радостно.
— Теперь бы хоть одним глазком на мамушку с отцом поглядеть, — помечтал
Егор. — По нашему двору походить. Дорого б отдал за это.
— А помнишь, ты мне кувшинку над омутом сорвал? Я тогда перепугалась,
утонуть бы мог, — вспомнилось почему-то Груне.
— Не забыла? — обрадовался брат.
— Разве хорошее забывается? Ты для всех был добрым. К тебе за правдой
шли.
Ей не хотелось говорить о предстоящих боях. Сейчас для нее и для Егора
дороже всего воспоминания о родном доме. Милая Матреновка, мамушка с отцом,
детство — всего несколькими словами перебросились Егор с Груней, а будто солнце
проглянуло во тьме, будто к роднику с живой водой припали.
— Вставать! — раздалась команда. — В ружье!
— Ты побереги себя, Грунюшка, побереги! — крикнул на прощанье Егор и
побежал догонять своих товарищей.
А Груня, как это и предписывалось, последовала за отрядом. С ней
неотлучно подруга Вера и ставший им близким ездовой Тимофеич, который вел под
уздцы лошадь.
Подойдя к горе Караджа, отряд остановился. Дальше двигаться невозможно.
Пришлось расчищать заваленную снегом тропу. Не хватало лопат — расчищали
руками, утаптывали, ложились на снег и перекатывались по нему с боку на бок.
Так продолжалось три версты. Наконец расчистили тропу. Вновь двинулись в
путь, по самому краю пропасти.
— А-а-а-а! — раздался вдруг отчаянный вскрик.
Кричала Груня.
— Что? Что стряслось? — всполошились солдаты.
— Тимофеич! Тимофеич! — в ужасе проговорила Груня. — В пропасть упал. —
И со слезами в голосе торопливо рассказывала: — Гляжу: только что был и нет
его. На глазах поскользнулся и полетел вниз. Вот здесь, — показывала она рукой
на то место, где случилось несчастье. — Прямо на глазах, — повторяла она. —
Здесь!
Над пропастью сгрудились солдаты, глядели, рассуждали, как спуститься, поискать
ездового.
Вдруг кто-то воскликнул:
— Братцы! Глядите! Вон он лежит! Может, живой?
Заметили ездового и другие солдаты, начали звать его:
— Тимофеич! Откликнись, ты живой?
Снизу послышался стон и слабый возглас:
— Помогите, братцы! Живой!
Пригляделись — лежит на спине, не на глыбах камней, а между небом и землей,
будто на огромных жестких ладонях. Это деревья откуда-то сбоку протянули над
пропастью свои густые ветви и прочно переплелись. На ветви-ладони и свалился
Тимофеич.
— Держись, браток, не робей! — подбадривали его сверху. — Сейчас мы тебя
вызволим из плена!
В обозе моментально отыскали длинные веревки, опустили их вниз
Тимофеичу. Он тут же обвязался покрепче и вцепился руками в прочную веревку.
— Давай! Давай! — раздалась команда, и бедолагу ездового подняли наверх.
На площадке вокруг него сбились люди. Слышались радостные возгласы:
— Счастлив же ты, Тимофеич! И в пропасти не пропал! Небось, изрядно
перетрухнул?
— А то нет, что ли? — отвечал бледный Тимофеич. — Главное, вишь, детей
жалко и жену, сильно б горевали. Спасибо, братцы, — сказал он осипшим от
пережитого голосом и поклонился всем до земли.
Он взял терпеливо дожидавшуюся его лошадь под уздцы и повел ее. Надо
догонять передовые части, а то и так из-за него люди замешкались, будь она
неладна, эта пропасть!
Третий день движется отряд Скобелева. Последний привал в горах, и на
рассвете начался спуск в Казанлыкскую долину. Спустились незамеченными,
осмотрелись — будто в ловушку попали: перед ними турецкие укрепления, за спиной
— отвесные скалы. Предстояла битва насмерть.
Густой туман окутывал долину. Под его прикрытием началось наступление на
турецкие редуты. Впереди 63-й пехотный Угличский полк с болгарскими ополченцами
и горная батарея из восьми орудий. Полк наступал с распущенными знаменами. Туман
развеялся. Турки сразу заметили русских, открыли по ним сильный артиллерийский
и ружейный огонь. В рядах наступавших возникло замешательство. Кто-то побежал
назад, кто-то припал к земле, не решаясь поднять головы, кто-то пытался
укрыться от огня за деревьями.
— Алла! Алла! — кричали турки.
Русские продолжали лежать под все усиливающимся огнем, не в силах
возобновить атаку. Поражение казалось неминуемым, турки предвкушали легкую
победу.
— Алла! Алла!
И тогда командир полка Панютин выхватил у знаменщика боевое знамя и
ринулся вперед.
— За мной, братцы! Смелее! Ура!
Барабанщик Бартелев — о нем потом напишут в книге подвигов — поднялся во
весь рост.
— Ребята! — крикнул он. — Мы присягали. Неужто теперь откажемся? Вперед!
Ура!
И забил наступление.
— Ура-а-а! — подхватили дружно солдаты и ополченцы и бросились в атаку.
Уже ничто теперь не могло остановить их.
И тут вновь увидела Груня художника Верещагина. Он сидел на своем
раскладном табурете и спокойно рисовал под огнем.
Но вот через горы перевалила кавалерия. Началась новая атака Угличского
полка. Верещагин не выдержал, вскочил на коня и помчался вместе с кавалеристами
туда, где развернулась самая жаркая схватка.
— Аман! Аман! — послышалось вокруг — турки запросили пощады, поднимая
руки вверх. И вскоре Вессель-паша выкинул белый флаг.
Крики «ура!» сотрясали Казанлыкскую долину и поднимались к вершинам
Балкан. Летели вверх шапки. Еще одна крупная победа.
Потом через многие годы в честь победы над турками болгары назовут самую
высокую точку Шипки именем генерала Столетова. А в честь погибших русских
воинов воздвигнут памятник-мавзолей. У подножия памятника встанет бронзовый
лев, охраняющий вечный сон тех, кто пал в бою. На каменной стене будет сделана
надпись: «Болгарин! Обнажи голову и благоговейно преклони колени на этом
священном месте! Здесь русские войска и болгарские ополченцы с неслыханной
доблестью отстаивали нашу свободу. Их томила лютая жажда, они коченели от
холода среди грозных метелей, их косили пули, шрапнель и гранаты, но своей
грудью, беззаветным своим мужеством, пламенным патриотизмом остановили они
бешеный напор врага».
Памятнику этому жить вечно.
Сорок восьмой
военный госпиталь
Груня привыкла работать в трудных условиях, но Сорок восьмой военный
госпиталь, куда она прибыла два дня тому назад, вверг ее в отчаянье.
Он располагался в старинном местечке Бяле, где не было крупных зданий.
Раненых размещали в сделанных на живую руку мазанках, в сараях, едва укрытых от
холода, в кибитках. Многих укладывали прямо на полу, на соломенных подстилках,
так как не было свободных коек. От холода и сырости — на улице стоял январь —
хуже заживали раны.
Сердобольные сестры как могли облегчали страдания раненым. Отдавали на
бинты платья; своими одеялами укрывали дрожащих от холода людей, делились с
ними скудной едой. И просто для каждого у них находилось доброе слово — оно
тоже лечит.
В Бяле порой собиралось много раненых. Это было место, откуда их
переправляли в город Яссы, и дальше — в Россию. Но самые слабые задерживались в
Бяле на леченье, иногда на длительное время. Все они лежали в просторной
палате, под которую был отведен опустевший дом. В эту палату ухаживать за
тяжелоранеными и назначили Груню. Она считалась опытной сестрой.
Работа привычная, Груня легко с ней управляется. Сделать перевязку,
снять бинты, дать лекарство, помочь поудобней лечь, накормить тех, кто сам не в
состоянии ни приподнять голову, ни шевельнуть рукой. Да и мало ли еще других
забот! Ими заполнен до предела весь рабочий день сестры милосердия. Не то что
поесть или выпить чая, некогда на миг остановиться, некогда подумать о себе.
Кончился обход врачей. Раненые, кто полегче, оживились. Вот он,
подступил момент, которого все с нетерпением ждали. Теперь можно написать
письма домой, в Россию.
— Сестрица, — доносится до Груни из угла голос солдата, — ты напишешь
письмо? Моя очередь подошла.
У Груни заблаговременно приготовлены карандаш и бумага. Она садится
рядом и ждет, пока раненый начнет диктовать.
— Пиши, — просит он и произносит первые слова: — Здравствуйте, дорогая
матушка Анна Федоровна и дорогой батюшка Иван Петрович, тетушка Татьяна Федоровна.
Низкий поклон вам всем. А также поклон жене Насте, тетке Дуне, деткам —
Ванятке, Гришане, Манюшке...
На лице солдата улыбка. Ему дорого называть по именам всех своих родных.
Он снова чувствует себя сильным, знает, с каким нетерпеньем ждут дома его
слова, и он находит самое нужное.
Груня подхватывает мысли солдата на лету, облекает их в понятные слова.
Она пишет крупными буквами, чтобы там, в деревне, без труда прочитали письмо.
— Не утомил я тебя, сестрица? — спрашивает он смущенно.
Но Груня с еще большим усердием выводит буквы. Сама подсказывает, что
дальше написать. Надо упомянуть добрую весть: мол,
не тревожьтесь, дело идет на поправку.
— Да, да, — подхватывает солдат. — Пропиши, что сделали операцию. Был
тут сам доктор Пирогов, он делал. Руки, ноги целы. Вот отлежусь и вернусь
домой, стану пахать и косить. Да спроси, все ли там у них ладно. Как
управляются без меня?
И заканчивает, как принято в письмах: «Низкий поклон вам от сырой
матушки-земли до высокого неба».
— Спасибо, сестрица, — благодарит он Груню, когда та перечитала письмо. —
Складно. Будто повидался со своими, поговорил. — И улыбнулся умиротворенно.
— Пить! Пить! — донеслось вдруг до Груни с конца палаты.
Груня поспешила на голос, с трудом пробираясь между койками и лежащими
на полу людьми, дала пить...
— Плохо мое дело, сестрица, — с тоской говорит солдат. — Одолел страх,
не могу справиться. Что со мной будет?
— Вылечат тебя, не бойся, — успокаивает его Груня. — Доктор у нас
хороший. Еще каким молодцом будешь.
Она поговорила с ним, постояла рядом, и солдат стал успокаиваться.
— Вроде и поздоровел от твоих слов, — улыбнулся он. — Авось и правда
выживу.
— Спи, солдатик, все заживет, — говорит Груня.
Она уже заметила, как в ответ на заботу и ласковое слово преображается
раненый солдат. В нем открывается самое лучшее: терпение, мягкость, стойкость в
страдании. И слова находятся особенные, каких в обычной жизни он никогда не
произносит, возможно, даже не подозревает, что знает их: «Сестрица, голубушка,
побудь с нами, не уходи». Груня постоянно слышит такие слова и всем сердцем
отзывается на них.
Раненые уснули. Ей вдруг тоже страшно захотелось спать. После трудных
дорог, которыми она добиралась до Бялы из-под Плевны на санитарной повозке,
усталость валит с ног. Превозмогая дремоту, она прислушивается, не зовет ли ее
кто. Нет. Сейчас опустился на землю не́вголос — время ночи, когда непробудный сон валит с ног и зверя, и
человека.
Груня склонилась на руку и, как ни сопротивлялась, будто свалилась в сон.
Может, минута прошла, может, полчаса, но ее разбудил голос:
— Сестрица! Сестрица!
Подняла голову, ищет глазами, кто зовет, — рядом санитар. Не сразу
понимает, что он говорит. Но наконец до нее доходит смысл его слов:
— Транспорт привезли. Надо раненых выгружать.
Груня быстро набрасывает пальто и уходит вслед за санитаром, в холод и
предрассветную мглу. Увидев привезенных на подводах раненых, ужасается: «Где ж
мы их уложим!»
Но место находится. Санитары начинают вносить на носилках раненых.
По привычке Груня спрашивала у вновь прибывших про Егора с Федором,
называла фамилию: Михайловы. Не довелось ли им где встретиться? Кто молча поведет
в ответ головой, нет, мол, не встречал. Кто и совсем не ответит, может, и
вопроса не услышал. А один сказал:
— И, сестрица, разве упомнишь всех по фамилии? Может, и встречали, да
фамилии не спрашивали, Михайлов он или Иванов. Солдат ему имя, русский солдат.
Часам к семи раненых разместили в палате. Груня сразу напоила всех
горячим чаем. Она понимала, какой трудной была для каждого дорога. Сама за это
время успела исколесить много верст по болгарской земле.
В палату тихо вошли болгарки в черных платках. Они приехали из ближнего
селения, привезли для раненых молоко, разные овощи, сыр и, что очень важно,
бинты и белье. Болгарки постоянно бывают в госпитале. Некоторые научились
ухаживать за тяжелоранеными, кормят их из ложечки, поят. Как и русские сестры
милосердия, они ласковы и заботливы. С одинаковой любовью ухаживают и за болгарами-ополченцами,
и за русскими солдатами.
Ближе к вечеру Груню сменяет старшая сестра, и теперь можно уходить
домой. Она заранее дрожит от холода, вспоминая дырявый домишко, продуваемый
всеми ветрами, куда ее определили на житье.
Но открыла дверь, вошла, и будто теплом повеяло. На столе ее ждал
укутанный в одеяло чайник. Две ее новые подруги, сестры милосердия,
позаботились о ней, вскипятили чай.
Груня налила чая, с наслажденьем выпила целую кружку и, едва успев
раздеться, мгновенно уснула.
Две сестры
Нет сил встать: холод зверский. Промерзли стены, в ведре с водой плавают
льдинки. Еще бы минут пять — десять побыть в тепле, под наброшенным на одеяло
пальто. Но перед глазами всплывает палата, где лежат тяжелораненые. Не время
нежиться, поторапливайся, сестра Груня!
Мигом вскочила с постели, умылась, оделась, натянула большие солдатские
сапоги и вскоре была в палате: кормила, давала пить, перевязывала, помогала при
операциях. Работать приходится за двоих — не хватает сестер. Одни погибли во
время сражений, другие больны тифом.
Пришлось остаться и на второе подряд ночное дежурство. Сестра, которая
должна была ее сменить, не пришла. А Груня так ждала ее! Она уже знала, что это
Вревская Юлия Петровна.
Раненые тоже ждали Вревскую. То один, то другой спрашивал Груню:
— Что-то нынче нет нашей сестрицы Юлии Петровны? Неужто от нас
отказалась, не придет больше?
— Придет обязательно, — заверяла Груня.
Студент-доброволец, дольше других пролежавший в палате, сказал:
— А вы знаете, она не простого рода, принадлежит к высшему кругу.
— Неужто так? — изумился его сосед. — Скажи на милость! А такая простая
и добрая, заботится о нас, как матушка родная. Руки у нее золотые, милосердные,
вот что важно. И дела никакого не чурается. Оденет тебя в чистое белье,
накормит, сама поменяет солому в матрацах. Как же не благодарить нам ее?
— Ее еще и за другое надо благодарить — за справедливость во всем. Она
наши с вами интересы отстаивает, — сказал студент, — не позволяет обворовывать
нас. Я слыхал, она сама дежурит на кухне, глядит, все ли, что нам положено,
кладут в котел да в наши миски. Никого не дает в обиду.
Груня слушала, с какой любовью говорят раненые о Вревской, и в душе
по-детски гордилась знакомством с ней. Вспомнились слова Доброго человека: «Ты
еще услышишь о ней». Провидец какой — все вперед видит! И впрямь удалось
услыхать о ней. Но почему все-таки она не пришла на дежурство?
Не пришла Вревская и на другое утро. Оказалось, она заболела. И сразу же
после дежурства Груня пошла навестить ее.
Вревская квартировала в трех верстах от госпиталя, в маленькой лачуге с
земляным полом и низким потолком. Всю мебель составляли стол и скамейка. В углу
вместо кровати — носилки для раненых, там на матраце, набитом сеном, лежала
Вревская. В полумраке Груня даже не сразу разглядела ее, но та сама окликнула
растерявшуюся гостью:
— Пришли проведать? Вижу: новенькая.
— Здравствуйте, — дрогнувшим от волнения голосом проговорила Груня. Ее
напугало осунувшееся лицо Вревской. — Как вы тут?
— Еще жива, — слабо улыбнувшись, ответила Вревская.
Груня опустилась рядом с носилками и села на полу, чтоб больной было
легче с ней разговаривать.
— Вы меня не узнали, Юлия Петровна? — с тревогой и робостью спросила
она. — Мы с вами виделись в Петербурге, в книжной лавке. Помните, нас Михаил
Николаевич Алексеев познакомил?
— А, — тихо проговорила Вревская и снова чуть улыбнулась, — вас Груней
зовут, верно? Помню, помню. День тогда был солнечный, для Петербурга необычный.
Она, видимо, устала даже от этого короткого разговора и закрыла глаза.
«Неужто у нее тиф? — с беспокойством подумала Груня. — Какое несчастье!
Выдержит ли она, бедная, уж очень слаба».
— Вам нужно отдохнуть, Юлия Петровна, — ласково сказала она. — Поспите,
а я пока приготовлю поесть. Я вам кое-что принесла.
Но Вревская отказалась от еды, только выпила горячего сладкого чая и
как-то сразу оживилась, ей стало получше.
Груня прибралась в лачуге — подмела, вытерла пыль и снова опустилась у
носилок, ей не хотелось уходить от Вревской, жаль было оставлять ее одну.
— Теперь рассказывайте, — попросила Юлия Петровна, — как вам жилось это
время. Все по порядку.
Груня стала рассказывать о самом значительном из своей военной жизни: о
боях за Горный Дубняк, о Плевне, о переходе через Балканы. Вспомнила и
художника Верещагина, как он спокойно рисовал под огнем, а потом вскочил на
коня и ринулся в атаку. Жив ли он, отчаянная головушка?
— К счастью для всех нас, жив, — сказала Юлия Петровна. — Мне друзья
писали о нем. Василий Васильевич не только прекрасный художник, но и редкий
человек.
Она умолкла, было похоже, что уснула. И Груня тихонько поднялась,
собираясь уйти, но Вревская остановила ее.
— Побудьте еще немного, — попросила она, — поговорите со мной. Как там
солдатики?
— Велели вам скорее выздоравливать, — ответила Груня и рассказала, как
все беспокоятся о ней и ждут.
Вревская задумчиво кивнула головой, потом с болью в голосе сказала:
— Я все думаю о наших раненых. Жалости подобно видеть этих несчастных,
поистине героев. Какие страшные лишенья терпят они, и без ропота. Да, велик
русский солдат! — И совсем устало произнесла: — А теперь прощайте.
Груня вышла из лачуги в большой тревоге. Ее смутило и насторожило
печально сказанное «прощайте!». Она подумала: «Нельзя никак оставлять ее тут
одну, нельзя!»
К вечеру Вревскую перевезли на телеге Красного Креста в госпиталь. У нее
оказался тиф. Через несколько дней она умерла.
Раненые сами копали ей могилу и сами несли гроб. Следом шли и русские, и
болгары, многие плакали. Для Груни это была горькая потеря, самая большая в ее
жизни. Она полюбила Юлию Петровну за доброе участие и простоту. И теперь
почувствовала себя осиротевшей.
Она сама вызвалась дежурить в ночь, чтобы легче справиться с одолевшей ее
тоской; некогда задумываться, особенно если нуждаются в твоей помощи и со всех
сторон зовут: «Сестрица! Сестрица, помоги!»
Но вот раненые уснули, она села за столик.
В холодной палате полумрак. Горит свеча на столике, в дальних углах
мерцают лампы. В памяти сами собой всплывают слова, произнесенные солдатами и
офицерами во время прощанья с Вревской. Все горевали о ней, называли ее жизнь
подвигом.
И вдруг Груня замерла, удивленная неожиданной мыслью. Как же все в жизни
связано! Встретятся люди друг с другом как будто случайно, а на самом деле нет.
Их встреча потом влияет на всю жизнь, не уходит бесследно. Оборачивается общим
делом.
Всего один раз и случайно встретились они с Юлией Петровной на Невском
проспекте. А дальше их пути-дороги сами собой незримо пересекались не единожды,
хотя обе они и не подозревали об этом.
Там, под Горным Дубняком, в октябре месяце Груня вытаскивала раненых под
огнем, перевязывала их, поила, кормила. Потом их увозили в город Яссы, в тот
самый госпиталь, где работала Вревская. И уже та продолжала возвращать к жизни
раненых, спасенных под Горным Дубняком ею, сестрой Груней.
Теперь же в Бяле Груня Михайлова выхаживает тех раненых, которых
выхаживала Юлия Петровна незадолго до своей смерти. Навечно породнил их
милосердный труд.
Память
Весна пришла в Болгарию. Весна света и радости. Третьего марта 1878 года
— великий день, великое торжество! — подписан мирный договор с Турцией в
местечке Сан-Стефано. По этому договору Болгария стала свободной страной.
Необыкновенно хороша была в этом году весна в Болгарии! Очень рано все
зазеленело, как-то разом. Распустились бледно-голубые медуницы, зацвели
яблоневые сады, алыча, сливы. Все бы хорошо, да на душе беспокойно, как там
Егор и Федор? Живы ли? От Егора хоть и давно, но было письмо, он благополучно в
свое время перешел Балканы, брал Адрианополь и за храбрость получил награду. А
вот Федор как пропал без вести под Плевной, так до сих пор и не объявился.
Может, погиб, а возможно, в плену. Кто скажет?
Груня уже видела себя в родной Матрёновке. Там ждут ее не дождутся и
родственники, и соседи, гордятся ею.
На днях получила из дому письмо. Долго же оно шло! Стала читать, и не
буквы складывались в слова, вставали перед ней, а слышался ласковый голос
мамушки и чуть глуховатый — отца.
«Помогай людям своим милосердным уменьем, — наставляли родители. — Мы же
будем радоваться на тебя, цветок наш лазоревый. Приезжай, ждем тебя по весне
непременно: в поле работы невпроворот. Руки твои крепко нужны. Приезжай».
И заканчивалось письмо просьбой, чтобы она оставалась живой и здоровой.
Ни к весеннему севу, ни к жатве Груня так и не успела. Не отпустили ее
домой. В госпитале еще оставались раненые и слабые от болезни, за ними нужен
был уход. И не только за ними. Нередко в госпиталь привозили жителей Бялы и
окрестных сел. Им оказывали посильную помощь. Врачи и сестры милосердия
относились к ним с такой же любовью и вниманием, как к своим солдатам. Ставили
на ноги искалеченных войной людей.
Крепла дружба русских и болгар. Русские военные теперь были заняты
мирными заботами. Помогали налаживать жизнь в измученной пятивековым гнетом
стране. Помогали организовывать комитеты помощи пострадавшим семьям. Беженцам
выдавались пайки, одежда, деньги на дорогу, чтобы они могли вернуться в родные
места, когда-то ими в страхе покинутые. Для осиротевших детей устраивались
детские приюты.
Чем больше узнавала Груня о болгарской земле, тем больше привязывалась к
ней и ее людям. Ее восхищала необыкновенная жизнестойкость этого
свободолюбивого народа. Пять веков жили болгары под владычеством Турции. Им
запрещали говорить по-болгарски, пытались насильно обратить в чужую веру, но не
смогли этого сделать. Болгары сберегли свой язык, свою письменность и свою
культуру, отстояли свое человеческое достоинство. И каждый год в мае
праздновали они день Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. А дети
приносили из лесов и с полей цветы, зеленые ветви, чтобы украсить лики своих
первых Учителей.
Оживала Болгария, начинала новую жизнь.
«Теперь и домой пора, что могли — сделали», — все чаще думалось Груне.
Пришел момент, когда уже неудержимо — до страсти! — потянуло на родину, в
Россию, в родную Матрёновку.
Из дому стали часто приходить письма. Младшенькая Анюта научилась
грамоте и теперь пишет ей крупными буквами: «Живы, здоровы, того и тебе
желаем». Шлет приветы и поклоны от всей деревни.
А больше всего обрадовала, когда написала, что вернулся Егор. Лишь о Федоре
— вот напасть! — до сих пор ни слуху ни духу. Без вести пропал.
Незаметно и сентябрь подобрался. Скоро год, как Груня в Болгарии. Погода
стоит чудесная, солнечная. А главное — на людей радостно смотреть. Люди
выпрямились, гордо ходят по своей свободной земле. Ушел из их жизни давний
страх.
На днях отправят последних раненых в Россию. Теперь сестрам милосердия
живется полегче.
В свободные минуты Груня старается развлечь раненых. Читает им газеты,
но чаще — стихи Пушкина. Иногда рассказывает, как ей посчастливилось увидеть
дом, где жил Пушкин. И вновь видела себя на улицах Петербурга с Михаилом
Николаевичем. Идет рядом с ним и слушает его, слушает. И все ей дорого, о чем
бы он ни сказал.
Как-то получилось, что жизнь свою Груня разделила на — до встречи с ним
и после встречи. Совсем другой она себя почувствовала после встречи, будто
подросла. И знаний прибавилось, и в себя поверила.
Что-то давно он не писал? Наверное, все в разъездах. Но не должно быть
того, чтоб он не вспомнил ее больше. Когда человек делает добро, он не забывает
тех, кому его сделал, становится родным.
Нет, не забыл ее Михаил Николаевич. Прислал письмо.
Она торопливо раскрыла толстый конверт и удивилась: в нем лежала
вчетверо свернутая газета. Развернула — в глаза бросился подчеркнутый
фиолетовыми чернилами заголовок: «Сестра Груня». Над заголовком рукой Михаила
Николаевича написано: «Это о тебе. Читай не откладывая!»
Груня прочитала и пришла в смятенье: узнавала и не узнавала себя.
Подумать только! Все запомнил, что она ему говорила. То-то с таким усердием
расспрашивал, как ей жилось, чем занималась, и про ее родных. А теперь все ее
мысли раскрыл и за нее многое додумал. И все верно, все сходится. Как он
догадался, о чем другой человек думает? Будто чужие мысли умеет читать.
Удивительно! Она бережно свернула газету и спрятала, чтоб никто не увидел.
Совестно почему-то стало. Одной бы Вере Мелентьевой смогла показать, да она
сейчас уже далеко от Бялы, у себя в Воронеже. Тимофеич тоже давно дома; хороший
он для них с Верой был, как отец заботился.
Взволнованная Груня не сразу заметила, что, кроме газеты, в конверте
было еще и письмо от Михаила Николаевича. Она стала читать его как можно
медленней, будто перебирая слова, чтобы продлить радость. Очень коротко,
подтрунивая над собой, Михаил Николаевич написал, чем был занят это время. С
грустью вспоминал о Вревской. А в конце просил, чтобы Груня хорошенько подумала
о своем будущем. Больше всего ему хочется, чтобы она стала доктором. Пусть
только верит в свое призвание и за него поборется. А уж на его поддержку она
может рассчитывать.
Груня улыбнулась, на минуту представила себя доктором. «А вдруг
сбудется? — мелькнула смелая мысль. — Коль выйдешь — дойдешь!»
...На утро назначен отъезд. Закончены все дела, осталось проститься с
Бялой.
Груня дошла до окраины города и остановилась на каменном мосту,
переброшенном через шумную реку Янтру.
Здесь в июне 1877 года болгары встречали драгун-освободителей. Этот
радостный день Бяла вспоминает до сих пор. Маленький городок, а какие важные
события связаны с ним!
Отсюда в первые дни войны из главной штаб-квартиры русских войск поступали
приказы о наступлении на Плевну и Шипку.
Здесь побывал знаменитый хирург Пирогов. Прав оказался профессор Алферов,
когда говорил на лекции в Медико-хирургической академии, что не обойдутся на
войне без великого доктора. И не обошлись. Призвали его на помощь. Скольким
людям сохранил он жизнь! Земной поклон ему.
А еще здесь, в Бяле, трудилась Юлия Петровна Вревская. С ней проститься
и шла как раз сейчас Груня.
Она перешла мост и направилась к церкви, у стен которой была похоронена
Вревская. Сердце дрогнуло от жалости. Одна теперь остается здесь Юлия Петровна,
все завтра уезжают, некому будет навестить ее. Груня привела в порядок могилу,
положила цветы и, прощаясь, встала на колени.
— Прощай! Прощай, хороший человек! — проговорила опечаленно и пошла,
опустив голову.
За церковной оградой она оглянулась, чтобы в последний раз проститься с
Вревской, и вдруг увидела у могилы женщину в темном платье и девочку. Наверное,
они вышли только что из церкви. Женщина положила на могилу букет белых роз, а
девочка — яблоко и лиловые сливы. Они стояли, тихо переговариваясь.
У Груни отлегло от сердца: есть кому позаботиться о Вревской, не
останется ее могила заброшенной. И имя ее не будет забыто. В Бяле
растут-подрастают две маленькие Юлии, две болгарские девочки, названные русским
именем в честь Юлии Петровны.
В памяти встал весь прожитый год в Болгарии. Добрая, славная земля! Ее
она никогда теперь не забудет. Не забудет и тех, кто погиб, освобождая ее. И
тех раненых, которых вынесла с поля боя. Все-все сохранит ее память, на всю
жизнь.
— До свиданья, Болгария! До виждане! Здравствуй, Россия! Родина!
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





