ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
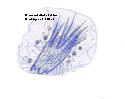

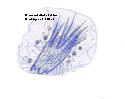
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Дробот Галина 1977
Всякий раз, когда мне звонит Володя — а он звонит ежедневно, — я молча
слушаю его вопрос: «Лида, объясни мне наконец, что случилось?» — и осторожно
вешаю трубку. В комнате у меня становится тихо, а в трубке у Володи, я знаю,
гудят короткие, тревожные гудки, и я вспоминаю события двух последних лет моей
жизни, шаг за шагом, как было. От этого я не могу уйти...
...Началось все в тот день, когда мой брат Леня проснулся утром еще
дома, в тот день, когда я отвезла его в больницу, чтобы больше никогда не
привезти домой. Я знала, что спасти его нельзя, но представить такое не могла.
А Леня все говорил о том, как мы поедем отдыхать будущим летом — на байдарках
ли по Волге или, может быть, на море — в Коктебель. «Ты так устала!» — говорил
он и гладил мою руку своей сухой рукой. Леня у меня единственный родной
человек, родителей мы потеряли в войну.
Когда приехала за Леней «скорая помощь», мне хотелось то тихо,
по-собачьи скулить от бессилия, то кричать в голос на весь наш
двенадцатиэтажный дом, то выхватить Леню из рук санитаров, помогавших ему
подняться с постели, прижать к себе его худое, почти невесомое уже тело. Но я
улыбалась и говорила: «Молодец, вот видишь, и оделся сам, и в машину сел
сам...»
Мы ехали по солнечному городу, и Москва-река казалась ласковой, теплой,
вода ее искрилась и маслилась, и я говорила Лене:
— Посмотри, какая сегодня река... а вон строят новый дом, громадина... а
там вон, вон там, за поворотом, откроется новый цирк. Он почти уже готов...
Но Леня не смотрел в окно. Он лежал молча, закрыв глаза, слушая мой
голос.
В комнате, где размещался приемный покой, тоже стояло солнце и было
жарко. Навстречу нам, когда мы вошли, поднялась из-за стола врач, Нина
Казимировна, женщина средних лет, невысокая, складная, с такой дружелюбной
улыбкой, которая сразу устанавливала между больным и ею отношения полной
доверительности и уверенности в самом благополучном исходе болезни.
— Здравствуйте, Леонид Васильевич, — сказала она распевно. — Я ждала
вас.
Леня протянул свою сухую, желтую руку, и они заговорили, как два
старинных друга, один из которых пришел в гости к другому, и стало казаться,
что все это происходит не в больнице, а дома, и палата у Лени тоже совсем не
походила на «палату». Так, небольшая, очень белая комната, разноцветные астры
на белом столе, умывальник с красивыми яркими пластмассовыми мыльницами и
какими-то флакончиками. Книги на тумбочке.
— Ты иди, — сказал мне Леня. — Я тут с Ниной Казимировной...
— Да, да, идите, а мы потолкуем, — сейчас же согласилась она, и в этом
«потолкуем» тоже было что-то очень домашнее, обыденное, отчего уходил страх.
А в приемном покое, через который мне следовало пройти, все еще сидел на
стуле, согнувшись, — видно, от боли, потому что лицо его то и дело
подергивалось гримасой, — серый старичок, а у стола стояла худенькая, вся
какая-то светлая, чистенькая, аккуратная старушка и что-то говорила врачу, но
так тихо, что казалось, просто шевелила губами. В этих же позах я оставила их
час назад, когда ушла с Леней в палату. Это было странно, точно включили
картинку диафильма, и я остановилась и стала смотреть на врача. Он сидел,
могучий, широкоплечий, мускулы играли под тонким, завернутым выше локтя
рукавом, черные волосы без седины (впрочем, он был не старше меня и седеть ему
рано), а глаза карие, круглые, как у птицы, смотрели жестко.
— Что стоите?.. Сказал же — мест нет... Подождет до завтра... — сказал
он резко, даже грубо, а светлая старушка поспешно кивнула головой и опять
несколько раз открыла и закрыла рот, не произнеся ни слова.
Тогда, словно что-то ударило меня, столько времени стянутые нервы враз
распустились, и я шагнула к столу:
— Как так подождет до завтра?!
Старушка обернулась ко мне, улыбнулась смущенно и опять закивала, а врач
поднял жесткие глаза. Встретился взглядом со мной, и вдруг все в лице его точно
обмякло, подобрело, и он сказал как-то очень растерянно:
— Но у меня в самом деле нет места...
— Поищите, — приказала я.
— Здесь не лес, — взорвался он и опять обмяк. — Сейчас облегчу его
состояние, а положить, право слово, могу только завтра.
— Спасибо! — протянула мне обе сухонькие, в веснушках, руки старушка. —
Нам надо, — прошептала она. — Так надо, а, Петр Лукич!
Старичок поднял на меня замученные глаза, улыбнулся тоже смущенно, точно
в чем был виноват, и сказал:
— Надо. Правда, надо!
Я бывала в больнице у Лени каждый день, и он ждал меня. Иногда, когда я
приходила, он спал, потому что ему давали наркотики и снотворное, чтобы
облегчить боль, и тогда я тихо садилась у стола и смотрела в окно. Пионеры на
специальной площадке запускали модели самолетов, и, летая, они издавали
однотонно звенящий звук, точно где-то включили электрическую пилу. Звук этот
раздражал меня, а Леня его не слышал, а может быть, слышал и принимал, потому
что он был из жизни. На соседней площадке тоже пионеры тренировали собак.
Огромные овчарки, доберманы и боксеры ходили по буму, прыгали через барьеры и
рвы, приносили палки, и все это делали молча — им не разрешалось лаять, и Леня
не слышал их голосов, и мне было жаль, потому что Леня любил собак.
Потом я кормила Леню, читала ему газеты, и до позднего вечера мы
разговаривали с ним. Я рассказывала о доме (он любил нашу квартиру, мы получили
ее недавно взамен старой, которая пошла на слом), о работе, о наших товарищах,
и когда случайно жаловалась, что не закрываются разбухшие от дождей окна или
что чистка задержала пальто, а уже холодно, он брал мою руку, чуть сжимал и
говорил:
— Не тужи, Лидка, вот поправлюсь — подтешу окно, будет закрываться, и
пальто купим тебе новое, как ты хотела, с меховым воротничком... Мне сразу
дадут столько денег за бюллетень...
И я соглашалась, и мне казалось, что в самом деле Леня скоро придет
домой и поправит окно, и купит мне пальто, и опять мне нужно будет торопиться с
работы домой, чтобы обегать все попутные магазины, купить продукты и сготовить
ужин, и когда я буду открывать квартиру своим ключом, навстречу мне будет
выходить Леня. И в квартире не будет тихо, и не будет так прибрано и чисто,
когда каждый шаг мой, как в зеркале, отражается в глянце пола.
Потом Леня уставал и просил:
— Пойди, покури...
Случалось это почти всегда в одно и то же время, часов в восемь вечера.
Я шла на площадку между третьим и четвертым этажами, и как только закуривала, с
четвертого этажа спускалась неслышной походкой та светлая старушка, которую,
как я теперь знала, звали Клавдией Ивановной.
— Покурим! — улыбалась она мне, хотя, конечно, не курила, а так
приглашала к разговору.
— Нас уже почти кончили готовить к операции. Владимир Алексеевич (так
звали того врача из приемного покоя) сказал — скоро будет делать. А руки у него
золотые... Все говорят, лучшего хирурга не найти...— тревожилась она и смотрела
на меня выжидательно.
— Раз говорят... — неопределенно отвечала я.
— Да, да, золотые, у кого хотите спросите. Нам такого и надо...
О себе она всегда говорила — мы, нам, нас, и, слушая ее, я думала, что,
должно быть, такая уж у них с Петром Лукичом любовь.
А старушка все рассказывала:
— Как получилось-то? Мы поженились, когда мне восемнадцати еще не было,
а Петру Лукичу только исполнилось. Так что без трех месяцев шестьдесят лет
вместе. Вот бы к годовщине поправился. Как думаете...
— Поправится, — убежденно отвечала я.
— Дай-то бог. Вы приходите к нам на годовщину.
— Приду! — опять соглашалась я.
— А ваш-то как, Леонид, — тревожилась она, точно о своем спрашивала.
— Ничего, — говорила я. — Держится!
— Ну, ну, бог милостив, все может быть... Вы не думайте, — смущалась
она, — в бога мы не верим, по привычке у меня. Петр Лукич раньше гневался,
партийный он у нас, а теперь... что со старухи спрашивать...
— Зачем вы так о себе? — журила я ее.
— Как-то страшно мне, Лидочка, — признавалась она и подходила совсем
близко, заглядывала в глаза.
— Да что вы, Клавдия Ивановна, — говорила я. — Ничего такого и нет у
него...
— Да, да, — соглашалась она. — Он сильный. На всех стройках, какие в
Союзе есть, мы работали. Везде, везде нас знали... А вот...
Я затягивалась последний раз, и, словно по уговору, поднимался из
вестибюля Владимир Алексеевич, или просто Володя, как он представился мне. Щеки
у него горели ярко, и пахло от него ядреным осенним ветром, точно распахнули в
больнице все окна.
— Здравствуйте, — говорил он нам обеим, но смотрел только на меня и
спрашивал только меня: — Как дела?
Клавдия Ивановна сразу теряла дар речи, только кивала головой, беззвучно
шевелила губами и мелкой походкой уходила наверх.
— Пойду, — говорила и я.
Володя смотрел на большие черные часы:
— Я приехал за вами, Лида. Женщине одной в такую пору через весь
город...
Не отвечая, я быстро шла к Лене. И, как всегда, заставала у его постели
Нину Казимировну. Не знаю уж, полагалось ли ей каждый вечер дежурить. Думаю —
нет!
— Журнал вот принесла Леониду Васильевичу, — говорила она мне. — Он любит
про путешествие. А тут про «Ра» написано. Интересно. Смелые какие ребята, а!
— Мы в запрошлый год с Лидкой тоже ходили на байдарках, — оживлялся Леня.
— Не «Ра», конечно, героизма никакого, а здорово. Здорово, сестренка?..
— Угу, — отвечала я.
— На байдарках! — интересовалась Нина Казимировна. — Мой муж тоже
мечтает купить. Так я попрошу его к вам зайти, проконсультируете?
Леня соглашался, говорил громко, раскатисто, и мне опять казалось, что
мы не в больнице, а дома, только вот голос у Лени точно у выпившего — так
старательно правильно он произносил каждое слово. Но чего с человеком не
бывает... И страх, не покидавший меня ни на минуту, отступал, и было похоже,
что просто несколько друзей собрались, чтобы по-деловому обсудить летнюю
поездку. Мы все строили планы на будущий год...
Потом, когда у Лени на лбу вдруг выступал пот и улыбка становилась
жалкой, Нина Казимировна брала меня под руку и говорила:
— Поздно уже, Лида, идите, а мы тут еще потолкуем. — И улыбалась игриво.
— Не ревнуете?..
Леня тоже улыбался, было видно, что через силу, и я целовала его и шла к
выходу, но не уходила, а ждала Нину Казимировну. Она появлялась минут через
десять. Тени лежали у нее под глазами, глубокие, закрывавшие скулу, а глаза
были печальные. Она брала меня под руку, вела вниз.
— Что мне сказать вам? Вы все знаете с самого начала.
— Не жалейте меня, Нина Казимировна.
— Конечно, — тянула она время. — Все идет своим чередом. — И вдруг
однажды сказала, как ударила: — Паралич может случиться. Тогда придется давать
наркоз. Не положено, конечно, но и терпеть не положено, а наркотики и так уже
не помогают... Я достану, только никому ни гугу. Ладно?..
В больнице было уже тихо, посетители расходятся раньше, и только у
вешалки еще одевалась Клавдия Ивановна, никак не попадала в рукава и все что-то
беззвучно шептала своими тонкими бледными губами.
Я помогала ей одеться, а Нина Казимировна успокаивала:
— Да что вы, милая, у Владимира Алексеевича золотые руки. Ни одного
несчастного случая, а работает в больнице десятый год. И волноваться вам вовсе
нет причин. Идите, милая...
И она шла, успокоенная словами Нины Казимировны, шла коротким неслышным
шагом, точно и не ступала по земле, а плыла над ней.
С Ниной Казимировной мы прощались на углу, потому что было нам в разные
стороны, и как только она скрывалась, откуда-то сбоку подъезжала машина, и
Володя звал:
— Садитесь, Лида. Заждался вас...
Я хмурилась и шла дальше. Я шла, а он медленно ехал и все убеждал, что
женщине так поздно одной опасно ходить по городу. Потом он взывал к моему
милосердию и говорил, что не выспится, ему в семь утра быть в больнице. А я все
шла, а потом быстро вскакивала в троллейбус, и всю дорогу видела, как ехала за
нами Володина машина.
И вот однажды он сказал:
— Мне завтра с утра Петра Лукича оперировать...
Я села в машину. Володя рванул ее с места, сильные руки его легко
крутили баранку, и мы неслись по уже ночным, успокоенным улицам, через мрак,
через фонари, и я беззвучно плакала оттого, что у Володи такие сильные руки, а
у Лени они тоже раньше были такие, а теперь...
Нина Казимировна позвонила мне утром, когда было еще темно:
— Не волнуйтесь, Лида, — сказала она, — случилось то, о чем я
предупреждала. Вы можете не пойти на работу?..
Я неслась в больницу, перескочив из троллейбуса в такси, не подумав,
спала ли Нина Казимировна, если так рано уже звонит. Но к Лене вошла, как
всегда, улыбчивая, поставила на столик любимый им вишневый компот и маленькую
бутылочку кагора — для аппетита, объяснила я. А он следил за каждым моим
движением, потом сказал:
— Присядь поближе, Лидка, я что-то скажу тебе...
Я опустилась на стул.
— Ночью, — тихо сказал Леня, — я встал и упал... словом... нет ног...
пощупал, холодные... как жить будем дальше?!
За окном раздирающе звенели летающие макеты самолетов. Я молча встала,
пощупала Ленины ноги.
— Теплые, — сказала я.
— Спасибо, — ответил Леня...
— А жить будем, как прежде... — опять сказала я.
— Да, как прежде, — согласился Леня. — Давай выпьем по рюмочке, для
аппетита...
Вошла Нина Казимировна с каким-то высоким, тучным мужчиной, халат на
животе которого еле сходился.
— Познакомьтесь, — сказала она. — Ведущий хирург больницы. Будем
советоваться... А вы, Лида, сходите пока на четвертый. — Она посмотрела на
часы. — Наверное, после операции привезли Петра Лукича... Операция всегда таит
неожиданное... вот ведь... выдержка какая должна быть... руки опять...
Она говорила все это явно только для меня, потому что и Лене и ведущему
хирургу не было сейчас дела до Петра Лукича и Володи. Но и мне сейчас не было
дела до них. Мне было томительно и необходимо что-то все время делать, кому-то
быть полезной. А по коридору четвертого этажа ходила своими мелкими медленными
шагами Клавдия Ивановна. Я обняла ее, поцеловала в белый затылок, и мы стали
ходить вместе, и я все убыстряла шаг, почти бегала из конца в конец коридора, а
она не поспевала за мной, и я несла на себе ее легкое тело. Потом остановился и
распахнулся лифт, санитар вывез каталку, на которой лежал, запрокинув голову,
очень бледный, спокойный Петр Лукич. Глаза у него были закрыты, а около уха
наивно подрагивали два черных волоска, росших на маленькой острой бородавке.
Прибежал Володя и, не заметив меня, потому что я отошла в сторонку, закричал на
Клавдию Ивановну:
— Что вы тут делаете? Я же сказал: пока не отойдет от наркоза, нечего
вам тут торчать. Сестра, почему пустили...
Голос у него был резкий, раздраженный, и Клавдия Ивановна, закрыв лицо
руками, тихо пошла к выходу, и плечи у нее подрагивали.
Я бросилась за ней:
— Клавдия Ивановна!..
Она остановилась, вытерла глаза рукой:
— Ничего, ничего, Лидочка, так надо, все хирурги такие, профессия...
Я опять поцеловала ее, и повела на лестницу, и курила одну за другой
сигареты, чтобы успокоиться, а Клавдия Ивановна рассказывала. Так ей, видно,
было нужно.
— Мы уже были раз в больнице. Давно, когда Беломорканал строили. Однажды
ночью, когда Петр Лукич уж домой собрался, просочилась вода. Сначала каплями, а
потом сильней. Остановить надо было, прорвать могло. А рядом только я и была.
Петр Лукич сказал: «Беги скорей в контору. Пусть тревогу сигналят, а я пока
подержу шов», — и прислонился к нему всем телом, точно прилип. Бежала я и все
представляла, как мой Петр Лукич стоит, а вода студеная — в спину ему. Разве
такое выдержишь? А он выдержал. Только в больницу привезли синего-синего!
Думала, не отойдет. Отошел, однако, сильный был...
Я слушала ее исповедь, а думала о своем: мне тоже легче, когда вспоминаю
нас обоих здоровыми и, конечно, вместе.
...В тот раз мы на все лето ушли в тайгу, и как получилось, что камень
сорвался и летел прямо на студента, практиканта нашего, Сашку? Не подвернись
Леня, не успей он схватить Сашку за руку и швырнуть в сторону, пришлось бы
слать похоронку. А так камень только Леню задел, тогда казалось, не сильно,
краем одним по спине. А вот что получилось... Говорят — травматический...
Оказывается, и такой бывает... Я очень точно увидела то место в тайге, где все
это случилось: полянка, как лысинка между черными огромными елями и ярким
зеленым подлеском, и дорога от нее в гору, по которой и несся этот чертов
камень... И шалашик наш из прутьев... И кувыркнувшегося в воздухе Сашку... И
страх в его совсем выкатившихся глазах... и улыбающегося Леню. Ничего, ничего,
пустяки. Случается... и ветер протяжный-протяжный, точно знавший о беде...
— Вы что, Лида! — легонько потолкала меня Клавдия Ивановна.
Я тряхнула головой, чтобы прогнать видения, сказала:
— Пойду!
На столе у Лени стояли белые лохматые хризантемы. Они тогда, с первым
снегом, только появились в Москве, и Леня смотрел на них и сказал:
— Нина Казимировна принесла. Красивые, правда? А ты не волнуйся, Лидка,
профессор сказал, положат на вытяжку — пройдет. Пройдет, слышишь!.. — И голос у
него зазвенел. В первый раз...
— Что ты кричишь на меня? — спросила я глухо. — Петру Лукичу операцию
сделали. Уже привезли. Бледный, а так спокойный...
— А Клавдия Ивановна? — спросил Леня.
Я стала рассказывать о ней, и рассказ неожиданно получился смешным,
легким. А потом сказала:
— На шестидесятилетие свадьбы звала. Вот ведь — шестьдесят лет вместе!
Надо же!
А Леня улыбнулся:
— Сходи обязательно. Цветы от нас отнеси, вот такие, белые...
— Отнесу, — согласилась я.
— А сейчас иди...
И снова Нина Казимировна оказалась еще в больнице, хотя был уже
одиннадцатый час. Она проводила меня, не успокаивая объясняла, как будет
дальше. Теперь-то я понимаю, что не было то жестокостью, скорее заботой обо
мне, которой жить, чтобы была ко всему готова, чтобы не неожиданно... А тогда я
шла к троллейбусу, и было мне страшно на пустых, только снегом подсвеченных
улицах, и все слышался зазвеневший Ленин голос, а рядом ехала машина Володи, и
не был он мне нужен, потому что был здоров, и вот сделал операцию, а Леня
никогда уже не поедет со мной в экспедицию. Я даже так и сказала случайно вслух
— никогда! — и Володя тревожно спросил:
— Что никогда?
— Ах, да так! — махнула я рукой и торопливо влезла в машину.
— Вези быстрей, по всему городу, всю ночь...
Володя не спорил. Он охотно взял скорость, и мы всё ездили по улицам,
знакомым и незнакомым вовсе, и я высовывала голову в окно, и ветер бил мне в
лицо, залезал за воротник, и было мне зябко, а я все просила — быстрей,
быстрей...
Потом уже, обессилев от холода, ветра, быстрого бега машины, от пустоты
внутри себя, я спросила — просто так, чтобы что-нибудь спросить:
— Как операция-то? Все в порядке?
Володя посмотрел на меня в зеркальце, и я тоже увидела его лицо,
осунувшееся. Он что-то сказал, но ответ его не был мне нужен, мне нужно было,
чтобы кто-нибудь говорил около меня, — безразлично о чем, лишь бы был голос...
А Володя продолжал:
— Не мой новый метод, — пожалуй, не спас бы я Петра Лукича... А так... —
Он вдруг обернулся, и я увидела его улыбку, широкую и счастливую. — Он у меня
шестидесятый прооперированный новым методом — и опять удача... Нет, не удача —
закономерность... Метод бесспорный... — Он глубоко вздохнул, точно выпустил из
себя все сомнения, усталость, тревогу и сказал: — До ста доведу и узаконю...
— Что? — не поняла я.
— Мой метод!
— А! — сказала я и добавила: — Поздно как, поехали домой...
Сашка появился неожиданно, и я привела его к Лене. Обветренный,
загорелый (он работает теперь на Кавказе), здесь, в больнице, Сашка выглядел
непозволительно здоровым. Но Леня обрадовался ему, и мы, как встарь, опять
говорили о работе, о знакомых геологах, о будущем лете, и Леня вдруг сказал:
— Лидка, я подумал. Мне нужен невропатолог. Это он лечит, а не хирург.
Поговори с Ниной Казимировной.
— Угу! — сказала я, а Сашка заторопился:
— Я съезжу за ним куда надо, только скажи, Лида, куда надо...
— Нет, ты сейчас пойди, — сказал Леня так настойчиво, что я поняла: он
все время об этом думает, он ищет спасения, он верит...
Я пошла, оставив его с Сашкой, и мы сидели с Ниной Казимировной в ее
кабинете, и она объясняла:
— Бессмысленно это, Лида. Но раз он верит, я достану врача. Профессора,
коль верит. Я сделаю, обязательно сделаю, Лида...
Я вышла от нее, но вернуться сразу к Лене не могла и пошла на четвертый
этаж, к Петру Лукичу. Дверь в его палату была открыта, и я увидела их всех
троих сразу: на постели лежал Петр Лукич, грудь у него высоко и трудно
вздымалась, дышал он со свистом, и выражение лица у него было смущенное, точно
он виноват в том, что заболел и стольким людям приходится вот думать о нем; а
по бокам кровати стояли уже совсем усохшая Клавдия Ивановна и широкоплечий,
загорелый Володя.
Они смотрели в глаза друг другу, и я услышала тихий голос Клавдии
Ивановны:
— Может, терапевта?.. Говорят, у него двустороннее воспаление легких.
Вам не кажется?
— А вам кажется! — резко оборвал он ее.
Клавдия Ивановна съежилась, пожала плечами.
— Не дурите мне голову. Если понимаете больше меня, лечите сами...
Я не стала слушать дальше, а побежала к Нине Казимировне — она-то ведь
терапевт, и Петру Лукичу сейчас нужнее, чем Лене...
— Нет, Лида, — сказала она мне. — Если я действительно нужна, он вызовет
меня сам... Он отличный хирург, это я вам говорю... У Петра Лукича, к
сожалению, все оказалось сложнее, чем думали. Если бы не метод Владимира
Алексеевича...
— Все метод, метод, — вскипела я. — «Если понимаете больше меня, лечите
сами...» — это тоже метод!
— Каждую неделю, Лида, Владимир Алексеевич делает две операции, самые
сложные, — терпеливо объясняла Нина Казимировна. — Так делает, как никто в
городе... Может быть, никто в стране...
— Прибедняетесь! — выпалила я.
— Лида! — удивилась Нина Казимировна.
— Простите! — сказала я. — Нервы. — И заголосила на весь коридор.
Нина Казимировна не стала меня утешать. Она сказала строго, непривычно
чужим голосом:
— Как вам не стыдно!.. Леониду Васильевичу...
Я не стала слушать, какой я нужна Лене, выбежала из кабинета — и ходила
и ходила по коридору, пока вовсе не пришла в себя...
Невропатолога, известного в городе профессора, чье имя знал и Леня, Нина
Казимировна привезла на следующий день. Он вошел улыбающийся, доброжелательный.
— Что у вас тут случилось, батенька? — спросил он рокочущим голосом и
стал смотреть Ленины ноги, а потом задавал всякие, я-то понимала, ненужные
вопросы: чем болел в детстве, словно от этого сейчас что менялось, курил ли,
занимался ли спортом, в каких районах страны работал. Иногда он осуждающе
покачивал головой, иногда говорил распевчиво, точно огорчался: «Ангины бывали,
ангины!» Леня отвечал точно и неотрывно водил глазами за профессором.
— Залежались вы, батенька, — наконец сказал профессор. — Мы
посоветуемся, но я думаю — массажик, а?
— Да-да, массаж, легкий — это хорошо, — сразу согласилась Нина
Казимировна, а Леня все переводил взгляд с нее на профессора, с профессора на
нее...
— Да-да, массаж, и... — Они заговорили латинскими терминами, а Леня
закрыл глаза, потому что устал, а за окном опять звенели, звенели, звенели
летающие модели самолетов...
Мы вышли из палаты вместе.
— Лида, — сказала Нина Казимировна, — Владимир Алексеевич вчера вызывал
меня... Понимаете, профессор, такой редкий случай... — Они опять перешли на
латынь. И мне не было странно, что говорит она о Петре Лукиче, а не о Лене,
которого только что смотрел вот этот известный на весь город врач. Я ведь
знала, что приехал он, только чтобы успокоить Леню. Не пожалел времени! И я
спросила:
— Значит, спасете Петра Лукича?
— Все, что можно, делаем. Консультанты приезжали. Лекарства новые
применяем. У нас-то в больнице, правда, кое-чего не было, пришлось у коллеги
позаимствовать. Дал, однако...
— А Владимир Алексеевич? — спросила я.
— Профессор, — сказала Нина Казимировна, точно не слыша моего вопроса,
точно меня уже не было рядом. Она осторожно взяла его за локоть, и они пошли по
коридору вдвоем, о чем-то оживленно разговаривая, а я все стояла и смотрела им
вслед...
У выхода из больницы, как всегда теперь, ждал меня Володя со своей
машиной. Мы ехали неспешно, и он говорил:
— Поздравь меня: еще одна операция новым методом... И — удача! И знаешь,
я обнаружил, что кое-что можно и нужно изменить еще. В ближайшее время
попробую, и тогда... А?
— А Петр Лукич?
— Что Петр Лукич? — не понял Володя.
— Его ты спасешь?
— Ах, Лида, хороший ты человек. Все-то тебе важно. Ну, смотрел я его,
смотрел! И делаем все, как всем после таких операций...
— Как всем?
— Ну да...
— По стандарту... У каждого человека организм свой...
— Ты, гляжу, тоже стала профессором... Вот ведь, не хуже Нины
Казимировны... То подай ей одного консультанта, то другого, то за лекарствами в
дальний конец города понеслась спозаранок, точно нельзя послать сестру...
— Так ведь надо же вы́ходить,
— не сдавалась я.
— Надо, надо, правда твоя. Верь мне, все делаем, пусть по стандарту, как
ты говоришь, а все-таки все. А что лет ему семьдесят восемь, так я не бог, а
хирург... Это старуха думает, что я бог... — Володя засмеялся удовлетворенно.
— Но ведь...
— Послушай, Лида, можно подумать, и говорить нам больше не о чем. Давай
помечтаем: вот дадут мне клинику...
— Останови! — попросила я.
— Что? — не понял Володя, но притормозил, и я выскочила на ходу, чуть
подвернув ногу, но успела доковылять до парадного, прежде чем Володя мог
догнать меня...
...Лене становилось с каждым днем хуже. Теперь он уже не мог
поворачиваться сам, потом его стало утомлять мое чтение, и я заметила, что все,
о чем я говорила, проходило мимо его сознания. А Нина Казимировна все звонила в
разные больницы, советовалась со своими коллегами, время от времени говорила:
— Поезжайте, Лида, к моему товарищу, он даст еще одно лекарство. Не
поможет, конечно, а вдруг? Чего в жизни не бывает!..
Мы с Сашкой ездили из конца в конец, то привозили какую-то сыворотку, то
какой-то новый химический препарат, то настой какого-то корня: жизнь моя
сосредоточилась на Лене. Остального не стало. Клавдию Ивановну я почти не
видела, но Нина Казимировна всякий день сообщала мне, как идут у Петра Лукича
дела, точно мне это было важно. И всякий раз подчеркивала: «Если б не Владимир
Алексеевич... Он такой талантливый...»
А Леня таял. Он уже почти не говорил, и серые глаза его выцвели, стали
водянистыми, а губы тонкими и голубоватыми. Иногда он тихо звал: «Мама! — и
улыбался жалобно, словно был маленьким, и тянул руки: — Мама!»
А за окном уже бежали ручьи, уже грело солнце, начиналась весна. Небо
поднялось высоко, светало рано, а темнело поздно, и талый снег, и теплый ветер
тревожили. Леня поворачивал голову к окну, вдыхал воздух, просил:
— Машину, скорей машину... пожалуйста...
И я понимала: он хотел в тайгу, в горы! Он хотел жить! И на окне его, у
самого изголовья, стояли каждый день свежие, первые, нежные голубые и белые
подснежники. Они пахли горько и скорбно, да за окном звенели, звенели, звенели
на одной протяжной ноте летающие авиамодели, да огромные собаки беззвучно ходили
по буму, прыгали через рвы, приносили палки, и мы с Сашкой, меняясь, дежурили у
постели Лени круглые сутки...
Клавдия Ивановна осторожно приоткрыла дверь, чуть просунула голову,
позвала тихо:
— Лида!
Я вышла. Клавдия Ивановна обняла меня, прижалась всем худеньким телом,
заплакала.
— Что? — испугалась я.
— Поправился Петр Лукич-то! Совсем поправился, — тихо сказала она и улыбнулась.
— Сегодня выписываемся. Как раз к шестидесятилетию Нина Казимировна угадала.
Вот ведь. Так вы приходите на праздник-то... И Нина Казимировна придет...
обещала...
— А Владимир Алексеевич? — спросила я просто так.
Клавдия Ивановна съежилась:
— Не сердитесь на него, Лидочка. Он ведь как операцию сделал! Руки-то
золотые. А что потом... так сколько у него больных-то! Разве за всеми углядишь.
Профессия у него такая, не ласковая. Так придете?
— Что? — испуганно спросил Леня, когда я вернулась.
— Петра Лукича выписали, — сказала я. — Клавдия Ивановна на
шестидесятилетие пришла звать...
Леня закрыл глаза и лежал безмолвно, а я смотрела на него и не узнавала:
он точно уменьшился в росте, стал маленьким, щуплым старичком, а было ему —
тридцать.
И вдруг он сказал, совсем как здоровый:
— Возьми вот цветы... с окна... белые... от меня... сходи к ним... и
Нина Казимировна пусть... со мной Сашка... Обещай!
— Схожу!
Он опять замолчал, трудно переводя дыхание.
...К Клавдии Ивановне и Петру Лукичу мы с Ниной Казимировной приехали
поздно, потому что я никак не решалась уйти от Лени.
— Не могу! — сказала я Нине Казимировне. — Потом не прощу себе...
— Надо, Лида, надо, — построжала она, и Леня неожиданно услышал нас и
вдруг понял, о чем мы говорили.
Он открыл совсем уже белые глаза и сказал четко, по слогам:
— По-ез-жай... про-шу... тре-бую... сей-час же... Так мне надо...
В маленькой квартирке на тихой улице, куда мы приехали, было удивительно
светло. Все здесь: и белые, туго накрахмаленные салфеточки, и белые упругие
занавески, и белые подзоры, и стены, крашенные в бледные, чистые тона, — все
было точно в девичьей комнате, куда не ступала еще мужская нога. И стол,
квадратный, затянутый хрустящей скатертью, тоже был белым и лучистым. Мы сидели
за ним — Клавдия Ивановна с Петром Лукичом, его старые товарищи по стройкам,
люди из соседних квартир и мы с Ниной Казимировной. Ленины белые подснежники и
наши красные розы стояли на столе, и разговор шел неторопливый, то об упрямом
верблюде Яшке, который ни за что не хотел уступить дорогу поезду и погиб на
Турксибе; то о каком-то смешном начальнике с Днепрогэса, который все кричал:
«Даешь, даешь, план...», а дела не знал; то об известном теперь академике, а в ту
пору молодом прорабе, который прислал поздравление из-за границы. Пришла
телеграмма и от министра с грифом «Правительственная». Телеграммы несли весь
вечер, и Клавдия Ивановна читала их так, точно здоровалась с адресатами, а
потом старики вспоминали, как жили и работали они вместе. И получалось, что с
Клавдией Ивановной и Петром Лукичом везде были люди только хорошие, а плохих не
встречалось вовсе...
Потом Петр Лукич запел, и голос у него оказался сильный, а Клавдия
Ивановна шепнула мне, что был он на строительстве Комсомольска-на-Амуре первым
запевалой.
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака,
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века! —
выводил
Петр Лукич, запрокинув голову, и глаза его туманились воспоминаниями, то
вспыхивали, то гасли...
Домой я вернулась в полночь, и сейчас же зазвонил телефон.
— Приезжайте в больницу, Лида, — сказала Нина Казимировна.
Сашка добавил:
— Я встречу тебя внизу...
...С тех пор прошел год, без двух недель. Сашка, как всегда, мотается со
своими геологами по тайге, он теперь работает вместо Лени и каждую неделю шлет мне
телеграмму, а раз в месяц письмо, большое, подробное. А я вот все еще в городе,
работаю в управлении. По выходным дням я иногда навещаю Клавдию Ивановну и
Петра Лукича или езжу к Нине Казимировне, и мы сидим вдвоем и говорим обо всем,
что происходит в ее и моей жизни, но только не о Лене. А с Володей, который
пришел на похороны, а потом терпеливо сносил мои слезы и нервные вспышки и
успокаивал меня, водил по театрам и концертам, дарил цветы и встречал у
парадного, когда я возвращалась с работы, я перестала встречаться с того дня,
когда он обнял меня сзади за плечи и сказал:
— Давай жить вместе, Лидка. Вот так, всю жизнь...
Мне вдруг стало страшно: я представила Леню, лежащего на кровати, и
увидела его ищущий, требовательный взгляд, а потом Петра Лукича, но взгляд у него
был не требовательный, а извиняющийся за то, что заболел и вот доставил столько
хлопот, и смущенную Клавдию Ивановну. Я словно поставила их всех в ряд перед
собой, закрылась ими от чего-то и сказала:
— Не торопись...
И вот Володя звонит мне каждый вечер и спрашивает: «Почему? Объясни мне
наконец, что случилось?..»
Вот и опять зазвонил телефон. Я поднимаю трубку, и в какой уже раз слышу
все тот же вопрос, и опять вижу Леню, Петра Лукича, Клавдию Ивановну, Нину
Казимировну и вдруг говорю:
— Не звони мне больше!
— Но почему? — кричит Володя. — Я ничего не понимаю. Объясни!
Что я могу ему объяснить? Сказать, что для него, доктора наук и руководителя
клиники, открывшего метод, гарантирующий исход операции, которая раньше часто
бывала смертельной, Петр Лукич, старичок со смешной усатой бородавкой около уха
и извиняющимся взглядом, был всего лишь очередным, подтверждающим его гипотезу...
— Ах, да что объяснять! — устало говорю я.
— Но, Лида!..
— Да, Лида... Слушай, — быстро говорю я, — просто Петр Лукич не дает
благословения. — И замолкаю, и слышу тишину на другом конце провода, а потом
там падает на рычаг трубка, и впервые за все это время частые тревожные гудки
летят по моей комнате, а не у Володи. Я слушаю их и знаю: теперь, когда я буду
возвращаться домой, меня никто не встретит у парадного и в комнате моей будет
очень чисто, потому что некому мусорить, и очень тихо, потому что, когда я
решусь повесить телефонную трубку и прекратятся частые гудки, Володя уже
никогда не позвонит мне. И я не знаю, права ли я...
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





