ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

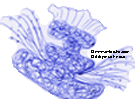

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Адамян Нора 1972
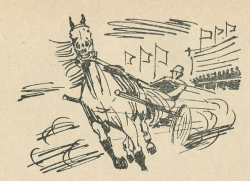
На остановке «Бега» из трамвая вышли почти все пассажиры и среди них
Люба. Было солнечно, морозно, и она подумала: «Ладно, хоть подышу свежим
воздухом». Ей хотелось найти какое-то оправдание своему поступку, который в
душе она считала сумасбродным, даже чуть стыдным. С чего это она, мать своего
ребенка, обстоятельный человек, пошла на бега?
Но Антонина Васильевна очень уж уговаривала, а под конец привела и этот
довод: «Хоть воздухом подышите».
Люба приехала раньше назначенного времени. У самой трамвайной остановки был
большой магазин тканей, и она постояла у каждой его витрины, рассматривая
пестрый штапель, блестящий шелк и спокойную шерсть.
В одном из стекол удачно упавший свет, как в зеркале, отразил Любу —
пышный воротник из черно-бурой лисы, сапожки на каблуке, пуховый платок.
«Не хуже других, — подумала она, — и чернобурка опять в моду вошла, а он
где-то шляется, шляется, и самое, чего я всю жизнь боялась, — ребенок без отца
будет расти...»
Тут подошел трамвай с противоположной стороны, и среди высыпавшихся из
него людей оказалась Антонина Васильевна. Пошла она навстречу Любе с широкой
улыбкой, нисколько не заботясь о том, что, хотя верхние зубы уже вставлены, на
нижние никак не набираются деньги и потому торчат внизу одни пеньки.
А лицо у нее было счастливое и чуть сконфуженное, верно, потому, что за
Антониной Васильевной шел мужчина в неприметном пальто и шапке-ушанке. Мужчине
было лет за сорок, но познакомила его Антонина Васильевна с Любой как-то
несолидно, скомкано сказала: «Вот это Витя...» И тут же заторопила всех в
глубину улицы, где наверху, над огромным зданием, летели каменные кони. Народ
шел туда рядами, как на демонстрацию. Люба ничего тут не знала. Распоряжалась
Антонина Васильевна. Витю послала за билетами и сказала: «Возьми по сорок...»
Люба тут же хотела отдать ей сорок копеек, но Антонина Васильевна не взяла.
У всех в руках были книжечки с конской мордой на обложке. Антонина
Васильевна размахивала такой книжкой и убеждала Любу, понизив голос:
— Сегодня особые призы. Русские тройки. Хорошие деньги кто-то возьмет.
В больших холодных залах у буфетов толкались любители с утра пораньше выпить
пива.
А на овальном белом поле лошадей готовили к очередному параду,
состязанию, празднику.
На паре легких колес, вытянув по оглоблям ноги, проезжали наездники мимо
трибун — делали пробежку, показывая стать и норов своих коней, а люди на
трибунах — завсегдатаи и знатоки — оценивали и наездников и рысаков, восхищались,
браковали, предсказывали им победу и поражение.
Антонина Васильевна знала, какую лошадь как зовут, и называла Любе
странные смешные имена: Гегемония, Наплыв, Бахрома, Жар...
Показала знаменитую женщину-наездницу Пашкову.
— Надо же, — сказала Люба, — такой раскорякой при народе!..
В общем, ей было интересно, особенно когда выехали на разминку тройки и
проскакали мимо трибун, как на картинках, — коренник прямо, а пристяжные
отвернув в стороны округлые шеи. Любе понравилась одна тройка — мышино-серого
цвета.
Антонина Васильевна очень радовалась тому, что Люба оживилась. Если уж
пришла беда, надо ее перебарывать. Что толку горевать да киснуть! Не она
первая, не она последняя. Тем более что уже не вернешь, не склеишь. Это Антонина
Васильевна сразу поняла после разговора с мужем Любы.
До этого разговора она его почти не знала, всего-то несколько раз видела,
когда он заходил за женой. Поэтому ей было неловко вмешиваться, но Люба
настояла:
— Поговорите, он вас очень уважает...
Сергей, конечно, не мог уважать почти незнакомую женщину, и потому
Антонина Васильевна сразу сказала:
— Вы имеете полное право послать меня к черту за мое вмешательство, и я
не обижусь. Но я старше вас, сама много пережила, и в данном случае у меня одна
цель: помочь вам наладить семейную жизнь.
Он сидел, уткнувшись взглядом в пол, и молчал.
— Если не хотите говорить, это — ваше право. Я уйду. Только вы и самой
Любе не объясняете никаких причин.
— Она знает, — ответил он, не поднимая головы, — она все отлично знает.
Она сама этого хотела.
— Как она могла хотеть, чтоб ребенок отца лишился?
— А я своему ребенку всегда отец. Я ребенка никогда не оставлю.
Антонина Васильевна давно уже избавилась от заблуждения, что откровенный
разговор двух людей может разрешить жизненные противоречия. Сейчас она знала —
правых и виноватых почти никогда нет: правда всегда где-то в середине и понемногу
склоняется то в одну, то в другую сторону.
Уже не веря в успех своего предприятия, она сделала еще попытку:
— Сколько лет вы вместе прожили, мальчик у вас, квартира. Люба и хозяйка
и работница. В чем вы ее упрекаете? Изменяла она вам?
— Нет, этого не было.
— Значит, в самом главном грехе против мужа Люба не виновата. И у вас
вроде никого на стороне нет. Почему же вы у себя дома кусок хлеба съесть не
хотите? Почему к матери ходите ночевать?
— Ну, невозможно мне вам все это рассказать! — вдруг закричал он. —
Двенадцать лет я с ней как в предбаннике живу. Я, если хотите знать, измену
простил бы. А отраву день за днем, скрипение ее, учет да расчет... Да, я здесь больше
куска не съем! Слишком много меня этим куском попрекали. А! — Он махнул рукой.
— Нет у меня возврата. Нет и не будет. Хочет, пусть замуж идет. Я ей развод
хоть завтра дам!
— Уж тогда вы сами на развод подавайте.
— Мне он ни к чему. Но жить я с ней не буду. А ребенка не брошу.
Люба выслушала точный пересказ разговора. Выслушала жадно, в решительных
местах деловитой скороговоркой приговаривала: «Так, так, так...»
Потом вдруг удивила Антонину Васильевну спокойной уверенностью:
— Ничего. Перебесится. Никуда не денется.
Но шло время, и все чаще Антонина Васильевна слышала покорно-скорбный
голос Любы:
— А может, у него баба есть... Нет, в самом деле, откуда я знаю?
И женщины их смены горестно соглашались — конечно, очень возможно и скорее
всего. И давали Любе разные советы.
— Вы посмотрите, как я исхудала. — Люба оттопыривала пояс юбки. — Не
подумайте, что я за ним так переживаю. У меня к нему уже все отсохло. Мне
только Володечку жалко. Ребенок все понимает. В этой четверти по английскому
отставать стал. Я учительницу спросила: может быть, это потому, что у нас в
семье драма? Она говорит: «Очень может быть».
Или в разгар работы, упаковывая заказ, вдруг скажет, как простонет:
— Нет, вы подумайте только, какой дурак! Володя и то говорит: «Мама, у
нас папка дурачок, не хочет с нами жить...»
Антонина Васильевна все это понимала. Когда-то она сама горела на таком
огне. Правда, давно и зря, потому что муж ее был не золото и жизнь без него
оказалась куда прекрасней. Но тогда потеря мнилась невозместимой. Пугало
одиночество — страшный спутник стареющих женщин, душила обида, возмущала неблагодарность.
Вы́ходила, выучила, спасибо, прощай! Хотя из благодарности с женами не
живут. А она его, сероглазого пьяницу и хвастуна, любила. Даже травиться хотела
и Зинку убить мечтала. Господи! Убить Зинку! Смешно...
И потому она не могла оставить Любу углубляться в переживания и позвала
ее с собой на ипподром, чуть конфузясь, словно в этом увлечении бегами было
что-то предосудительное. И, не упоминая о своих проигрышах и редких выигрышах,
она соблазняла мрачно-настороженную Любу красивым зрелищем, спортивным
интересом и, наконец, добила свежим воздухом.
Но теперь ей надо было поставить на дубли и ординары, надо было
посоветоваться с Витей — они всегда играли вместе, — и все это хотелось
проделать не то чтобы тайком от Любы, а так, не очень заметно.
Люба уже сконфузила Виктора:
— Вы что же это, каждое воскресенье сюда ездите?
Он покраснел.
— Да, почти что...
— А жена небось дома сидит, детей нянчит?
Бедный Виктор совсем растерялся. Жена его нянчила уже не детей, а внуков,
подолгу уезжала к дочери в Донбасс, и вообще у них, как в каждой семье, были
свои сложности, которые он превозмогал, как мог.
И Виктор предпочел отойти от этих расспросов подальше. Антонина Васильевна
насилу разыскала его, и они, склонившись над книжечкой, принялись гадать над
прекрасно звучащими строками: «Русские тройки. Большой Московский приз. Коренник
Наш Подарок — от Персика и Ниагары, правая пристяжная Апогей — от Люцифера и
Интуиции...»
Все зрители ипподрома — старые, молодые и совсем юные — углублялись в
свои книжки и бегали к кассам покупать билеты, связывающие их судьбу с
красавцами, верняками, фаворитами.
Здесь каждый знал свою тайну и рвался узнать чужую.
Высокий мужчина в распахнутой шубе шел по проходу между скамейками и
наткнулся на Любу.
— Какая возьмет? — требовательно спросил он, тыча в нее пальцем.
— А не все равно? — Она даже улыбнулась ему, поддаваясь царящей здесь
общности интересов.
— Как это может быть все равно?
Он облокотился близко возле нее, почти прижался к ее плечу.
— Первый раз здесь?
— Да уж конечно.
От мужчины приятно пахло одеколоном и пивом. Он был не пьян, а словно
охвачен радостью.
— Играть надо, женщина, — сказал он, — кровь полировать надо, прекрасная
вы женщина.
— Так ведь здесь, наверное, все обман?
— Обман, — значительно подтвердил он. — Они хитрят, а наше дело их
хитрости предусмотреть и в контр свои выставить. Вот войдите в долю со мной,
прекрасная женщина!
Он взял ее руку, но тут Люба опомнилась и отодвинулась. Куда девалась
Антонина Васильевна? Завела и бросила ее тут одну.
Диктор громким, чистым голосом объявил по радио первый заезд русских
троек. Все бросились к барьерам, и этот сумасшедший, даром что называл
прекрасной женщиной, тоже куда-то ринулся, а на дорожку ипподрома выехала
машина, и ее, привычную, неживую, было так странно видеть рядом с пышногривыми
конями.
Машина ехала впереди троек, распустив по сторонам металлические крылья,
преграждающие лошадям возможность вырваться вперед. А они горячились,
вскидывали копытами снег, и наездники трудились изо всех сил, сдерживая их до
поры.
Рядом с Любой незаметно оказалась Антонина Васильевна. Они с Виктором
поставили на самую перспективную тройку костромских жеребцов, и в долю с ними
вошел Игорь Иванович, водитель такси, постоянный член их компании. Он сегодня
работал, но плюнул на план, поставил машину возле ипподрома и погасил зеленый
глазок. Маленький, легко одетый в кургузую курточку, Игорь Иванович поднимался
на цыпочки, чтобы не пропустить самой главной секунды.
И вот она настала. Щелкнул выстрел. Машина, медленно ехавшая впереди
коней, сорвалась куда-то вбок, убирая свои железки, а свободные тройки
помчались, полетели, яростно, страстно, будто от этого бега зависела их жизнь.
И весь ипподром затих, пока они летели мимо трибун; только когда они заехали за
круг, люди зашевелились, и Антонина Васильевна зашептала:
— Первые, первые, голубчики мои, первые!..
— Да кто первые? — спросила Люба.
— Наши...
— Рыжие, что ли?
А ей больше нравились мышино-серые, хотя пробежали они последний круг
последними, но так мчались, так мчались...
И по второму кругу костромские сначала были впереди, и народ радостно
кричал им навстречу, а потом, когда они удалились от трибун, что-то с ними
сделалось, и громкий дикторский голос объявил:
— Геркулес дал проскачку.
— А-а-а-а-х! — горестный стон прокатился по ипподрому. Антонина
Васильевна сразу разочаровалась, а маленький таксист, стоящий впереди Любы, еще
сильнее задрожал в своей курточке, рассчитанной на теплую кабину такси.
Теперь бежали две тройки, и так случилось, что резвые карие, которые
сначала были впереди, отстали, а круглобокие серые шли и шли, вырывались
вперед, седок их почти сполз на дорогу, чтобы облегчить ход, а наездник подался
вперед, и серые пришли первыми.
Люба была довольна.
— Как в воду глядела, — сказала она.
— Если б угадать!.. — растерянно улыбалась Антонина Васильевна.
— Ну и что бы?
— На них и не ставил почти никто. Вдесятеро взяли бы.
— Вот как, за здорово живешь? — удивилась Люба.
Ее защемила злая досада. Конечно, если б знать, она и трех рублей не
пожалела бы. Ведь угадывала она!
Издали замаячил Витя, и Антонина Васильевна предложила Любе погреться.
Огромное фойе показалось теплым, только теперь почувствовалось, как замерзли
руки и ноги. Антонина Васильевна опять скрылась, правда, неуверенно предложив
Любе:
— Выпьем по стаканчику горячего вина?
— Какого еще вина? — изумилась Люба. И Антонина Васильевна не стала
настаивать — пропала и пропала. А народ вокруг кипел, как в хорошем универмаге,
все больше мужчины, хотя и женщины попадались.
Вдоль стен стояли деревянные кресла. Люба высмотрела одно свободное и
села рядом с женщиной. Женщина была совсем молоденькая, сильно беременная. Люба
поняла, что она пришла проследить за мужем, чтоб он не проиграл последних
денег.
— Шарашкина фабрика это, — сказала Люба. — Дураков обманывают.
Молоденькая взглянула на Любу холодными, пустыми глазами и отвела их в
толпу, а потом к ней подошел парень, и они оба склонились над книжечкой, да все
шепотом, шепотом. Люба только услышала: «Будимир, Будимир...» И вдруг это имя
звучало то тут, то там: «Будимир, Будимир...»
Какой-то ветхий старичок сел рядом с Любой, на что он ей сдался, и
всерьез тихонько спросил:
— Вы как, на Будимира или на Фабулу?
— А я никак! — рассердилась Люба и ушла из прокуренного этого зала на
чистый морозный воздух.
А про себя решила, что Будимир ни за что не выиграет, вот всем назло. И когда
диктор стал выкликать лошадей, она загадала на кобылу с красивым именем Мольба,
хотя не знала, какая из десяти готовых к бегу Мольба.
Антонина Васильевна прибежала таинственная и возбужденная. Пустили слух
про Будимира. Но он не будет фаворитом. Большие деньги рядом ходят! Они втроем
поставили на «темную» лошадку.
— Вина-то выпили? — спросила Люба.
И снова выехала машина, все затихло, и прогремел выстрел.
Вперед вырвался Будимир. Сам конь белый, литой, на наезднике камзол и
шлем голубые, рукава и лента бордо. Как в кино. И почти весь круг он шел
впереди, и ипподром ревел от радости, а потом с ним поравнялись серая в яблоках
и рыжая лошади, бежали голова в голову, не отставая.
Люба прилегла на барьер, так, кажется, и прыгнула бы, чтоб помочь серой
лошади, хотя она еще не знала, что именно это Мольба, та самая «темная»
лошадка, которая в конце концов обогнала Будимира. А Антонина Васильевна поставила
на какую-то Помпу, которая приплелась последней. Люба не ожидала, что так взволнуется.
Ей казалось, что она всем говорила про Мольбу, а они ее не послушались... Надо
же! Сколько можно было выиграть!
Уже не таясь, Антонина Васильевна стала складываться с Виктором и
таксистом. Победителя следующего заезда они знали точно.
«А вдруг? — подумала Люба. — Берут же люди».
Но только всем ни к чему было знать про ее деньги. Она отвела Антонину
Васильевну в сторону и дала ей три рубли. Волновало ее то, что она не могла
сама разобраться, какие билеты брать, сколько на какую лошадь ставить. Впереди
еще были и главные призы, и тройки, и выдающиеся фавориты.
Она кричала со всем стадионом, когда первой пришла Верная Знакомка, и
выдача была большая, но Антонина Васильевна взяла в долю не только таксиста, а
еще какого-то постороннего человека, и он за свои двадцать копеек отхватил
полтора рубля.
— И на что вам это сдалось? — рассердилась Люба.
А Антонина Васильевна, чувствуя себя виноватой, оправдывалась:
— Надо же выручить человека. Другой раз и нас выручают...
Выигранные деньги тоже пустили на ставки. Любе никто не сказал, сколько
осталось от ее трешки, как ее распределили. Она и сама не спрашивала. Как
околдовали ее! Опять рублевку отдала Антонине Васильевне. Сделали ставку на
Булочку, золотистую лошадку. И так она их подвела! Не успели кони взять разгон,
как на весь ипподром диктор закричал:
— Булочка засбоила!
И тут Люба чуть не заплакала. Все добрые кони бежали, а Булочка вовсе
сошла с круга, и уже было ни к чему смотреть, кто придет первым. И это был уже
конец бегам.
Таксист Игорь Иванович совсем посинел. Люба ему сказала:
— Мало того, сколько денег потеряли, еще и заболеете, скорее всего. Вы,
конечно, меня извините, я прямой человек. Я что думаю, то и говорю.
Он зло посмотрел на нее коричневыми глазами и промолчал. А что ему
сказать?
Люба сразу хотела уйти, но Антонина Васильевна задержала ее.
Оказывается, им еще следовало получить какой-то выигрыш.
В кассовом зале люди толпились у окошек, весь пол был усыпан
разноцветными билетиками. Буфетчицы полоскали стаканы.
Выигрыш оказался пустяковый. Витя раздал по семидесяти копеек. Дал и
таксисту и еще какому-то чужому человеку. Так ли, не так — ни проверить, ни
понять Люба не могла, только на сердце у нее все больше накипала горькая злоба.
Три тридцать, не считая дороги, пущено псу под хвост! Трудовые, не лишние для
ее ребенка. Это же ужас!
А мужчин вокруг тысячи. Чем посидеть бы в выходной дома, женам по
хозяйству помочь, оставили здесь деньги, утаенные от семьи. И для чего,
спрашивается? Пьяницу и то больше понять можно, тот хоть в себя... А ее просто
завлекли и обдурили.
Но Люба ничего не сказала Антонине Васильевне: все же та постарше и по
годам и по стажу работы.
А короткий день уже синел. Народу на трамвайной остановке собралось
множество. Антонина Васильевна стояла с Витей, и у нее еще что-то было на уме.
Улыбаясь своей щербатой улыбкой, она сказала Любе:
— Есть предложение пойти в чебуречную. Портвейну выпьем.
— Нет уж, спасибо, меня дома ребенок ждет, — только и ответила Люба.
В автобусе ее затолкали. Так стиснули, что и билет взять не смогла. Хоть
пятачок сберегла.
— Мне ведь теперь больше надеяться не на кого, — Люба повторяла это,
рассказывая о том, что сама покрасила в квартире окна и двери, купила Володечке
новую форму, когда быстрее всех в отделе управлялась с работой.
Если заведующая столом заказов Алла Трофимовна просила:
— Вы, девочки, на этот раз поживее. Я обещала, что к трем закончим, —
Люба ее заверяла:
— Я постараюсь. Я вас никогда не подведу. Я должна трудиться. Мне теперь
больше надеяться не на кого.
Женщины в отделе горько поджимали губы и качали головами. Они жалели
разбитую семью. И Алла Трофимовна жалела. Она уходила в свой кабинетик и,
осторожно склонив на руки начесанную башенкой голову, грустила о том, что на
свете нет прочной любви. Но долго мечтать на эту тему ей не давали. У дверей же
толклось несколько человек. Одному хотелось заменить в стандартном наборе лапшу
на макароны, другому срочно требовалось составить заказ для свадебного стола,
третий был с запиской от лучшей подруги Аллы Трофимовны, в которой она просила
устроить ее знакомому воблы и бутылку «Твиши».
А за отдел она могла быть спокойна. Девочки ее никогда не подводили.
Особенно Антонина Васильевна и Люба. Обе служат здесь чуть не с первых дней
открытия стола заказов, и когда они делают свое дело, то просто приятно
смотреть.
Свертки так и летают у них в руках — брусок масла, пакет сахара, банка
сайры — раз, раз, плотно пригоняется одно к другому, бумага точно сама
сгибается как надо, шпагат ложится крест-накрест — и готово!
Директор магазина Владлен Максимович и тот заворожился этой красивой
работой. Минуты две он стоял в дверях и смотрел. Женщины его заметили и разом
притихли. Только та, что находилась спиной к двери, все говорила и говорила:
— Добро бы молоденькая, а то женщина на возрасте, юбка до колен, а села,
и вовсе ляжки заголила. А в автобусе все самостоятельные мужчины и смотрят на
этот кошмар. А себе думаю: ну мода, ну мода...
Владлен Максимович возвышался над женщинами, как большой холодильник.
Халаты ему крахмалили особо — с блеском. Его синие глаза, оглядев комнату, зацепили
что-то стоящее внимания.
— Травма? — коротко спросил он, и все вокруг, проследив его взгляд,
уставились на Любины пальцы, обмотанные белой тесемкой.
— Нет, нет, — радостно заверили директора женщины.
А Люба с беличьей проворностью размотала тесемку и показала плоские
пальцы.
— Ни мозольки, ни порезика... А как же... Надо приспособляться. Шпагат
целый день руки жжет. У других волдыри не сходят... А мне ведь надеяться не на
кого...
Он выслушал, коротко спросил:
— Фамилия? — и двинулся дальше по своим делам, а довольная Люба победно
договаривала свое:
— Мне теперь свое здоровье беречь надо. Умру, мой ребенок никому не
нужен будет.
Ах, если бы открыться директору, Владлену Максимовичу, самостоятельному
мужчине! В Любе жила уверенность, что кто-то могущественный, если захочет,
поправит все в ее жизни. Раньше ей казалось, что это сможет сделать Антонина
Васильевна, но после того воскресенья на бегах Антонина Васильевна потеряла в
ее глазах вес и значительность.
С утра Люба и Антонина Васильевна готовили индивидуальные заказы.
Товары, больше чем на пятьсот рублей, лежали горой на подсобном столе. Антонина
Васильевна подбирала по списку: крупа, конфеты, два батона, мясо, творог...
Люба в зависимости от величины заказа упаковывала его в бумагу или в коробку.
Вот даже по заказу можно определить человека. Другой раз видишь,
настоящая хозяйка составила, а другой раз не поймешь, черт-те что... Два кило
гороху лущеного! На что такую прорву? Жуков только разводить, сердилась
Антонина Васильевна.
— А мы этого знать не можем, и не наше это дело. — У Любы было внутреннее
желание сказать наперекор.
Антонина Васильевна это почувствовала и молча стала воевать с горой
продуктов, подгоняя себя: «А ну я тебя сейчас уничтожу...» Такая у нее была
тайная игра. А когда всё уходили и уходили коробки, картонки, свертки, а потом
оставалось продуктов точно по последнему списку, у нее появлялось чувство
одержанной победы.
Но сегодня на столе лежал лишний брусочек масла. Маленький, всего двести
граммов. Но это было настоящим поражением. Это значило, что в какой-то из
десятков заказов не доложен этот кусочек. Человек, получивший заказ, не доищется
его в своем свертке и станет звонить в магазин, черня всех работников торговли.
Люба, обкручивая шпагатом последнюю коробку, неотрывно смотрела на злосчастный
кусочек. Если бы Антонина Васильевна выписала масло для себя, она сразу
успокоила бы Любу. А так все было ясно. Подсобница Милочка выносила готовые
пакеты в коридор и громоздила их друг на друга. Алла Трофимовна уже составила
список стандартного набора, и можно было начать собирать тушенку с пакетом риса
и маленькой баночкой красной икры — для привлечения покупателей. А тут столько
времени промаешься с проверкой!
Антонина Васильевна собрала все копии заказов, в которых требовалось
двести граммов масла. Их, по счастью, оказалось только десять. Пять в
маленьких. Там ошибиться трудно. А вот большие, рублей в двадцать, где
множество мелочей, и соль, п горчица, и минеральная вода...
— Проверять придется, — сказала Люба бесстрастным голосом. Такая она
всегда тактичная, выдержанная.
Но Антонина Васильевна затосковала и сообразила, как выйти из положения.
Она решила сунуть в каждый большой заказ еще по брусочку масла. Скорее всего,
люди найдут лишний предмет, сообразят, что произошла ошибка, и потом доплатят.
Так что деньги, может быть, даже частично вернутся. А кто не заметит и не
вернет, пес с ним. Все проще, чем ворошить десятки ящиков!
Но у Антонины Васильевны не было денег. Пять пачек масла — три шестьдесят.
А деньги все проиграны на бегах. До получки она могла продержаться на домашних
припасах, есть кое-какая мелочь на метро и автобус. А настоящих денег нет.
Она сошла вниз, где в подсобных помещениях располагались кладовые стола
заказов. В бакалее у Поли всегда можно было прихватить взаймы. Кому другому —
нет, но Антонине Васильевне Поля доверяла до десяти рублей.
— Палочка-выручалочка моя, одолжи пять ре! — Она сказала это с ходу,
весело и только потом заметила, что Поля сидит нахохленная, смотрит в одну
точку и губы у нее дрожат.
— В винном отделе норма боя какая высокая, а у меня вовсе не положена...
— Поля говорила, даже не взглянув в сторону Антонины Васильевны. — Наставят мне
бутылок, а я отвечай. Уходила за лапшой, все целы были. Когда пришла, слышу,
пахнет. И вот они лежат — обе вдребезги. А я отвечай!
В помещении плавал спиртной дух. Антонина Васильевна пыталась что-то
сказать, но Поля утешений не слушала.
— Водка петровская, дорогая... Мне за нее больше двух дней работать.
Хоть какую-нибудь норму боя дали бы!
Она наконец заплакала.
— Хватит тебе, — сказала Антонина Васильевна, — люди умирают, а за это
уж слезы лить, тьфу!
— Проплюешься, пожалуй, — сквозь рыдания огрызнулась Поля, — мне три дня
задаром работать...
Все не ладилось. Антонина Васильевна поднялась к заведующей. Она знала,
что Поля проревет до вечера, а с места не сдвинется.
Алла Трофимовна сперва плотно закрыла двери своего кабинета, чтобы
посторонние не узнали про их внутренние дела, потом рассердилась:
— Норму боя ей, еще чего! У нее за целый месяц тысячи бутылок не бывает.
Поаккуратней надо, вот что. Руки как крюки.
— Плачет, — сказала Антонина Васильевна. — Водка-то петровская.
— А что толку плакать? Москва слезам не верит.
В дверь постучали только для проформы, потому что тут же ее распахнули.
Вошел директор.
— Как хотите, Владлен Максимович, нам нужна норма боя в бакалейном, — пропела
Алла Трофимовна. — Мне уж теперь все равно, но я объективно скажу: нужна!
Она необычно кокетливо улыбнулась и распахнула полы халата, показывая
юбку джерси и коленки, обтянутые кружевными чулками.
А он совершенно ее не слушал и говорил свое, с чем пришел:
— Это выходит, мы получаемся какая-то кузница кадров. То Мурзину из
мясной гастрономии на заведование, теперь вас в министерство. А с кем я
останусь?
— Так ведь я не по своей воле, Владлен Максимович, я как солдат — куда
пошлют.
— Вы-то уйдете, а на ваше место кого назначить? Из своих кадров
приказано выделить... Намечайте, пожалуйста, вы их лучше знаете.
— Ну и ничего страшного, и наметим и выделим. Уж как-нибудь без дела не
сидели, выращивали кадры!
Голос Аллы Трофимовны успокаивал, умиротворял.
— Вот хоть Антонину Васильевну выдвинем. Она на этой работе и Крым и Рим
прошла.
Антонина Васильевна засмеялась и застеснялась.
— Ну что вы... Разве я одна...
— Одна из многих! — строго оборвала ее Алла Трофимовна. — У нас все
кадры проверенные.
— Ну, мы это обсудим, — сказал Владлен Максимович. — Мы еще с людьми
посоветуемся, кой с кем. Должность всячески ответственная.
Антонина Васильевна вышла взволнованная, как девушка, которой назначили
свидание. До чего любила она перемены, переезды, неожиданности, а в ее жизни их
было так мало! С самого рождения жила она на одной улице, в одном доме и до сих
пор все чего-то ждала. Умом понимала, что ждать уже нечего, а в мечтах и
воображении еще хорошо помнила, как миндально пахнут белые граммофончики сорной
городской повилики, как саднят разбитые в счастливом беге коленки, как сладостным
предвкушением дня звучит на заре шарканье дворничьей метлы.
Новая должность была счастливой переменой, расширением границ жизни, неизведанным
краем.
А Люба ворочала ящик за ящиком, развязывала, а то и резала неподатливый
бумажный шпагат, перебирала свертки, снова собирала и снова, сжав губы,
раздирала тугие узлы. Брусочек масла измялся, потерял свои геометрические формы
и никак не находил пристанища.
Этот кусочек задерживал отправку всей партии. Шофер, развозчик заказов,
«загорал», притулившись к дверному косяку, а Люба страдала за чужую вину
жертвенно, безропотно.
Антонина Васильевна пришла в ту секунду, когда заказ нашелся, и не большой,
а как раз маленький, в котором и всего-то было пять предметов.
— Как с полем управилась, — облегченно вздохнула Люба.
Антонина Васильевна наскребла копеечки, сбегала в отдел мясной
гастрономии и взяла сто граммов карбонаду. Она знала, что Люба никогда не ходит
в столовую. Милочка принесла большой чайник кипятку, и женщины сели обедать.
Любу трудно было угостить.
— У меня свое есть. Куда же мне его девать?
Но она все же взяла тоненький кусок мяса и положила его на свой,
принесенный из дома ломтик хлеба.
— Ну, сюда хлеб носить, как дрова в лес возить, — засмеялась одна из
женщин. Люба сжала рот.
— Каждый по-своему живет. Я чужую копейку не возьму, а свою берегу. Там
пятачок, там гривенник, а у меня ребенок растет.
Еще не кончили обедать, как снизу пришла Поля, грузная, с заплаканным,
опухшим лицом. Пришла и встала у стола. Женщины потеснились, налили ей большую
кружку кипятку, щедро насыпали туда сухого чаю и сахарного песку. Поля чай
выпила молча, так же молча поднялась, чтобы уйти, и только в последнюю минуту
вспомнила, зачем приходила, разжала короткие пальцы и выложила из кулака перед
Антониной Васильевной скрученную в трубочку пятерку.
— Просила ты...
— Ой, Поля, а мне до получки не займешь? — заверещала Милочка.
Поля и глазом не повела.
— А тебе нет.
Милочка ничуть не обиделась.
— Конечно, Антонине Васильевне теперь каждый займет. Когда она в
начальство выходит.
Милочка все новости узнавала первой. Была она маленькая, незаметная и по
работе вхожа во все отделы и кабинеты.
Полностью Милочкиным новостям не верили. Она любила поражать сведениями
и часто сообщала непроверенные сенсации.
— Девочки, дожили! Хлеб и сахар бесплатно будет!
А всего-то услышала, как Владлен Максимович сказал кому-то по телефону:
— Вот станем при коммунизме хлеб и сахар бесплатно отпускать, тогда у меня
работники освободятся.
Поэтому Милочкино сообщение сперва пропустили мимо ушей. Только потом,
неведомо как, оно подтвердилось, и скоро все знали, что Антонина Васильевна
идет «на повышение».
Во второй половине дня в отдел, как всегда с разбегу, ворвался Владлен
Максимович, и за ним пришла неторопливая, но всегда всюду поспевающая Алла
Трофимовна.
— Прошу внимания! — воззвал директор. Но все уже и так бросили работу.
Только одна Люба, очень стараясь не шуршать бумагой, продолжала паковать гречку
с рыбными консервами. — Мы к вам обращаемся за советом, — продолжал Владлен
Максимович, опершись руками на оцинкованный стол. — Конечно, у нас есть и свое
мнение по данному вопросу, — он оглянулся на Аллу Трофимовну, и она покивала
головой, — но мы не боги саваофы, можем ошибиться, и нам ценно мнение
общественности.
Женщины завздыхали.
— Наша уважаемая Алла Трофимовна покидает свой пост в связи с переходом
на другую работу, а именно в Министерство торговли.
Владлен Максимович сделал передышку, чтобы женщины выразили свое
отношение к этому факту. Но долго проявлять чувства не дал. Сожалительные
возгласы и поздравления прекратил поднятой рукой и громким голосом:
— Заменить Аллу Трофимовну на ее посту мы должны человеком, выдвинутым из
наших рядов. В этом выражается доверие к нашему коллективу, и мы обязаны его
оправдать. Поэтому кандидатуру надо подбирать, руководствуясь деловыми и
моральными качествами. Принимая во внимание опыт и стаж работы.
Перенимая у него эстафету, выдвинулась вперед Алла Трофимовна:
— Имеются у нас кандидатуры — всем известная Антонина Васильевна и Люба
Онина. Обе работают по десять лет, обе грамотные, знающие дело. Антонина
Васильевна постарше, и общий стаж у нее выше. Теперь желательно, чтобы
высказались товарищи по работе.
— Рассчитываем получить ваше добро! — добавил Владлен Максимович.
— Чего уж, ладно, мы согласны, — заговорили женщины, поглядывая на
Антонину Васильевну, отчего она смутилась, невольно улыбнулась и закрыла рукой
рот.
Но Алла Трофимовна постучала карандашиком по столу, призывая к порядку.
И все, привыкшие к этому порядку, приготовились ждать.
Выступила молодая работница Ниночка н рассказала, какая Антонина
Васильевна чуткая и как она помогает начинающим.
Ее никто уже не слушал, потому что главный вопрос был решен. И когда
Люба вдруг сказала: «И я хочу, разрешите мне», — все стали кричать: «Хватит,
довольно, вопрос ясный». И сам Владлен Максимович уже отшатнулся от стола. Но
Люба сказала твердо:
— Нет уж. Я должна, как человек принципиальный.
Тогда женщины замолчали, а Люба оглядела всех и втянула в себя воздух.
— А, это которая пальцы перевязывает, — одобрительно кивнул директор.
— Онина это, — пояснила Алла Трофимовна.
— Онина, — подтвердила Люба. — Я, знаете, привыкла в нашей жизни правду
говорить. Может быть, вы не так подумаете, что я за себя стараюсь, так меня
можете не назначать. Но я за правду стою. Хотя мы с Антониной Васильевной
столько лет вместе работаем и я ее уважала, как мать, но я решилась... — Люба
поджала губы и развела руками, — решилась, ничего не поделаешь!
— Говори, Онина, для этого мы и собрались, — позволила Алла Трофимовна и
оценивающе посмотрела на Любу.
«Поспешили мы, пожалуй, — подумала она, — Онину бы на мое место. Моложе,
представительней, приоденется еще. Кабинет заведующей — витрина отдела».
— Вот тут сказали, что человек должен быть строго моральный. А вы, —
Люба повернулась к Антонине Васильевне, — простите меня, конечно, какой пример
можете показать нашему молодому поколению, когда каждый выходной играете в
азартные игры? Азартный человек над собой не волен, это уже известно. Его на
все можно толкнуть.
Женщины слушали молча. Они знали, что Антонина Васильевна играет на
бегах, посмеивались над ее увлечением и, не веря, захваченно слушали ее
рассказы о мифических выигрышах.
— Все мы одинаковые, бабы, немного чокнутые. Я на кошках, Тося на
лошадках, — подытоживала Милочка.
Но сейчас в страстности Любиных слов была убеждающая сила, и женщины,
сами того не замечая, кивали головами.
— Деньги свои трудовые она проигрывает, а потом занимает у людей. А
когда человек занимает, у него авторитет уже не тот.
Неизвестно, как идет от человека к человеку ток одобрения или осуждения.
Люба чувствовала, что попала в колею благоприятную. Ни словом, ни движением
Алла Трофимовна не поощряла ее, но Люба успокоилась и излагала свои
соображения, уже не волнуясь, но так же убежденно.
— Вот, по-моему, конечно, женщине, торговому работнику, не подобает в
забегаловке у стойки вино пить. Не права я? — Она оглянулась, как бы ища поддержки.
— Или в шашлычной сидеть. Ну хотя бы знать, с кем. Я про Антонину Васильевну
ничего плохого не думаю, и на возрасте она, но если с чужим мужем пойти, кому
это приятно? Жене его будет приятно? Ведь из-за этого могут аморальную тень на
нас всех бросить. Вот это все мещанство надо Антонине Васильевне изжить. И я
посчитала своим долгом сказать, потому что современный человек должен быть на
высоте. Особенно на руководящем посту.
Она замолчала. В секундной тишине из задних рядов раздался басовитый
Полин голос:
— У тебя, что ль, занимала? Не у тебя, ну и помалкивай.
Алла Трофимовна постучала карандашиком. Ей было свойственно находить
выход из сложных положений. А тут, пожалуй, все складывалось к лучшему.
— Вот мы и выслушали суровую, но дружескую критику одной из кандидатур, —
сказала она.
Владлен Максимович посмотрел на нее несколько удивленно, но промолчал.
— А теперь дадим слово самой Антонине Васильевне.
А Антонина Васильевна все еще, как на грех, улыбалась. Ей было трудно,
невозможно изменить выражение лица. С этой улыбкой она стояла перед товарищами,
понимая, что надо оправдываться, уже не для того, чтобы занять высокий пост, а
хоть уберечь себя от их скверного мнения. Но все, что говорила Люба, было
правдой, и Антонина Васильевна не могла собрать слова.
— Ну, что я не так сказала? — в тишине надсадно крикнула Люба.
— Все ты врешь! — опять издалека прогудела Поля.
И Антонина Васильевна вдруг поняла, что она не опровергнет ни одного
Любиного слова.
— Значит, с критикой согласны? — спросила Алла Трофимовна.
И Антонина Васильевна ответила даже весело:
— Согласна... Только что же бега? На них многие ходят... Интересно...
— А по-моему, в Большой театр интереснее, — сказала Алла Трофимовна. —
Конечно, это мое личное мнение и в порядке шутки, — добавила она. — Ну что ж,
может быть, обсудим теперь вторую кандидатуру?
— А чего ее обсуждать, — сказала Поля, — она денег не занимает, по
театрам не ходит...
— Я мать своего ребенка! — выкрикнула Люба.
— И, кроме нее, в целом свете ни у кого детей нет...
По столу застучал карандашик.
— Полина Ивановна, вы просите слова?
— Ничего я не прошу. Я свое сказала.
И никто больше не хотел ничего говорить. Все проголосовали за Любу, за
Любовь Петровну Онину, за которой ничего худого не водилось, которую подлец муж
бросил, которая ребенка одна воспитывает.
Антонина Васильевна в этот день работать больше не могла. Как-то руки у
нее опустились и настроение пропало. Не то чтобы очень она уж стремилась к
руководящей должности, но что-то поманило, блеснуло интересное и исчезло. А
женщины вокруг понимали ее состояние, им было неловко, они даже разговаривали с
ней шепотом.
— Нам бы тебя желательней, да видишь, вот как...
И она, смущаясь, отвечала:
— Ну, почему же, все правильно...
И, чтоб не видеть сочувственных взглядов, пошла в «гастроном» из отдела
в отдел, без всякой цели, посмотреть на людей. А был час «пик», когда все
спешат с работы и забегают в магазин купить чего-нибудь вкусного к чаю, или
мяса на завтрашний обед, или бутылочку. В кассах и у отделов стояли большие
очереди, все люстры горели, и желтые ливанские яблоки высились пирамидами.
«К Зинке, что ли, съездить? — подумала Антонина Васильевна. — Яблочек
Коле взять бы».
Она потужила, что нет денег, безнадежно сунула руку и карман халата и
обнаружила давешнюю Полину пятерку.
И тут стало радостно, что за яблоками ей не надо стоять в очереди, что в
воскресенье она опять пойдет на бега, и пусть у нее такой характер, что не
может она жить без удовольствий. На кой шут ей эта должность, где надо себя
корежить!
Она пошла вниз, отобрала кило самых лучших яблок, взяла двести граммов
«мишек» и мармеладу для Зинки.
Поля стояла в дверях своего отдела. Антонине Васильевне не хотелось,
чтоб Поля ее пожалела. Она первая сказала:
— Ну что, успокоилась?
— Скинулись, — удовлетворенно кивнула Поля, — на троих. Алка, Максимыч да
я. Все не одной отдуваться.
Так и день прошел. И все уже было ничего, все понемногу забывалось,
только когда надевали шубы и сапожки, Любовь Петровна сказала громко:
— Вы на меня не сердитесь, Антонина Васильевна. Я ведь по-простому, от
души. Я искренний человек.
А она не сердилась. Не хотелось только еще что-то выслушивать и на
что-то отвечать.
На улице Антонину Васильевну охватило вечерним морозом, перед глазами
поплыли красные и зеленые огни машин, заскрипел под ногами снег, и она больше
совсем не тужила о прошедшем дне, где все сделалось как надо. Она радовалась,
что увидит Кольку, маленького, с гибкими птичьими ребрышками и серыми
отцовскими глазами.
И еще по привычке мысленно корила своего покойного мужа за то, что
бросил он ее ради нескладной, неумелой Зинки, которая и ребенка не может
вырастить, если ей не помочь.
А снег падал крупными хлопьями, и пахло, как в молодые дни, свежими огурцами и бензином.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





