ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
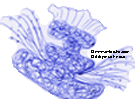

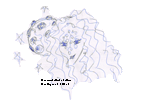
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Поликарпова Татьяна

Общество
собралось чисто случайно, пестрое и
неожиданно интересное. Собственно,
потому и интересное, что пестрое и
случайное. За столиком гостиничного
ресторана крупного сибирского города
встретились ученый физик из Ленинграда,
нейрохирург, заведующий отделением
госпиталя из Армении, журналистка из
областной газеты соседнего края, горный
инженер со своей спутницей из
шахтоуправления и главный бухгалтер
солидного промышленного объединения.
Впрочем, узнали это они друг о друге
позднее и благодаря тому, что у бухгалтера
очень болела голова. До ее появления
все сидели молча, изредка и отчужденно
посматривая друг на друга. Только пара
из Горной Шории изредка переговаривалась,
наблюдая входящих и выходящих из
ресторана. По всему было видно, что им
хотелось бы сидеть за отдельным столиком
на двоих, но ресторан в этот вечерний
час был переполнен. В воздухе настоялся
чадный запах далеко не изысканной кухни
и табачного дыма.
У пятерых за столиком
уж приняли заказ, уже перед физиком
стоял графинчик с некоторым количеством
водки, а перед парой из Шории темнела
бутылка « Бычьей крови», видимо,
привезенная с собой: в этом ресторане
таких заморских вин не водилось,— когда
метрдотель подвел к их столику высокую
женщину в красном платье и с очень
бледным лицом. Черные прямые брови, чуть
сведенные к переносице, и светло-серые
глаза, окруженные коричневатыми тенями,
казалось, усиливали, подчеркивали
болезненную бледность ее узкого,
продолговатого овала лица. Лицо было б
красивым, если б не ротик унылой скобкой
— углами вниз. Не мешало б и глаза
расставить чуть пошире. Да чего
придираться: лицо было неординарным
именно из-за этих, чуть сближенных глаз
со страстно запавшими веками. Над
истомленным лицом как бы сами по себе
жили волосы: даже на взгляд молодо-упругие,
пышные. Широкая проседь надо лбом только
украшала их.
Примерно так увидели ее
сидящие за столиком, во всяком случае
физик, внимательно на нее посмотревший,
пока метр говорил ей учтиво:
— Здесь
будет вам удобно, люди серьезные. Да им
тоже будет приятно, а то у них дам не
хватает,— пошутил он.— А с вами как
раз...
— А, мне все равно, одинаково
везде накурено... Только бы чаю покрепче...
И поскорей,— проговорила она и опустилась
на стул, ни на кого не глянув...
Подперла
лоб рукой, затихла, как бы прислушиваясь
к себе. Было, кажется, видно, как болит
у нее голова.
Некоторое время все
молчали, присматриваясь к ней и словно
ожидая какого-то знака, чтобы заговорить
с ней, может быть, помочь.
До ее прихода
трое за столиком были погружены в себя,
еще более отчуждаемые близостью пары.
Казалось неудобным начинать беседу,
словно тем самым они могли помешать
этим двоим.
Парочка не вызывала
симпатии. Особенно женщина. Особенно в
журналистке. Очень хорошо знала она
таких вот провинциальных конторских
жеманниц: маленькая, пухленькая, с
хорошенькой хищненькой кошачьей
физиономией и крутым бюстом, обтянутым
модным трикотажным батником в цветочек.
Это вот такие, неприязненно думала
журналистка, ни за что не примут у вас
документов за десять минут до обеденного
перерыва, не пришлепнут печати, не
выдадут справки, предпочитая все эти
десять минут кричать нам, что они тоже
люди, что у них тоже обед... И так далее.
Но здесь за столом, при своем видном,
чубатом, казацкого вида спутнике — даже
тонкий черный свитер под светло-бежевым
пиджаком напоминал на нем косоворотку
— она была мягка и нежна. Лишь изредка
являлась на ее лице привычная
высокомерно-тупая гримаска, с которой
обычно обращалась она к человечеству,
нуждающемуся в справках и печатях.
Это
случалось, когда взгляд ее встречался
со взглядом журналистки, более похожей
на усталую учительницу неопределенного
возраста: то ли тридцать, то ли сорок
лет. Суховатое, строгое, скучное лицо.
«Тьфу! — наверное, думала кошечка.—
Вот грымза...» Зато на мужчин за столом
батник в цветочек поглядывал снисходительно
и даже с одобрением: видно было, что это
солидные интеллигентные люди, и одеты
по-столичному, элегантно. Никаких
свитеров. Один, тот, что оказался потом
физиком, был в светло-сером костюме с
голубоватой рубашкой и узким темно-синим
галстуком. Все подобрано явно под цвет
холодных голубых глаз и густой седины
над просторным лбом. Узкие губы, строгий
прямой нос.
Второму очень шла белоснежная
рубашка с темно-синим, почти черным,
костюмом и каким-то явно не нашим
галстуком: по черному кляксы цвета
бордо. Этот второй был смугл, полноват,
имел крупный мясистый вислый нос, темные
большие глаза, а взгляд — будто теплый.
Видно, южанин.
Женщины выглядели менее
нарядно в своих будничных дневных
блузках, пусть хоть и в цветочек, как на
кошечке, или в коричневую полоску, как
на журналистке.
Так они сидели,
отчужденно поглядывая друг на друга,
пока не появилась эта женщина в красном.
Мгновенно все они оказались как бы
вместе, а она — совершенно одна. Молчание
продолжалось, но стало выжидательным,
даже нетерпеливым. Оно таяло на глазах.
И когда перед вновь прибывшей поставили
чай и она слегка дрожащими пальцами
обхватила стакан с мутновато-коричневым
содержимым, журналистка сказала:
—
Если у вас болит голова, этим чаем не
спасешься. Анальгин помогает? — И взялась
за свою сумку.
— Ой, ничего мне не
помогает,— прошептала женщина.— Чай
так, для отвлечения...
— Ну, не правда,
что ничего, такого быть не может,—
властно вступил голубоглазый и, налив
в рюмку водки, поставил перед ней.—
Плюньте на эту бурду под названием чай.
Рюмка водки и веселый разговор — вот и
все, что вам требуется.
Та даже
усмехнулась, мучительно сведя брови,
словно удерживая этим движением боль,
потревоженную улыбкой.
— Да, только
водки мне сейчас не хватает...
—
Дайте-ка мне вашу руку,— мягко заговорил
южанин.
Но она строго подняла брови
и убрала руку под стол.
— Я доктор, не
опасайтесь, послушаю ваш пульс... Чтоб
не ошибиться с водкой... Ну? — И ласковая
тайна всплыла в улыбнувшихся глазах.
Женщина недоверчиво протянула ему
через стол руку. А кошечка-конторщица
прищурила глаза: «Мол, знаем мы эти
пульсы!»
Секунд шестнадцать южанин
сжимал бледную руку женщины своими
пухловатыми смуглыми пальцами с розовыми,
прямо подрезанными ногтями и все смотрели
на эти руки как на фокус — и потом кивнул
голубоглазому:
— Вы правы. Рюмка водки
сейчас лучше всякого анальгина.
—
Нет-нет! — воскликнула женщина.— Я
только что из медпункта.
— Не станут
же вам в медпункте рекомендовать водку,—
улыбнулся голубоглазый.
— Э, если
лечиться, так уж всем! — воскликнул
«казак», оценив обстановку, и забулькал
«бычью кровь» по бокалам. Наполненные,
они украсили стол: засветились рубиновые
огни в их прозрачно-багряной глубине,
розоватыми бликами легли на белую
скатерть, соединив всех сидящих за
столом, как соединяет путников костер.
Женщина в красном платье как-то
беспомощно-растерянно взглянула на
южанина, уже и впрямь как на своего
доктора.
— Нет,— сказал он,— это
красивое вино вам не надо. Вам — водку.
Одну рюмку.
— Ой, не могу! Доктора! —
захохотала вдруг кошечка.— Они вылечат!
Голубоглазый усмехнулся ей, «казак»
сверкнул глазами на свою спутницу и
даже зубами скрипнул, а южанин достал
из портмоне плотную белую карточку и
вручил женщине в красном.
—
Действительно,— вежливо поклонился он
кошечке,— доверие — прежде всего.
Женщина посмотрела в карточку и лицо
ее вдруг озарилось благодарностью,
смущением, радостью, словно она прочла
в визитке, что ей давал советы сам господь
Бог.
— Спасибо,— поклонилась она
через стол,— спасибо, Арам...— запнувшись,
она глянула в визитку, как в шпаргалку,—
Вар... петович! Большое спасибо! — И,
повернувшись к журналистке, объяснила
простодушно: — Он, оказывается,
нейрохирург! Профессор! Арам Варпетович!
— твердо и без запинки выговорила
теперь.— А меня,— обратилась она к
нему,— зовут Зоя Михайловна. Я работаю
главным бухгалтером производственного
объединения,— и она назвала какое-то
очень сложное объединение,— но у нас,
к сожалению, нет визиток. Так вот, не
додумались. А как удобно... А я, Арам
Варпетович, первый раз встречаю такого
доктора, как вы.
— Пусть и дальше так
будет,— сказал серьезно Арам Варпетович
и поднял бокал.— Пусть встречи с людьми
моей профессии будут только такими:
случайными... за накрытым к беседе
столом...
И все выпили.
— Как хорошо
вы сказали: за накрытым к беседе столом!
— сказала журналистка, блеснув влажно
небольшими карими глазами.
Она внезапно
похорошела: разгладился, посветлел лоб,
все лицо словно бы протерли, в нем, только
что тусклом, ожили краски: волосы,
казавшиеся серыми, стали белокурыми.
Из блеклой женщины неопределенных лет
возникла блондинка с карими глазами,
не старше тридцати.
— Кто сказал, что
пить вредно,— заметил физик,— тот враг
рода человеческого, прежде всего —
женщин. Они хорошеют от вина.— И галантно
склонил голову: — Предлагаю тост за
женщин.
— Юноша! Скромно пируй и шумную
Вакхову влагу с трезвой струею воды, с
мудрой беседой мешай,— произнесла
нараспев журналистка.
— Какой красивый
ритм,— заметил доктор и вопросительно
посмотрел на нее. Она поняла:
— Это
Пушкин... Наверное, из Анакреонтических
песен... Подражание древним...
— С водой
пусть мешают наши враги! — воскликнул
горный инженер и взялся за графинчик
физика, кивнув ему: — Я сейчас закажу.
Физик даже не успел ответить ему,
только глянул пристально. А Зоя Михайловна
снова свела свои черные брови, углы рта
опустились обиженно, во взгляде читались
и испуг, и неприязнь. Инженер поднял на
нее глаза и, ничуть не смутившись ее
взглядом, весело спросил:
— Ну как,
полегчало? Порядок! Сейчас танцевать
будем!
И подмигнул ей, поднося бокал
к губам.
— Греки были и в этом мудры,—
заметил Арам Варпетович,— сухое чистое
вино, смешанное с водой, приносило лишь
здоровье.
— Ха-ха-ха! Сухое да еще с
водой! Бр-р-р! — передернул плечами
инженер.— А?! Ты только представь себе!
— обернулся он к своей спутнице.
И та
послушно, хоть и негромко рассмеялась.
— Отчего же? Дело вкуса,— возразил
физик, поглядывая на Зою Михайловну.—
Он явно предлагал ей себя в союзники.—
Греки были людьми здоровыми, чистыми,
их и малая доза хмеля приятно возбуждала
и... открывала глаза на привлекательность
женщин — он, что называется, одарил Зою
Михайловну признательным взглядом.—
А хмельное безумство они не уважали.
—
По работе и траты! — Инженер чуть подался
вперед, навис прямыми широкими плечами
над столом. Красивые глаза недобро
сверкнули.— Мы — проходчики. Из Горной
Шории. И не дай никому бог, что нам
выпадает... Во так вот,— и он резанул
себя ребром ладони по горлу.— Во так в
воде! Ключевой. Подземной. И — всякое
там... Сегодня жив... А завтра... Она знает,—
кивнул он на спутницу. И вдруг успокоился.—
Каждому свое, не судите.— Он поднял
бокал с розовой от «бычьей крови» водкой:
— За профессию! — И, не дожидаясь других,
выпил.
— Брось-ка ты, Пал Иваныч! —
засмеялась его спутница.— Давно уж
забои-то свои на чертежах проходишь!
Когда-когда спустишься в шахту. Он давно
инженером,— обратилась она к обществу.
Видимо, ей хотелось возвысить его в
глазах сотрапезников, а вино усыпило
бдительность.
Павел Иванович, с треском
двинув стулом по плиточному полу,
откинулся назад, как бы для того, чтобы
лучше приглядеться к подруге, и смерил
ее взглядом сверху вниз, снизу вверх...
— Вот думаю,— медленно заговорил
он,— зачем я тебя взял с собой? А? Ты не
знаешь?
— Зоя Михайловна,— заговорил
нейрохирург, стараясь отвлечь внимание
от надвигающейся сцены,— а ведь здесь
только нас с вами знают, да вот сейчас
Павла Ивановича назвали, а остальные
пока инкогнито...
— Леонид Илларионович,—
с готовностью привстал голубоглазый.—
Доктор наук. Физик. Работаю в ЛГУ.
—
Инна Петровна, журналист. Газета «Звезда
Приморья».
Но инженер, казалось, ничего
не слышал, продолжал уничтожать и
взглядом и словами свою подругу:
—
А! Вспомнил! У меня сигареты кончились.
Ну-ка, в буфет! Купи! — Кошечка-конторщица,
побледнев сильней Зои Михайловны,
замерла, застыла, как в детской игре
«замри». А потом рывком поднялась и
пошла, деревянно выпрямившись, к буфетной
стойке, а Павел Иванович, кликнув
проходящего мимо официанта, заказал
бутылку водки.— Не люблю быть в долгу,—
кивнул он на пустой графин физика.
—
Простите, Павел Иванович,—болезненно
морщась, но предельно учтиво сказал
Арам Варпетович,— мы не знаем ваших
отношений с вашей спутницей, и нам не
надо их знать. Понимаете? Давайте будем
уважать друг друга...
То ли шахтер и в
самом деле не понял, то ли ломался, не
желая никому уступать. Он захохотал:
—
Доктор! Выпили еще мало, чтобы уважать-то!
Вот еще бутылку, я и спрошу тебя: «Ты
меня уважаешь?» Так у нас говорят!
В
это время вернулась посланная за
сигаретами и бросила перед своим
повелителем пачку.
— То-то же,—
удовлетворенно бормотнул он и взял
пачку. А она мгновенным и ловким движением,
в самом деле, как кошка лапой,— раз! раз!
— отвесила ему звонко и сильно по одной
и другой щеке. Даже голова его резко
дернулась из стороны в сторону.
Мужчины
за столом вскочили, женщины отшатнулись
на своих стульях. К ним оборачивались
за соседними столиками. Но Павел Иванович
только сунул руки в карманы брюк.
—
Так, да? — проговорил он не разжимая
зубов, жутковато ощерившись.— Н-ну,
пойдем...— Но не двигался, а все смотрел
в лицо своей кошечки неподвижными
расширившимися глазами. Больше он,
наверное, ничего не видел. Только это
лицо, побледневшее, осунувшееся,
напряженное. Исчезла мордочка
провинциальной киски, заносчивой и
мелко-вредной. Явилось лицо оскорбленной
и гневной женщины.— Н-ну, пойдем,—
повторил инженер. И они пошли, обойдя
стол каждый со своей стороны, но сойдясь
на ковровой дорожке, ведущей к выходу,
пошли рядом, дружно. Однако с полдороги
инженер вернулся и молча положил на
стол четвертную бумажку. Ни на кого не
глянув, ушел, широко шагая.
За столом
какое-то время ошеломленно молчали, не
решаясь даже взглянуть друг на друга.
Было стыдно.
— Товарищи, товарищи,—
заговорила первой журналистка, картавя,
от волнения,— надо пойти к ним... Он же
убьет ее... Он может. Что там у них теперь...
Но никто не шевельнулся, и она решительно
вскочила, грохнув стулом.
— Э-э,
сидите-ка,— взял ее за руку физик.— Там
сейчас ничего не происходит... Ничего,
кроме яростной и прекрасной любви...
Насколько я разбираюсь в ситуации... И
в людях... Девочка сильней этого
неврастеника. И, видимо, любит. Не
волнуйтесь же. Давайте наконец ужинать.
— Но он такой злой...— Инна Петровна
передернула ознобно плечами.— Как он
мог при людях... И так отвратительно...
Как можно такого любить...
— Э, голубушка.
Таких и любят. Разудалых дебоширов.
Слабые женщины.— Леонид Илларионович
уже принялся за жаркое и говорил
отрывисто, с ощутимыми толчками. Это
придавало его словам особый вес.
—
То она у вас сильная! То она у вас слабая!
— нервно воскликнула Инна Петровна.
—
Ну-ну-ну! Вы же учили марксизм. Уж Марксову
исповедь наверняка читали: в слабости-то
и сила...— Физик, усмехаясь, поглядывал
на Инну.— А к тому же наш герой — какой
красавец! Григорий Мелехов, да и только!
И красавец, и ломака. Самое то, как говорят
мои студенты.
— Ой, да при чем тут
красота,— досадливо отмахнулась от
него журналистка.
Махнула ладошкой
перед своим лицом, будто муху или комара
отгоняла в его сторону.
— Да, полно,
Инна Петровна! Вы лучше меня знаете, при
чем. Вот и Зоя Михайловна подтвердит.
Правда же, Зоя Михайловна?
А Зоя-то
Михайловна... Сидит бледнешенька, брови
сведены, глаза вниз, губы сжаты до
голубизны. Правой рукой стискивает
пустую рюмку, а левой правую обхватила
у запястья, словно боится, что разожмется
рука и выпустит рюмку.
— Говорите,
говорите,— промолвила она странно
изменившимся голосом,— слабым, севшим,
чуть хриплым.— Мне интересно... Слушать
вас интересно.
— Нет, вы сама что
думаете?
— Не могу я ничего думать...
Я слушаю...
— Ка-а-ак же это не ду-у-мать!
— растягивая слова добродушно, барственно
воскликнул физик. — Вот Арам Варпетович
как специалист по высшей нервной
деятельности скажет...
Но Арам
Варпетович, встретив взгляд физика,
выразительно двинул своими большими
бровями: мол, оставьте ее в покое. Физик
понял. Прикрыл глаза в знак согласия и,
только чуть запнувшись, продолжил: —
скажет, что наша дама очень правильно
поступила! Как большой психолог! Истерику
прекращают именно пощечиной. Это даже
художественная литература не однажды
фиксировала. Так, доктор?
— Бывает,—
коротко отозвался доктор.— Но тут не
истерика была. Элементарное хамство.
Потому пощечина пришлась в самый раз.
Это против хамства лучшее лекарство.
Как ладан — черту. Так у вас говорят.
—
Ха-ха-ха! Суть вы верно схватили. Только
говорят: боится, как черт ладана.
—
Ах, так,— серьезно кивнул Арам Варпетович.—
Буду знать. Спасибо.
— А все-таки, хоть
и неприлично, а прекрасно...— журналистка
мечтательно вздохнула, оперлась на
руку.— Она будто за всех нас отомстила.
Ведь и нас он унизил. А мы все зажаты,
заморочены. Все можем понять, все
простить. Анализируем. Вовремя отступим,
уступим, поймем. Привычно, холодно,
бескровно! А! Лимфа одна. У нас и оскорбляют
так, что не поймешь, то ли комплимент,
то ли оскорбление... Потому и жизнь такая
вялая. И к любви-то не способны ни дамы,
ни господа. Разводы, измены... Все трещит
по швам, а ни любви, ни ненависти... А тут
вихрь! Горячность. Поступок, черт возьми!
— Инна Петровна даже пристукнула
легонько по столу, обвела всех взглядом.—
Ведь так?
— Да-а,— протянул Леонид
Илларионович.— Когда они пошли, я
позавидовал этим горным шорцам... Какая
у них там, в номере, сейчас буря! Любовь
— месть, любовь — насилие, любовь —
борьба! В самом древнем, исконном,
природном виде! Какое изнурящее, полное
опустошение потом... А очнутся чистыми,
безгрешными друг перед другом, как
новорожденные. И оба сильные, молодые!
Э-эх!
— Ого! Как вы меня продолжили! —
внимательно посмотрела на него
журналистка.
— Глядя на вас, я бы не
подумал, какого рода жажду вы испытываете,—
улыбнулся ему Арам Варпетович.
—
Люблю любовь,— пожал плечами физик
как-то подчеркнуто буднично, словно
любовь — это что-то вроде салата, за
который он принялся. И все, кроме Зои
Михайловны, засмеялись. А она оставалась
пугающе неподвижной, застывшей. Она и
не ела ничего, и даже не сделала заказа.
— Попрошу вас,— обратился доктор к
официанту, подошедшему собрать тарелки,—
принесите порцию мясного бульона, а
лучше супа с картофелем. Если есть. И —
поскорее, пожалуйста.
— Не знаю,—лениво
протянул официант.—Вечером первых блюд
не готовят у нас. Что осталось. Да и то
уж холодное. Греть надо. Долго будет.
—
А я вас прошу,— улыбнулся доктор очень
ласково и прижал руку к сердцу. Но можно
было подумать, что и к бумажнику, лежавшему
во внутреннем кармане пиджака.— Сделайте
все сами. Налейте в миску один половник
и — на плиту. Очень скоро получится.
Официант вдруг с готовностью отозвался:
— Я сейчас! — И бодро зашагал на кухню.
А доктор обратился к Зое Михайловне:
— Я для вас заказал. Вам непременно
нужно сейчас съесть горячего бульона.
Вообще — горячее что-то и питательное.
И — жидкое.— Она было вскинула руку,
протестуя, но он повторил с нажимом: —
Непременно. Только после этого пойдете
к себе и перед сном примете это.— И он
пододвинул к ней пачку седуксена.— Там
одна таблетка.
Зоя Михайловна хотела
что-то сказать, но доктор не дал ей
говорить, начав подробно объяснять,
почему при такой, как у нее, головной
боли,— он сказал, спазматической,—
очень помогает горячий мясной картофельный
суп. И пространно объяснил механизм
боли. Говорил негромко, мягко, даже чуть
распевно, посматривая время от времени
то на Зою, то на Инну Петровну своими
мягкими, излучающими тепло глазами, и
невольно все за столом поддались
успокоительному, мерному ритму его
речи. Отпускала, рассеивалась судорожность,
воспаленность возбуждения, видимо
охватившая всех во время недавней сцены.
— А вот и наш супчик! — воскликнул
доктор и даже привстал навстречу
официанту...— И мы сейчас его с удовольствием
скушаем... Вах, дымится... Это вам не
холодный чай. Спасибо, добрый человек,—
сказал он с чувством официанту, и тот
вдруг ответил совсем не уставным голосом,
а сердечно и просто, как говаривала,
наверное, его бабушка своим гостям в
далекой сибирской деревне:
— Кушайте
на здоровьечко!
— Да вы, как солнышко,
Арам Варпетович,— промолвила журналистка,
и слезы собрались капнуть из ее глаз.
— Хватит, хватит чувств! — засмеялся
доктор.— Не нужно резких движений! Все
обычно и просто, как суп с картошкой. Мы
устали. Мы чуть выпили. Тут эта сцена...
Вот и все! Теперь нужно, чтобы все и всё
съели. Ну-ка, Инна Петровна, что это у
вас на тарелке...
Вдруг вернулся
официант с большим расписным фаянсовым
чайником, прикрытым чистейшей салфеткой,
и такими же расписными чашками. В чайнике
оказался прекрасный, крепкий и ароматный
чай.
— Это мы себе к концу смены
завариваем,— объяснил он онемевшим от
неожиданного дара гостям,— до конца
еще время есть. Успеется и новый чайник.
Кушайте на здоровье!
— Ну, нет слов!
— развел руками физик.— Наша наука
пасует перед вашей...— И, склонив голову
перед доктором, сложил ладони в
благодарственном жесте...
А доктор
нахмурился:
— Ну, если это становится
наукой, плохи наши дела.
— Ой, все-таки
вы хоть немножко, но владеете гипнозом!
— воскликнула журналистка и заблестела
глазами.
Тут уж доктор рассмеялся
негромко.
— Да-а,— покачал он головой,—
если считать гипнозом немножко дружелюбия
к нашим забываемым участникам ужина,—
и он показал глазами в сторону официанта.
Видно, его все же растрогала
признательность сотрапезников, так что
он даже допустил ошибку в своем правильном
русском языке. Но и ошибка оказалась
кстати.
И тут заговорила Зоя Михайловна:
— Арам Варпетович, скажите...— она
запнулась, глядя на доктора умоляющими
глазами,— только очень, очень честно...
Мне это важно...
Доктор серьезно кивнул
ей:
— Слушаю вас...
— Вот,— продолжила
она,— скажите мне...— И вдруг оборвала
себя и даже зажмурилась, торопливо
говоря: — Ой, нех, нет, нет! Простите
меня... Не могу... Не могу выговорить... Уж
извините, это я так, расслабилась
немножко.— И нервно, знобко засмеялась.—
Не думайте... Я — так...
— Вот что, Зоя
Михайловна,— сказал доктор.— Я для вас
как доктор, слава богу, не нужен. Нужен
для вас хороший невропатолог. Думаю, в
вашем городе найдется такой. Но, если
случайно попадете в мой город — у вас
адрес есть,— я вас познакомлю с моим
другом. Он хороший доктор по нервным
заболеваниям.
— Спасибо...— Зоя
Михайловна встала, будто только этих
слов доктора и ждала, чтобы уйти.—
Спасибо...— И она поклонилась всем.
—
Зоя Михайловна, подождите, я с вами! —
заторопилась вдруг и журналистка.
—
Умница, Инна Петровна,— доктор легонько
дотронулся до ее пальцев.— Завтра в это
же время приходите ужинать,— пригласил
он.— Я уезжаю послезавтра.
Когда
женщины ушли, доктор сказал:
— Зое
Михайловне крайне не повезло с нашим
столиком. Эта пара разбалансировала ее
вдрызг. Вы не заметили: с первых же слов
этого вашего Мелехова у нее начался
истерический приступ. Безмолвная
истерика. А ведь сильный характер. Явно
сильный.
— Но, как я теперь понимаю,
вы были на страже, контролировали
ситуацию,— заметил физик.— И меня
вовремя одернули с моими... хм...
высказываниями.
— Что ж, этот молодец
всех нас как-то... встревожил...
Физик
молчал, постукивая пальцами по краю
стола, хмурился. Потом вдруг улыбнулся:
— Не везет мне в этой командировке.
Старею, что ли... Как-то все бесцветно...
Женщин имею в виду. Увидел Зою Михайловну,
почувствовал было волнение даже,
предчувствие неординарности. Явное,
явное! И вот вам,— он развел руками,— и
впрямь неординарность, да с другого
бока.
— Да,— как-то вяло протянул
доктор,— разные они — женщины.— Ему
явно не хотелось продолжать разговор.—
Пойдемте по домам...
Женщины тем
временем поднялись в номер Зои Михайловны.
Захлопнув за собою дверь, она тут же,
в прихожей, схватила за руку гостью и,
крепко стиснув ее обеими ладонями,
заговорила:
— Теперь я вас спрошу...
Что хотела у доктора спросить... Как вы
думаете: он тоже любит такую любовь, как
этот ученый? Чтобы насилие? А? — И пока
говорила, тревожно всматривалась в
глаза Инны Петровны, взгляд ее метался
челноком, засматривая то в один зрачок
журналистки, то в другой, словно она не
могла никак сосредоточиться или решить,
который из глаз собеседницы ей ответит
правдивей и честней. Инна невольно
отступила...
— Да бог с вами! Никогда
— воскликнула не задумываясь.— Видно
же! Да и вы бы не спросили, если б
сомневались! Так ведь?
— Ну,— неуверенно
согласилась та, опустив глаза.— Но снова
вскинулась: — А тот? Ученый? Разве
подумаешь? Он-то?
— Да и он не такой!
— Инна Петровна вдруг рассмеялась.—
Может, и хотел бы... Умствование это у
него одно, и все тут... Может, и хотел бы,—
повторила серьезнее,— да воспитанием
подпорчен.
— У меня, знаете, в глазах
темнеет, когда подумаю, что и доктор...
Такой... Он для меня как спасение... Вот
как круг спасательный. Чтобы совсем не
утонуть... Продержаться...— Зоя Михайловна
уже не говорила, а шептала и, видимо, не
собеседнице, а самой себе.
— Вы
непременно поезжайте к нему,— напомнила
Инна Петровна.— Соберитесь в отпуск.
Да не тяните. Пока помнит. Наверное, у
него и семья милая. Хорошая. По нему...
— Да, да! — страстно прошептала Зоя
Михайловна, перебивая ее.— Мне тоже так
кажется. Обязательно хорошая! По его
разуму, по его душе...
Зоя Михайловна
уже ходила по номеру от окна к двери,
обхватив себя руками за плечи, будто
озябла, хоть жарко было.
Журналистка
почувствовала себя нарушительницей
предписанного доктором покоя и сказала
строго:
— Зоя Михайловна, а что он вам
сказал? Таблетку и — спать! Хватит
размышлений, историй. Мы с вами доказали
друг другу, что доктор — человек. И —
точка! Так?
Зоя Михайловна, остановившись
перед ней уже не так близко, как давеча,
смотрела спокойней, мягче, уже ее видя,
а не собственные сомнения. Брови
разошлись, улыбка помолодила и глаза и
губы. Снова протянула она обе ладони
Инне Петровне:
— Спокойной ночи! Вам
же отдыхать тоже нужно! Экая я! Все с
собой ношусь.
— Завтра еще увидимся?
Вы еще не уезжаете? — спросила Инна. Та
кивнула.— Ну, значит, до свидания! Если
что — мой номер четыреста десять. Ну,
да: на четвертом.
Инна Петровна ушла.
Думала про себя, что молодец — не
поддалась желанию «размотать» историю
Зои Михайловны. А хотелось. Безусловно,
была у нее история. И уж очень не
по-бухгалтерски трепетна была эта
женщина. Впрочем, за немалую свою
журналистскую жизнь Инна Петровна
успела убедиться: эмоциональный трепетный
бухгалтер ничуть не удивительнее
черствого, как прошлогодний сухарь,
учителя или врача. Чего уж там. И
все-таки... Что там у нее. Наверное, муж
был вроде этого горного шорца. Наверное,
расстались. Напомнил... «В одну телегу
впрячь не можно коня и трепетную лань»...—
сказала себе и, как всегда, сердца ее
коснулась нежность от этого детского
«не можно» в пушкинском стихе. Не можно
— и нечего... Она сама рассталась с мужем
по этой причине, но разумно, спокойно и
без надрыва. Поняла, что если и дальше
так, то и себя погубишь, и ему не поможешь.
А может, и не любили они друг друга. Или
она изжила потребность быть женой.
Неинтересно стало, и все...
Гораздо
интереснее понять, что там у Зои
Михайловны, трепетного бухгалтера. Или
узнать получше Арама Варпетовича.
Написать бы о нем. Съездить к нему.
Съездишь... Эх! — подумала она.— Хорошо
журналистам из столицы: во все концы
дороги открыты. А ты в своей области,
как белка в колесе: все по одному кругу,
все по тому же... Главный ни за что ведь
не даст командировку, тем более в Армению
— южный сладкий край. Только отпуск и
остается для извлечения корня из таких
вот «потусторонних» ситуаций.
Укладываясь
спать, Инна Петровна не подозревала,
что Зоя Михайловна еще в ресторане сама
начала «разматывать» свою историю и
теперь не могла остановиться. Зря Инна
ее пожалела. Жалеть ее было уже поздно.
Она продолжала монотонно и безостановочно
шагать по номеру от окна к двери, от
двери к окну... И снова. И опять... Не
замечая времени, не чувствуя усталости,
забыв про таблетку и про все наказы
своих любезных застольников.
Горький
осадок, скопившийся за жизнь где-то на
дне души, всплыл, взнялся, и теперь ей
казалось, что и вся ее жизнь насквозь
пропитана этой едкой горечью. И тошно
было ей. И голова опять раскалывалась
от боли. Злыми птицами бились в голове
голоса физика, Инны Петровны и этого...
инженера. А физик-то... Илларионович...
Он будто что знал про нее. И судил.
Беспощадным судом. «Таких и любят.
Разудалых дебоширов...» «Ой, да красота
тут при чем»,— голос Инны. И снова он:
«Вы лучше меня знаете, при чем. Вот и Зоя
Михайловна скажет...»
Да не мог же, не
мог ничего знать про нее! Но взгляд
такой... Будто насквозь... И насмешка в
его словах... Все, что ни скажет, все с
подковыркой... Глаза холодные, зоркие,
как у судьи. И правильно. И правильно.
Ее и надо судить. Беспощадно судить...
Вот и судили. И показали ей, за что, за
кого она жизнь свою человеческую
положила. Преступление это. Преступление.
Эта пара из Шории так ей все и представила.
Как спектакль сыграла. Это жестокое, до
ненависти узнаваемое лицо. Хоть вовсе
не то лицо, не те черты. Не того цвета
глаза. Но сила — его... Черная... Его тупая,
непробиваемая сила... Неистребимая... Не
поддающаяся разуму. Ее четкому,
дисциплинированному разуму, которому
подвластны дела сорока предприятий их
объединения...
Работа ее и спасла.
Работа очищала от всего земного, тяжкого,
душного, непонятного даже в себе самой.
Заботы производства представали перед
ней четкими колонками цифр: чистые души
вещей, осязаемые разумом. И она
распоряжалась ими. Не как господь бог,
он-то из ничего создает, а она выстраивала,
комбинировала, сводила и выводила,
распределяла и предсказывала на месяц,
квартал, год вперед и даже на пять лет,
из того, что было... Из того, что дано, а
ей только требуется доказать... Как в
детстве. Как в школе. И — до сих пор: дано
и требуется доказать, что можно, а что
нельзя их объединению. И генеральному
директору доказать... И министерству...
И всем их рабочим...
Души вещей. Работа
десятков тысяч людей. Сотни наименований
материалов. Их комбинаций. Готовых
изделий. Работа — деньги — товар...
Деньги. Баланс. Равновесие всего вокруг.
Голова становилась ясной, чистой над
сложными расчетами... Неужели, неужели
со всем этим справлялась вот эта ее
голова, где сейчас все разломано,
разболтано, дребезжит и болит, болит...
Животной, бессмысленной болью...
Зоя
Михайловна бросилась в кресло перед
столом, уперевшись в него локтями, сжала
в ладонях голову, ощущая под руками
прочную твердость черепа.
Эта коробочка
не справилась только с ее собственной
жизнью. Вот и командировка оказалась
ловушкой. А собиралась сюда, на межобластное
совещание главбухов, как в санаторий.
Думала отвлечься, забыться. Забылась...
«Любовь как месть. Как насилие...» —
слышала сдержанно-восторженный голос
физика. Опять прямо про нее. Ей обвинение.
Все потому и случилось, что она не такая.
Не про нее эта ужасная любовь. Любовь...
Да разве это можно любовью называть,
скотство — то... Она слышала снова звук
пощечины. Эта конторская девушка против
нее — все равно что сержант против
генерала. Но вот может дать в морду этой
жестокой тупой силе. Как дрессировщица:
рраз! рраз! Знай свое место, зверь! Нет,
эта девушка не станет себя ломать, как
ломала себя она, Зоя Михайловна, главный
бухгалтер, уважаемый человек, сидящий
в первых рядах президиумов областных
активов и совещаний. Она ни разу не
подняла руки и даже голоса на своего
зверя... Только тихим словом. Только
поступками. Только убеждением и разумом.
Верила, что докопается до человека в
нем. Ибо один раз ей показалось... И ведь
уже было добилась... Полыхнули перед
глазами бархатно-алые розы... Его широкая
щедрая улыбка... Глаза, наконец-то видящие
ее... Но опять услышала крик: «Я твоего
щенка с пятого этажа сброшу!» Крик
молотком стучит в голове... А потом...
Нет! Нет! Нельзя допускать до себя, что
было потом. Так и с ума сойти недолго.
Нельзя допускать такую кашу в своей
голове. Надо все по порядку. Последовательно,
одно за другим с самого начала. Свести
одно с другим. Как баланс. Именно: надо
составить баланс. Надо, наконец, объяснить
себе, почему все у нее так сломалось.
Она рывком выдвинула ящик стола, где
лежала стопка чистой бумаги, взяла
ручку. Значит, так: ей сорок лет. Она
вывела цифру — 40. Из них она живет с
мужем восемнадцать. Значит, минус 18...
Господи, неужели ей уже было двадцать
два, когда сделала тот свой роковой
шаг... Двадцать два года — не младенец.
А все гордыня. Безмерная вера в себя.
Гордыня — вот что было ей дано, и она
взялась доказать, чертова отличница.
Однако, заиисав нехитрую эту арифметику:
40—18=22, она будто сразу успокоилась.
Словно через ручку и бумагу ушло
напряжение, заземлилось электричество.
И услышала голос доктора, который до
сих пор молчал в ней. И вот зазвучал,
медлительный, размеренный, утешающий.
Смысла слов не понимала. Да он и не
говорил ничего особенного, так, про суп,
про спазмы сосудов... Зажим какой-то...
Официанта... Невропатолога...
Зоя
Михайловна вслушивалась в добрые звуки
его голоса. Она обязательно поедет к
нему и все про себя расскажет. А уж он
разберется. Вот сейчас и расскажет... И
она написала: «Дорогой Арам Варпетович!»
Но тут же задумалась и решительно
зачеркнула обращение. И не стала брать
чистый лист, а прямо тут же, пониже, стала
быстро писать: «Инна Михайловна, милая,
лучше я вам напишу, потому что надо мне
с ним, доктором, поговорить. Но все же
он мужчина. Я отдам письмо вам, а вы уж
ему прочитайте из него, что, на ваш
взгляд, можно и не стыдно. Вы по-женски
меня поймете. А я уж не могу сама ничего
понять, что можно людям открыть, а что
стыдно. Не осталось во мне стыда, и душа
как бы разрушилась...»
Перо ее
остановилось, потому что сама она
поразилась этому открытию — о разрушенной
и уже бесстыдной своей душе... Что ж, раз
взялась раскрыться перед вовсе чужими
людьми, значит, так и есть... И она
продолжила:
«Чтобы вам стала понятна
трагедия моей жизни, я заберу у вас время
и напишу все, как есть. И как было. А было
нас у мамы семеро. И детство и юность
мои прошли через голод, холод и трудности
тех трудных послевоенных лет...»
Рука
выводила ровную твердую строчку букв,
а перед глазами плыли картины. Глиняная
плошка с каким-то черным варевом,
наверное, прошлогодняя, перезимовавшая
в поле картошка, почерневшие комочки
крахмала, размятая с водой и заправленная
молодой лебедой. И их ложки в этой гуще,
восемь ложек. И вот одна ложится праздно
возле плошки. «Ух, наелась!» — говорит
весело мама. И они шестеро глядят
удивленно в синие влажные глаза мамы,
а седьмой, Феденька, у нее на коленях.
Они смотрели удивленно, потому что сами
никогда не наедались. Но матери верили.
Наелась.
...Видела заплатанные опорки,
в которых попеременно с сестрой ходили
в школу. Мать просила учителей, чтобы
ее погодков в разные смены записывали.
А братья носили отцовы солдатские
ботинки. Отец у них умер через год, как
вернулся с войны, Феденька еще не родился,
как он умер. И братья ходили в разные
смены. А если на улицу идти, так и дрались
из-за ботинок. Но Зоя их урезонивала,
коли дома была. Они-то ее понимали.
Слушались. Да и все-то ее слушались...
«Училась я отлично,— продолжала она.—
Легко мне все давалось. Вообще отличалась
от сверстниц. Учителя советовали идти
в институт...»
Отличалась, отличалась,
что и говорить. Урок послушает, и дома
учебник не нужен. Понятливая была,
особенно в математике.
И в другом
отличалась... Хоть зиму всю на печке
сидели, там и уроки учили, а в школу
ходили чистые. Из всякой белой тряпочки
норовила то воротничок скроить, то
манжеты себе и сестрам. Платье из серой
жесткой, стоявшей колом материи, выстирав,
бывало, в печи на поленьях устраивала,
чтоб к утру высохло. Одно было.
Но
нашьет на серое белый, из рукава отцовой
бязевой рубахи выкроенный воротник и
идет как принцесса. В школе только
Зоечкой и звали. Даже мальчишки.
Так
вот она сама по себе копилась в ней —
гордость.Верила в себя Зоя. В особую,
красивую свою судьбу .
Зоя Михайловна
даже усмехнулась, вспомнив ту Зою. И
продолжила:
«Я даже сама себе клятву
дала: учеба и книги — только. Никаких
гуляний и танцев. Душу лишь дневнику
раскрывала. По этому дневнику и знаю,
что уже в восьмом классе о любви
задумывалась, записала тогда свою мечту:
дам поцеловать себя лишь тому, кому
поверю и выберу в мужья... Он и будет
единственный на всю жизнь. И проживем
мы с ним так, как еще никто не жил — в
уважении и любви...»
— Вот так вот,
дорогой Арам Варпетович,— прошептала
Зоя Михайловна,— в уважении и любви...—
И в который раз задумалась, как бы
сложилась ее жизнь, не будь в ней такого
уважения к самой себе и к своим принципам.
Послушалась бы мать, закончила тот
зооветеринарный техникум, в который
поступила против своей воли, уступив
желанию мамы: «Дочь, во всяку годыну
сыта будешь, прокормишься...» Так боялась
мама голода... Родная моя... Да дочка была
с норовом.
И она продолжила:
«Зооветтехникум, куда поступила по
настоянию матери, я бросила, не закончив.
Не было сил учить нелюбимую специальность.
И уехала на стройку Донбасса. Уж лучше
поработать сначала. А там одумаюсь, что
больше мне по сердцу, и выучусь. Я считала,
что каждый человек должен оставить свой
след на земле, а не любя свое дело, не
будешь нужен людям.
Жила я в общежитии.
Работа была трудная — на бетономешалке.
Однажды, возвращаясь в общежитие со
второй смены, увидела сцену: парень бил
ногами девушку возле самого нашего
подъезда. Потом узнала, бил за то, что
она отказывалась с ним гулять. Я не могла
такого стерпеть, налетела на него и
оттолкнула от девушки...»
Вот так и
произошла их первая встреча... Что ж,
никто ее не обманывал, мало того, ей
показали ее судьбу, как в кино: смотри,
вот это какой человек! Какой же он может
быть муж, если слабую девушку — девушку,
не жену еще! — пинает ногами! Так же
будет и с тобой! Но что вы... Разве с ней,
с Зоечкой, может такое быть... Конечно,
в тот самый миг она к себе этого парня
и не примеривала. И подумать не могла.
Тогда она без оглядки и страха ринулась
на хулигана, а он был высокий, длинноногий
и длиннорукий, распатланный, злобный
и, когда с разбегу всей силой, всем своим
весом толкнула его в грудь, увидела и
глаза его: неподвижные, напряженные,
будто слепые. «Ты что, сдурел?» — крикнула
она ему в эти слепые глаза. И глаза
проснулись. Он остановился, взял ее за
руки,— а она и тогда нисколько не
испугалась — вот что значит свободная-то
была! — И сейчас удивилась себе тогдашней
Зоя Михайловна. Да. А парень, взяв ее за
руки, присвистнул удивленно: «От мы
какие храбрые! Ты откуда, птица?» Но она
вырвалась и побежала к себе на этаж.
Сердце все-таки колотилось. Хоть не от
страха. От какого-то волнения: все видела,
как ожили, проснулись его пустые спящие
глаза, встретившись с ее взглядом. Это
превращение льстило ей, тешило ее
гордость. Ах, гордость-гордыня!
Потом
ей рассказали, что подняла она руку на
самого страшного в поселке хулигана:
пьяница, поножовщик. Без ножа не ходит.
И в дело пускал не раз. Но работник был
удалый. Бетонщик. Зарабатывал много.
Зато уж и гулял так, что страшно.
Ничего
этого Зоя Михайловна в своем письме не
писала, а продолжила так:
«И вот этот
парень стал меня преследовать: требовал,
чтобы вышла за него замуж. Про его
хулиганские дела мне рассказывали, и я
знала, что путь его — в тюрьму. Он только
чудом пока не убил никого, а всегда дело
доводил до крови. Я не соглашалась идти
за него, а он твердил, что я лучше всех
в общежитии, и потому буду только его
женой. О любви, о которой я мечтала, он
не говорил ни слова...»
Прервала опять
свое письмо Зоя Михайловна, опять стала
баюкать в ладонях голову, в который раз
спрашивая себя: и что я за человек такой?
Не крепостная же перед барином, не
пленная перед палачом, не в кандалах
меня ему привели — сама пришла...
«Однажды
его все-таки посадили за драку. Пришли
ко мне его дружки. «Если,— говорят,—
поручишься за него, скажешь, что вы
женитесь, его выпустят. Пока в КПЗ сидит,
в милиции. А не выручишь, пойдет по
тюрьмам. Конец ему будет».
Проклинаю
тот день и час. Согласилась я...»
Невидящим
взором смотрела Зоя Михайловна сквозь
бумагу, сквозь стол и все этажи, смотрела
в тот день и час.
«Он же, Зоя, парень
добрый,— говорили его друзья.— Работящий,
сама знаешь, зарабатывает больше нас
всех. А без жены все у него прахом летит,
сама знаешь. Он же без отца-матери остался
во каким,— показывали невысоко над
полом.— Немец же их порубал. Так и рос
по людям, кое-как... Кроме тебя нет ему
доли. Что мы, не знаем, что ли? Что ли,
девок у него не бывало? Ни к которой не
присыхал так... Ты с него человека
сделаешь...»
Хорошие были сваты его
дружки. Зоя и сама себе те же слова
говорила.
...«думала, что рядом со мной
станет он человеком»,— дописала фразу.
И увидела его глаза, очнувшиеся под ее
взглядом в тот первый раз, когда оттолкнула
его от девушки, сбитой им с ног. Потом
имела возможность убедиться, что и
красивы эти глаза... Правду, истинную
правду говорил сегодня ученый-физик —
очень даже при чем красота для
дурочек-девчат! — А все казалось, что
узнала она красоту этих глаз в тот самый
первый раз.
Темно-синие, а приглядишься,
будто из отдельных хрусталинок их
синева. Ресницы... густой завесой. А брови
над ними — черными густыми полосками,
как по линейке, уходят к вискам. И
скатывается к правой брови лоснистый
черный чуб.
Узнавала его в любой толпе,
в рабочем ли, в выходном ли наряде. И в
сумерки, и в темноте по росту его, по
необычной, не как у всех, походке. Она
вспоминала эту походку и его самого,
когда видела в кино барса или тигра, как
они ходят на свободе: вольный, плавный
и сильный шаг. И сама себя не понимала,
когда видела его издали: и страшно, и
лестно, и от самой себя противно, оттого,
что лестно... Еще и жалость подставила
ей ножку: если не я — пропадет... Пропадет.
Ах, гордыня проклятая... Гордыня! А вовсе
не жалость. «Если не я...» — передразнила
себя Зоя.
Так кто же, в итоге, пропал?
И, словно мстя себе, принялась писать
быстро, не останавливаясь:
«Началась
моя «жизнь» замужем. Я ни в чем не смела
противоречить, потому что тут же получала
ногой по чему ни попадя. Работу бросила
— он настоял. Когда приходил пьяный, я
должна была бежать, еще искать водки...
Имя мое было забыто, вместо него «падло»,
«сука», «корова», «быдло». Когда мы шли
вместе и ему что-то не нравилось во мне,
он мог плюнуть мне в лицо, и я все же шла
за ним, как побитая собака, глотая слезы.
Вернуться боялась, чтобы потом не
избил... Страх и слезы были каждый день.
Как слышу его шаги, в животе все холодеет
и опускается, руки слабеют, тошнота
накатывает... Использовал меня в постели
грубо, молча, я боялась каждой ночи и
ложилась на самом краешке, чтобы не
коснуться его нечаянно, чтоб меня не
тронул.
Когда и сын родился, я все была
в каком-то забытьи, будто оцепенела. Ни
радости от сына не чувствовала, ни любви
к нему. Одного боялась: вот сын заплачет,
и муж разъярится. Так было, когда сын
болел и плакал. Не за него переживала,
а что опять сцена начнется с оскорблениями,
с боем... Меня и сына он звал нахлебниками...»
Зоя Михайловна перевела дух,
обессиленная... Она написала, как через
пропасть перепрыгнула, про самые позорные
дни своей жизни. И сейчас она не могла
бы объяснить ни тем, кому писала, ни себе
самой, как могла она позволить так себя
растоптать. Отчего замерла, забыла себя,
сына, окоченела, оцепенела сука, падло,
курва и еще похлеще...
Все началось
сразу, со свадебного вечера, вернее
ночи, когда он, напившись до очумения,
ломал и катал ее по койке, как медведь,
так что она минутами теряла сознание
от боли и ужаса, слыша, как он рычит ей
в ухо матерные слова вперемежку с
обещаниями: «Теперь все... моя... Теперь,
что хочу... Не отвертишься».
Наутро
она очнулась вроде подмененная, вроде
и впрямь не она, а в самом деле быдло
неодушевленное... Когда очнулась,
припомнила, холодея, что с ней сделали,
и слезы полились сами собой, то и еще
получила такой же «любви»...
И она
затихла. Надолго. Отличница в белом
воротничке и манжетках из бязевой
отцовой рубахи. Зоинька, нецелованная
гордячка. Берегущая себя для единственного
на всю жизнь. Чтоб прожить ее в уважении
и любви, как мало кому удавалось...
Чудом,
однако, надо считать не то, что она все
стерпела и не убежала сразу,— какое уж
чудо: боялась его до страсти, знала, что
убить может,— чудо в том, что и под этим
гнетом собрала себя наново, скопила
силы и принялась за работу. Потихоньку,
по капельке, по шажочку принялась за
работу, которую не одолела разом, одним
замужеством, как в той красивой сказке
про аленький цветочек.
Не сама по себе
спала зверская шкура с чуда морского,—
по волоску пришлось ей счищать с него
лохматую шерсть, чтобы выпростался
из-под дикого образа человек, каким,
померещилось однажды, может он быть.
Все же не один страх держал ее, но и
то, с юных ее дней убеждение: жизнь
прожить с единственным... Что ж, ей попался
вот такой, надо было жить, тем более —
сын. Надо было думать, как быть дальше...
Она вздохнула, взялась за ручку.
«Стала
я мужа потихоньку городом завлекать.
Думала: надо его от этого поселка
оторвать. Очень уж обвык здесь. Все свои.
Даже в милиции дружки. Потом я поняла,
что и с милицией, и с КПЗ этой, откуда я
его извлекала, все было подстроено. Так
вот...
Переехали мы в Донецк, работу
он сразу нашел по своей специальности.
Я же опять со своими просьбами: «Чего
так жизнь толочь, учиться бы тебе надо.
Все ж восьмилетка за плечами...» Обещала
помочь с уроками...»
...Как же он издевался
над ней: «помочь с уроками»! Тоже —
помощница — пешка в дамках...
Конечно,
откуда ему было знать ее — вместе не
учились, и на работе ее не видел. Домашняя
баба, да и все тут. Знает свое место,
выучил. Он только глазом поведет — ее
и след простыл, мигом на кухне исчезнет.
Но она по-своему не отставала. Как
разведчик, подстерегала всякую тихую
его минуту, мирное настроение: «Чем ты
такого-то и такого-то хуже... Что они
против тебя: только тем и взяли, что
техникум кончили... А ты же способный...
Вот увидишь...»
Услышит очередное
«отстань!» и отстанет. Но с каждым разом
слышала — пожиже было замешано его
«отстань». Так и согласился на вечернюю
школу. Ладно, сказал, прикину свои силы.
От этого не задохнусь.
Она пыталась
ему помочь — объяснить в алгебре,
геометрии. Он отмахнулся с насмешкой:
не хватало ему у собственной бабы
учиться! Но все же надо было контрольные
задания сдавать...
Не забыть ей тот
первый раз, как швырнул ей по столу
задачник по алгебре: «На, помощница,
решай, коли хвастала!»
Убравшись
вечером, уж после одиннадцати, села за
тетрадкой и задачником. Вчиталась в
задачу, словно свежим ветром лоб
освежило... Как же она соскучилась, как
изголодалась по такой работе... Оказалось,
все помнит, не было нужды и в учебник
заглядывать.
Зайдя в ванную умыться
перед сном, удивилась, глянув в зеркало:
будто прежняя Зоя смотрела на нее
спокойным и чуть горделивым взглядом...
Утром, не глянув в тетрадь, забрал с
собой. А когда на следующий вечер вернулся
из школы, почему-то долго топтался у
порога, вроде ноги обтирал, чего раньше
сроду не делал, в какой бы глине ни были
его сапоги. Так и топал по чистому. А тут
чего: ведь из школы вернулся, в чистом...
Потом за ужином как-то не прямо, а боком,
украдкой вроде, на нее поглядывал, словно
к незнакомке приглядывался. И признался:
«Слышь, там одна задача была, ее никто
не решил. Ты одна... Мужики удивлялись...»
Сам он, наверное, больше всех мужиков
удивился. И от того удивления притих.
Даже пьяный: подымет было руку, да
встретит ее взгляд и опустится его рука,
пробормочет сам себе: «А не трожь...
Голова... От, тихоня-тихоня, все молчит...
А какой ум в той голове!»
Так и втянулся.
Она выполняла все письменные задания,
а он переходил из класса в класс.
Зоя
Михайловна вздохнула и снова взялась
за ручку.
«За то время, что в школе
учился, стал смотреть на меня другими
глазами. Удивлялся, как я решаю задачи.
Не совсем, значит, был он плохой: уважать
мог чужие способности. Так я его тогда
понимала и радовалась. И предложила
ему: давай вместе пойдем в институт. Я
— стационарно, ты — заочно. И он
согласился».
Она вздохнула и так
написала:
«Вы подумаете, легко у меня
получилось. Нет, это не сразу. Он ведь
не поступил в институт, а я поступила.
Это что же было для него — ужас!»
Для
нее — не меньший. Боялась, сорвется,
запьет, заскандалит. Но он просто
замолчал. И не мог смотреть на нее. Мимо
смотрел. Отводил глаза. Она понимала
это так: он стыдился. Мужик, а оказался
сзади своей жены, бабы — по-простому.
Она ему объясняла, что ничего тут такого
нет, что ему приходилось после работы
заниматься, усталому, урывками, а она —
дома. Что ж, что сын и хозяйство,— голова
у нее свободная. Да и в школе она училась
нормально подряд и вовремя. А он так, в
школе только время вел.
Но он молчал.
Ни словечка не отвечал ей.
Зоя Михайловна
не стала отмечать в письме своем, что
он поражение свое не кулаками и пинками
вымещал на ней, а вот этим тяжелым
молчанием. И неправильно, пожалуй, будет
сказать, что вымещал. Нет, он не мстил,
а просто переживал, страдал, как нормальный
человек.
Но она не удивлялась и не
торжествовала: новое человеческое его
лицо лепилось годами и годами, событиями,
а главное, постепенно и неотступно
меняющейся собственной ее ролью в их
отношениях. Оба они становились другими
незаметно друг для друга. И теперь, когда
она приступила к описанию самых счастливых
моментов своей жизни, она не испытывала
ни радости, ни гордости. Писала сухо и
коротко, будто стремясь скорее покончить
с необходимыми посылками: что дано,— и
перейти к тому, что требуется доказать.
«Я пыталась все-все ему рассказывать,
что узнавала в институте. Я говорю — он
молчит. Долго молчал. Но что-то в нем
делалось. Серьезный стал. Работать он
давно уже начал серьезно, не прогуливал,
старался. А тут в партию подал заявление.
Приняли его. Передовой бригадир
бетонщиков, портрет его с Доски почета
не сходил.
Когда я по ночам сидела над
учебниками и лекциями, потому что вечера
уходили на заботы о семье, он стал меня
жалеть, хотел даже помогать в моих
занятиях, но у него, конечно, не вышло.
Однако его стремление было мне дорого,
оно шло от души.
А потом наступил тот
день, то лето в моей жизни, когда я с
отличием закончила институт. И вот в
день моего рождения я просыпаюсь, а у
моей кровати — большой букет роз, и мне
так широко улыбается муж. Были заверения,
что теперь всегда он будет дарить мне
цветы, чтобы я забыла прошлое...»
Она
написала эту фразу, чувствуя, что пальцы
не слушаются, немеют, не желают выводить
ложь. Какое-то время сидела, прикрыв
глаза, успокаивая колотящееся сердце,
и думая, что ничего нет позорнее, чем
быть обманутой. Потом, когда ложь
раскрывается, такой глупой дурочкой
выглядишь в собственных глазах, такой
овцой безмозглой, что дух захватывает
от стыда. Вправду задыхаешься...
Тогда
ей так хотелось ему помочь, чтобы и он
чего-то достиг, учился бы все-таки.
Подумала, что надо сменить город, уехать
подальше. Пусть совсем не будет вокруг
них старого, что связывало бы их память
о прошлом. Оба хотели забыть прошлое.
«Мне предлагали остаться на кафедре
в моем институте, но я твердо решила
уехать, и мы уехали из Донецка в Сибирь.
В Тюмень. Все тут другое. Муж поступил
в техникум, закончил его и стал работать
мастером на большом заводе. А я как-то
быстро пошла в гору в своей работе.
Наверное, истосковалась, будучи
домохозяйкой. Да и работа мне нравилась.
Я душой все переживала и не жалела своего
труда. И очень скоро стала главным
бухгалтером нашего производственного
объединения, куда входит сорок предприятий.
Выбрали меня в президиум обкома нашего
профсоюза. Меня радовало, что со мной
считаются, что мой ум нужен людям, и в
этом я нахожу наслаждение.
Но мужу не
нравилась моя увлеченность работой. Он
привык, что я все время была дома. А тут
и вечерами приходилось задерживаться,
и командировки, и совещания. Начались
упреки, что, мол, семьи для меня не
существует. Даже когда и в добром
настроении бывал, и я делилась с ним
своими делами, мыслями, он стал обрывать
меня: «У тебя только работа на уме!» И
скоро дело дошло до оскорблений. Мне
стало страшно: вдруг вернется прошлое?
Бросить свою работу я не могла и
подумать. Разводиться с ним не собиралась.
Он уж и не муж мне был, а как бы кровный,
сын вроде. И не просто сын, а трудный
ребенок, в которого столько вложено
сил. Всегда за такого боишься больше,
боязно за его поступки. Да и не могла я
представить себя с каким-то другим
мужчиной. Сама я нравилась многим, но
мне все были безразличны.
Когда муж
заболел, я места себе не находила.
Беспокоилась за его жизнь. Не знаю,
любовь ли это. Мне в годы молодые не
пришлось прочувствовать, что такое
любовь, и сейчас в своей душе не разберусь.
И вот я решила родить ребенка...»
Написала и задумалась, не с этого ли
ее решения опять у них пошло все врозь.
Ну, с этого так с этого, вздохнула про
себя. А что она еще могла сделать, чтобы
сплотить семью? Дать почувствовать
мужу, как ей дорога их семья. Конечно,
ей и самой хотелось еще раз пережить
материнство. Младенчество старшего
сына прошло неузнанным мимо нее, надолго
оглушенной насилием. Хотелось маленького,
хотелось нежности, равновесия, тишины...
Не то что она умом раскидывала, прикидывала,
но как-то подспудно, инстинктивно была
уверена, что сейчас, когда она свободный,
уважаемый человек, все будет по-иному.
Но свободному и уважаемому человеку
опять предстояла борьба, чтоб отстоять
свое решение. Муж, узнав о беременности,
гнал ее на аборт. Он просто в бешенство
впал. Она добивалась от него вразумительного
ответа: почему?! Почему он не хотел
второго ребенка? Все у них было: хорошая
квартира, высокие заработки. Он ничего
не мог объяснить или не хотел, просто
кричал, оскорблял, только что не дрался.
Нет, больше не трогал...
«И снова
начались мои хождения по мукам,—
продолжила она.— «Сброшу с пятого этажа,
только роди!» — такие вот были
предупреждения. Забыл все клятвы. Каждый
день сцены, после которых у меня дрожали
кончики пальцев, а в голове будто молоток
стучал. За время беременности во мне
остался комок нервов и головная боль,
от которой резко упало зрение. Пришлось
носить очки. И голова поседела. Но Вова
все-таки родился. Хоть и роды были очень
трудные, и сын рос болезненным. А каким
он и мог еще быть? До года сидела с ним
дома. А муж глядел волком.
Вот мне было
страшно: столько прожили под одной
крышей, а как чужие.
Зато сынок мой,
Вовочка, глаза мне открыл: что такое
быть матерью. Когда он здоровенький,
ничего больше тебе не надо... Склонишься
над ним, а он ручонкой ловит тебя, заденет
по лицу, улыбается, и вся твоя душа тает
от счастья. И слезы текут сами собой.
И
вот за что были все мои страдания и
потеря здоровья: муж ведь полюбил сына!
Замучил меня совсем, через меня и у Вовы
здоровье отнял, а когда тот немного
подрос, стал что-то бормотать, узнавать
отца,— полюбил, привязался. Как придет
с работы, так к нему. Так радовался, когда
сын пошел! Смотрю на них иной раз, как
возятся они на ковре, и думаю себе: «Все
не даром, не даром...»
Ну, кажется, и
это пережили. Пошла я снова работать.
Изголодалась, можно сказать, по любимому
делу. Дома сил хватало только на детей.
Муж опять сделался как чужой. Не глядит,
не разговаривает. А летом поехал он в
дом отдыха...»
Вот она и подошла к итогу
всех своих решений и поступков, к моменту,
с которого уже начала вырисовываться
последняя строка баланса.
Зоя Михайловна
увидела себя, как бы со стороны в тот
жаркий день, когда муж вернулся с отдыха.
Она шла домой рано, в шесть часов, несла
торт, купленный по дороге, и свежие
огурцы,— дар кого-то из сослуживцев из
собственного огорода. Она шла и
посматривала на окна своего дома. И
вдруг услышала голос мужа. С балкона
доносилось: «Ничь така мисячна...»
Господи, поет! Удивилась она и обрадовалась.
В добром настроении... Взбежала на свой
пятый этаж, как девчонка. Сперва-то и не
разобрала на радостях, а потом
почувствовала, что он хоть и спокоен и
ровен, и с ней разговаривает, и в сторону
не глядит, но будто отдален от нее. Будто
они на разных берегах. Очень странное
такое чувство. Вот, рядом, за столом, а
словно далеко-далеко... Сначала, конечно,
о себе она подумала, что это она отвыкла
от него за двадцать четыре дня. Потом
уж, когда узнала, в чем дело, поняла, что
в тот первый день все верно почувствовала:
его с ними уже не было.
Сейчас в чужом
городе, среди ночи, в случайном гостиничном
номере, как наяву пережила она недоумение,
удивление, боль и страх того субботнего
часа, когда, прибираясь в квартире,
вымела из-под тахты письмо, вернее,
страничку из письма — листок из школьной
в клеточку тетради, исписанный чужим
почерком. Даже послышался ей запах
мокрой тряпки, мешковины, которой она
орудовала, протирая пол. Присев на
корточки перед тахтой и положив на нее
листок, принялась читать. Интересно —
про любовь: «...голос твой слышу: «Рыбка
моя! Голубонька! Полюбил тебя на всю
жизнь!» Так мечтаю скорей быть вместе
с тобой! Это ведь правда — на всю жизнь?
Мечтаю глаза твои синие, брови твои
длинные целовать». Зое Михайловне было
интересно, пока она в самом конце
странички вперемежку с поцелуями не
увидела имя собственного мужа во всех
возможных ласковых вариантах. Ноги под
ней ослабли, она села прямо на влажный
пол, и сердце в ней замерло, а потом из
него будто выбросился фонтан кипятку,
ударил в голову и пролился вниз по телу,
по левой его стороне. Она еще пыталась
доказать себе, что имя мало что значит,
имя у мужа самое обычное, таких имен —
через одного... Но все равно откуда-то
знала, что это он... Откуда-откуда... Все
оттуда же, из письма: «синие глаза,
длинные брови»... Да и каким образом
попадет письмо к другому мужчине под
их тахту...
Она ничего не сказала мужу.
Язык не поворачивался. Боялась, как
скажет вслух, так все — сделается с ней
что-нибудь.
Потом и еще находила
обрывки писем. Даже его письма к той
«рыбоньке», начатые и, видно, брошенные.
И вдруг ей пришло в голову: уж не нарочно
ли он разбрасывает эти письма? Чтоб
таким образом дать ей понять, что с ней
все кончено? И сразу будто успокоилась.
Поняла: готова к разговору.
Она уже
знала, что Нина, так звали «рыбоньку»,
считает ее мужа холостым (стало быть,
врал ей про себя), зовет его к себе, чтоб
стал ей мужем. Значит, поняла Зоя
Михайловна, не опасается его, уважает,
готова соединить с ним жизнь. И удивилась
своему удивлению, и поняла, что это она
сама, битая, мученая Зоя, собственными
руками и жизнью своей сделала возможной
эту любовь к ее мужу посторонней женщины.
Сама она не слыхала ни одного из тех
милых слов, которые ее муж писал той
Нине...
Зоя Михайловна очнулась от
резких звуков в гостиничном коридоре:
громыхнула дверь, застучали каблуки,
раздались восклицания: заступала
утренняя дежурная по этажу. Значит, уже
утро...
Зоя Михайловна испугалась, что
не успеет закончить письмо, и принялась
писать:
«В доме отдыха муж познакомился
с девушкой, моложе его на двенадцать
лет, учительницей. Не скрывал от меня
своей с ней переписки. Как я мечтала
когда-то о любви. И вот я узнала, что он
может ухаживать за женщинами, быть
вежливым, ласковым, умеет говорить слова
любви. Вся моя жизнь, все мои мучения с
ним, оказалось, были ради того, чтобы
сделать из него человека для другой
женщины.
Но я все же просила его
подумать о сыновьях. Со мной давно было
покончено, как с человеком, это было
ясно в день моего замужества. Но как
сыновьям без отца. Это плохо. Я просила
его написать ей правду о нашей семье.
Отказался. Просила ее адрес, чтобы
написать самой. Не дал. Говорит, не лезь
в душу. Тогда я решилась. Собрала его
вещи в чемоданы, выбросила на лестницу,
сказала: «Теперь все. Жди развода». И
больше ничего не помню. Очнулась,
маленький звал меня: «Мама, встань!
Встань!» А старший плакал. Он очень меня
поддержал тогда, мой старший сынок. Ему
было шестнадцать лет. Он говорил мне:
не горюй, пусть себе уходит. Мы с тобой
вдвоем воспитаем Вовку. Буду ему и отцом
и братом.
И наверное, я бы привыкла.
Обтерпелась. Жила бы с детьми, может,
еще и лучше. Но через две недели муж
пришел просить прощения. Я впервые
увидела, как он плачет. Уверял, что не
может жить без нас, а той девушке больше
не пишет.
Но я уж ничего не хотела. И
мне стало жалко ту девушку Нину, обманул
он ее. Я сказала ему: извинись перед ней,
тогда будешь с нами. Но тут от нее самой
пришел ему вызов на телефонный разговор.
А он испугался. Не захотел идти. Мне же
и пришлось с ней говорить».
Зоя
Михайловна снова ощутила свои одеревеневшие
ноги там, на переговорном пункте, когда
гремящий жестью голос из динамика назвал
фамилию ее мужа, город той учительницы
и номер кабины. Так громко, так нагло,
словно всем напоказ. В душной кабине,
чувствуя, как сразу вдоль спины щекотно
побежала струйка пота, взяла трубку и
в ухо ей ударило звонкой радостью и
тревогой: «Алло! Это ты? Что случилось?»
Сильный молодой голос. И Зоя Михайловна
ответила подготовленной фразой: «С вами
говорит жена такого-то и мать двух его
сыновей». Она и сейчас слышала свой
безжизненный ровный голос. И в трубке
какое-то время жило лишь слабое шуршание
и потрескивание — фон долгой линии
связи. Потом Нина заявила, что она ни
грамма (так и сказала) не верит, что это
шантаж.
Мужу все-таки пришлось написать
ей письмо и объясниться, и попросить
прощения.
«Вот и все. Сейчас я слышу
от мужа то, что не слышала никогда. Что
я самая лучшая женщина. Что никого, кроме
меня, ему не надо. Что за две недели он
понял: без меня и детей ему не жить на
свете. И я — незаменима.
Но, видно,
всему приходит конец. Многое может
вынести человеческая душа, но и ее
возможности не беспредельны. Во мне
теперь одна усталость. Все безразлично.
Я была бы рада смерти. Даже работа не
дает отдыха моей душе.
Если б хоть он
молчал. Не говорил бы мне признаний в
любви. Мне гадко от этого и хочется
все-все забыть. Память мучает меня. Я не
верю словам мужа.
Мне кажется, он
притворяется, играет роль, чтобы его не
выставили за дверь. И тогда он кажется
мне еще страшнее, чем в юности, когда я
стала его женой.
Раньше временами
думала: не напрасно страдала,— стал
человеком мой муж. Но когда он до конца
признал меня, наградил «незаменимой»,
меня уже нет как человека. Я пуста, жить
мне больше нечем. А жить надо. Для сыновей.
Может, они принесут кому-то счастье,
которое прошло мимо меня».
Зоя
Михайловна подписалась, написала свой
адрес, извинилась, что не придет на ужин,
так как уезжает днем, и пошла на четвертый
этаж, чтобы подсунуть письмо под дверь
номера журналистки.
1984 г.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





