ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

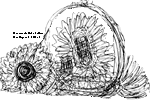
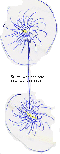
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Оржеховская Фаина 1974
Памяти В.М. Гаршина
1
Аграфена Власьевна жила вместе с сыном в Ярославле, на окраине, в маленьком деревянном доме. Мужа она давно потеряла. Работала на дому: шила лифчики и корсеты для ярославских модниц.
В пятьдесят лет она выглядела старушкой: говорила тихо и не совсем разборчиво, двигалась мелкими, шаркающими шажками. А заказы выполняла добросовестно, в срок.
Своей жизнью Аграфена Власьевна была довольна. Сын Саша по утрам вместе с ней завтракал, из техникума забегал домой пообедать, а по вечерам — уходил ли куда или, случалось, оставался дома, — всегда находил время, чтобы сказать ей что-нибудь ласковое.
Должно быть, жизнь у Саши была очень интересная. Когда к нему приходили товарищи, видно было, что он — общий любимец. И она благословляла Сашиных друзей, конечно про себя, чтобы не обеспокоить их веселье своим неуместным присутствием.
Соседка, Ирина Петровна, говорила: это уж слишком — такая преданность. Когда-нибудь, вернее очень скоро, Саша женится — и прощай мама; жену всегда любят больше, чем мать, даже такую жену, которую мало любят... И с товарищами ему интереснее.
Аграфена Власьевна не спорила. Зачем Саше проводить время с пожилой женщиной? Что она может сказать ему нового? Пусть встречается с молодыми. А ей достаточно, что он у нее на глазах.
Но соседка продолжала пугать:
— А вот ушлют? По распределению?
Аграфена Власьевна чуть слышно отвечала: «Не навсегда же». А сама обмирала. Но старалась об этом не думать, пока Саша с ней. Если в обед приходилось ей отлучиться, она спешила вернуться вовремя или позднее пойти, чтобы Саша непременно застал ее дома.
Так и длилась эта чудесная жизнь, и Аграфена Власьевна молилась про себя: «Только бы хуже не было». Для нее «хуже» значило — не заболел бы, не встретился бы с плохой девушкой, не пришло бы то самое распределение, которое разлучит мать и сына. А того, что случилось, не ожидала: двадцать второго июня девятьсот сорок первого года.
Ушел на фронт Саша, и Аграфена Власьевна осталась одна. Ей, как и всем матерям, выпала противоестественная участь: бездействуя, ждать. Не отвоевывать у смерти, не защищать свое дитя, а только ждать, что принесет слепая, шальная судьба.
Много раз думала: больше нет сил. Но снова вставала по утрам, двигалась, бралась за работу. Корсетов ей больше не заказывали, но местные скоро обносились, да и беженки прибывали совсем налегке.
Она жила вестями с фронта — они приходили три года подряд. Помогало и оцепенение, в котором жила, словно заледенела. Поддерживало и сознание, что не одна страдает. Придет время — и обнаружится, кому прочное счастье, кому вечное горе, а теперь беда всем по грудь. Аграфена Власьевна, как и многие вокруг, безотчетно верила в победу, и эта общность веры, как и общность горя, помогала держаться.
Приходит почтальон, издали показывает бумажный треугольник. Или говорит: «Пишет». Большой перерыв — и опять бодрое письмо. И потом — извещение, как будто все три года к этому вели: под Курском, смертью храбрых.
Что другим матерям, то и ей. У многих были единственные дети, свет очей. И наступила тьма.
Странная жизнь продолжалась... Ожидание вечера, потом рассвета. Что ж теперь? Перебирать фотографии. Вдруг забыть лицо. Вдруг отчетливо вспомнить. Кричать. Молчать. Лежать без чувств. Все мука, все боль, куда ни повернешься.
По-сумасшедшему думать: вдруг ошибка, придет еще письмо. Знать, что не придет. Надеяться, вопреки всему. Призывать смерть.
Вот на это она и обречена.
Словно сквозь туман — чужие лица. И увещания: «Твой сын погиб как герой. А каково несчастной Горышиной, у которой дочь на ее руках скончалась от менингита!»
Шальная, слепая судьба. Вернулись оба сына Ирины Петровны. Правда, один без ноги, другой с лицом обожженным и неузнаваемым. Жена от него отказалась. Но нашлась другая женщина, которая приняла. А мать, вместо того чтобы молиться на невестку, допустила в своем сердце сомнение:
— Мужиков-то не осталось, деваться некуда, вот за убогого и уцепилась.
Кончилась война, и стало ясно, что общее для всех — это победа, а личное горе принадлежит каждому в отдельности. Аграфена Власьевна совсем замкнулась в себе. Не о чем стало ей говорить с людьми, не хотелось огорчать их своей безысходностью.
2
Ирина Петровна жалела ее, по-своему заботилась. И однажды, положив на стол уже не треугольный, а обыкновенный конверт, сказала:
— Должно быть, от родственников.
И сама распечатала, потому что Аграфена Власьевна не смогла. Письмо было из Рыбинска, от Сашиного однополчанина: весь последний год они воевали вместе. Писал он, что потерял Сашу в одном из Курских боев. Просил прощения, что не сразу написал. Пусть считает его самым близким человеком.
Сообщал и о себе: родители живы, сам женился. Есть сестренка двенадцати лет. И все сердечно приветствуют.
Аграфена Власьевна вспомнила, что Саша писал ей о своем фронтовом товарище. Сразу отыскала то письмо: «Я, мама, здесь имею друга Васю Шустова, такой он, знаешь, веселый...»
Аграфена Власьевна тут же написала ответ. Через неделю пришло письмо от матери Васи Шустова: «Поживите у нас, погостите, а там, если понравится, может, и останетесь. Рыбинские с удовольствием поменяются, а вы будете поближе к нам».
Письмо подписал и отец Васи. Аграфена Власьевна воспрянула духом. Скоро она собралась и уехала.
3
В большой комнате Шустовых было три окна, ее недавно перегородили. В меньшей жил их сын Вася с женой, в большей — родители с младшей дочерью. Аграфена Власьевна уже через день устроилась неподалеку в маленькой проходной комнате, которую сдавала знакомая Шустовых.
Главным образом она слушала: Вася рассказывал о фронте: как жили они с Сашей в землянке, вспоминали родные места, как шли в бой. Вася был не мастер рассказывать, но для матери павшего солдата эти рассказы казались неисчерпаемы: они чудесным образом дополняли Сашину жизнь. Она видела его бесстрашным, полным сил, заражающим других своей бодростью. Но этого ей было мало: возвращаясь к себе, она придумывала продолжение Васиных рассказов, воображала, что и она там, рядом с бойцами, только они ее не видят. Невидимкой она и стряпает в землянке, и стирает, и зашивает их гимнастерки. Невидимкой пробирается вслед за ними в бой. Нет разлуки, нет расстояний.
Шустовы, разумеется, приняли ее радушно, особенно Вася и его мать, Лидия Филипповна, совсем молодая на вид. Кажется, они не ожидали, что она приедет так скоро, да и Вася, как ни странно, оказался совсем не веселым. Но Аграфена Власьевна все равно любовалась им; подумать только: целый год был рядом с Сашей, пили из одной фляги, укрывались одной шинелью, делили все опасности. Он знал того Сашу, которого она, мать, не знала!
Дочь Шустовых, Танечка, присаживалась близко к гостье, не спускала с нее глаз, явно гордилась почетным знакомством с матерью павшего героя. Ох, девочка, горек этот почет!
Вечером пришла и жена Васи, артистка Рыбинской эстрады. Поздоровалась, потом сказала, что уезжает в район на гастроли. И стала собираться. Хмурый Вася помогал ей. Потом оба ушли.
4
Конечно, город Рыбинск не чета Ярославлю, красивому, старинному. Но Аграфене Власьевне и он показался приятен. Год, проведенный Васей вместе с ее сыном на фронте, — это гораздо больше, чем год: это половина их юной жизни. И это ко многому обязывает осиротевшую мать.
Она прилепилась к семье Шустовых, обшивала ее, помогала Лидии Филипповне по хозяйству; стояла в долгих очередях за продуктами, меняла на рынке пайковый табак на крупу. Поставила на кухне у Шустовых керогаз, что привезла с собой, и по субботам варила у них и пекла из черной муки шанежки. Всякий день забегала, кроме воскресений, — частью из деликатности, частью оттого, что надо было работать. Заказы у нее были и здесь — так удачно складывалось.
Месяц уже приходил к концу, и Аграфена Власьевна подумывала, не остаться ли в самом деле здесь, в Рыбинске. Только бы найти более подходящее жилье.
Она была в каком-то счастливом оцепенении, и даже ревматические боли, мучившие ее прежде, как будто стали утихать.
А в иные дни своя душевная боль становилась нестерпимой. Тогда Аграфена Власьевна не появлялась у Шустовых, отсиживалась в своей каморке.
Однажды днем, зайдя к Шустовым, она застала в большой комнате их невестку Валентину и какого-то мужчину, одетого не ко времени франтовато. Валентина тоже принарядилась. Стол был накрыт по-праздничному: повидло в розетках, пряники, даже вино.
Аграфена Власьевна поздоровалась. Валентина без улыбки сказала: «Добрый день», но с посетителем не познакомила. Оба выжидательно уставились на гостью. Она вышла.
На кухне Лидия Филипповна хлопотала у плиты. Раскрасневшаяся, озабоченная, она объяснила: к Вале пришел директор эстрады, может быть, выпустит ее в одной бригаде с приезжими москвичами. Как было бы хорошо.
— Дай-то бог, — сказала Аграфена Власьевна.
— Она у нас самолюбивая. И Вася, конечно, страдает. Она артистка, а он только шофер.
— Ну и что? — сказала Аграфена Власьевна.
— ...а когда у нее неудачи, она очень расстраивается.
Аграфена Власьевна скоро ушла. У нее была занята очередь, и она поспешила туда. Бабенка, стоявшая сзади, что-то засомневалась, но другая заступилась за уходившую:
— Не станет она обманывать. Стояла.
— А ты ее знаешь, что ли? Знакомая твоя?
— Не знакомая. Но, видать, человек честный.
— Кто такая? — поинтересовались в очереди.
— У Шустовых домработница, — сказал кто-то.
Аграфену Власьевну водворили на ее место.
Была суббота. К вечеру она почувствовала себя до того усталой, что к Шустовым, против обыкновения, не пошла; а на другой день, проснувшись, не могла даже встать с постели от слабости и беспримерной грусти. Сердце ныло, нахлынула такая тоска по Саше, что нельзя было и вздохнуть. И было холодно в комнате, начиналась зима.
Аграфена Власьевна заставила себя встать, прибрала в комнатке, вскипятила на кухне чай, но ни есть, ни пить не могла. Единственное, отчего полегчало бы, — это очутиться среди людей, в той семье, к которой она привыкла. «Зачем?» — как бы спросил ее внутренний голос. Но она к нему не прислушалась.
Раньше по воскресеньям она не ходила в тот дом. Но один раз куда ни шло! Не затопив печку, она вышла. На улице шел снег, было скользко: захватывало дыхание. Короткая дорога показалась ей нескончаемой.
Она пришла как раз к завтраку. Ей предложили чаю. Правда, не спросили, что с ней, но, главное, она очутилась в тепле, была не одна. Почти успокоилась, только руки дрожали. Она словно избежала большой опасности. Выпив вторую чашку, прошептала про себя: «Ну, слава богу».
— У нас не прибрано, — сказала Лидия Филипповна, которая что-то чинила, — уж вы извините.
Действительно, в комнате было по-будничному неуютно: вещи лежали в беспорядке. Валентина в той же комнате пришивала пуговицы к блузке. Девочка готовила уроки. Вася с отцом вышли во двор — пилить дрова.
Валентина пошла к себе, потом вышла совсем одетая. К Танечке пришли подруги, и она, что-то спросив у матери, отправилась с ними куда-то. Аграфена Власьевна напряженно думала, что ей делать. Она выходила на кухню, вытряхала в сенях половики. Одно она знала: что никак не сможет выйти из этой теплой квартиры опять на улицу, где ветер и снег. Не сможет пройти дорогу домой (домой?) и остаться там одна в истопленной комнате. А ведь наступит вечер и станет темно. Что будет с ней тогда?
И она не уходила. Осталась обедать и после обеда сидела в комнате у старших, хотя знала, что Николай Федосеевич привык в это время отдыхать. Опять она выходила на кухню — вымыть посуду, но Лидия Филипповна уже сама все вымыла. Она была неразговорчива. Не поднимая глаз, чтобы в них не прочитали умоляющее выражение, Аграфена Власьевна спросила о чем-то и не разобрала, что Лидия Филипповна ответила. Потом вернулась опять в комнату, где спал старик.
Так она ходила туда и обратно.
А за окном темнело.
Она знала, что и к ужину останется. Не могло быть и речи о том, чтобы уйти. У нее начался озноб.
Хлопнула дверь: это вернулся Вася с женой. Потом и девочка пришла. В общем, уже наступил вечер.
— А завтра опять на работу, — сказала хозяйка.
Это значило: и отдохнуть не успели.
Перед ужином в большой комнате никого не осталось, кроме спящего хозяина и гостьи.
— ...Она что же — и ночевать будет? — раздался за стеной резкий голос Валентины.
— Тише, — сказал Вася и прибавил что-то шепотом.
Потом, кажется, он сказал так:
— Всем неудобно, не только тебе. А что делать?
— Как что? Объяснить, если не понимает... Господи, что за жизнь.
Вася молчал. Она сказала, не понижая голоса:
— Зазимовала!
Хотя все вело к этому, удар был тяжел. Но к Аграфене Власьевне вернулись силы. Уняв дрожь, она снова пошла на кухню — проститься с хозяйкой.
Вероятно, у нее был не такой жалкий вид, как давеча, Лидия Филипповна спокойно ее отпустила.
«Ну и хорошо, — шептала Аграфена Власьевна, — так и должно быть».
На другой день она уехала. В записочке, которую опустила в дверной почтовый ящик Шустовых, она сообщила, что ее срочно вызывает ярославское домоуправление. С билетом ей повезло, но в вагоне было очень холодно. Все же не так, как в рыбинской каморке.
5
Войдя к себе, она обрадовалась своей комнатке, словно стены с облупившимися обоями и единственное узкое окошко хранили в себе человеческое тепло. Комната, у которой отняли душу, все же оказалась жива.
Да и соседка хорошо встретила. Должно быть, скучала.
Теперь Аграфена Власьевна поняла, что и в полном одиночестве есть своя хорошая сторона: независимость. Многие этого не сознают, думают, что связанность с кем-то и есть спасение от одиночества. Какое заблуждение! Она стала замечать то, что раньше от нее ускользало. И это печальное прозрение становилось день ото дня острее.
Она замечала, что одиноки бывают иногда и супружеские пары, и сестры при своих братьях, и порой даже дети при живых родителях, и матери семейств.
Взять хотя бы Ирину Петровну, мать двоих сыновей, вернувшихся с фронта. Счастливица... А ведь она им теперь попросту не нужна, даже младшему, обожженному. У него теперь жена, которая о нем заботится, и с ней ему жить. Она ревнует к свекрови, а он слишком слаб... А старший сын переселился к теще, отличной хозяйке, там просторнее, веселее... По тому, как Ирина Петровна мчится в переднюю на каждый звонок, а потом возвращается молча, по тому, как редко бывает у сыновей, хотя и много говорит о них, можно догадаться, каково у нее на душе.
Матери становятся одиноки постепенно, незаметно. Какая-то неведомая сила отнимает у них детей. Хорошо, если для радости и любви, чаще для горестей. Или для смерти, как в эту войну.
Навсегда ли она кончилась? «Лет на двадцать дадут передышку», — сказал сосед по площадке, зашедший однажды к Ирине Петровне. Значит, еще может быть война? «И пострашнее этой», — сказал сосед.
Раньше, когда было вдоволь дел и забот, Аграфена Власьевна редко задумывалась над чем-либо: слишком уставала. Да и размышлять-то вроде не над чем было: все шло хорошо, только поспевай управляться. Но теперь, когда времени стало много (иных заказчиц она потеряла, да и потребности ее были малы), она приучилась размышлять. С самого утра приходили к ней мысли, и она уже находила в них странную отраду.
Теперь она уже не чувствовала обиды на Шустовых и на письмо Лидии Филипповны (в котором все-таки сквозило беспокойство и желание что-то загладить) ответила хотя и коротко, но сердечно. И Васю назвала Васенькой. Люди вовсе не обязаны по гроб жизни оказывать ей любовь и уважение только за то, что ее сын воевал вместе с их сыном, а потом погиб в бою. У каждой семьи своя жизнь. А то, что им хотелось стать выше и сильнее самих себя и они с этим не справились, — их ли в том вина? Хорошо, что у них было такое желание. А перед ней они не притворялись.
По ночам Аграфена Власьевна спала плохо: в пятом часу окончательно просыпалась. Это не мучило ее. Она лежала без сна и думала.
Матери многое могут, но они бессильны против других. Саша, например, хорошо учился, но всякий раз, когда она приходила в школу, ее знобило от страха перед учителями. А каково было тем, чьи дети учились плохо и были непослушны?
Странно: даже учителей боялась, которые желали добра ее мальчику. Она чувствовала, что с ней в общем-то не очень считаются. Все идет хорошо, ну и ты хороша. А если бы она увидала какую-нибудь ошибку, несправедливость? «Мамаши всегда пристрастны, — вот что сказали бы ей. — Им всегда кажется, что их чада лучше других». Так и говорили другим, менее счастливым матерям.
Что ни толкуй, а матери все же остаются услужающими, не больше. Служить —служи, но не вмешивайся, не утверждай свое мнение, — мать из-за своей безмерной любви неразумна, бестолкова, а если и умна, так норовит свое чадушко от всего трудного уберечь.
И разве заботливость матери о взрослых детях не кажется другим смешной, если не подозрительной? И сами дети этого стыдятся. Разве она сама не старалась, чтобы не проступали наружу и не раздражали Сашу всякие «телячьи нежности»? Даже когда бывали вдвоем, и то скрепя сердце старалась казаться равнодушнее, чем была.
Ну, хорошо: прячусь, уменьшаюсь, готова совсем исчезнуть; а если случится беда — как же стоять в стороне? Ведь и со взрослыми беда случается, и чаще, чем с маленькими. И обидеть могут, как же не заступиться? Ведь мать от века заступница, как была ею богородица Мария, спустившаяся в ад на вечные муки.
В бога она уже не верила, но от Марии-заступницы не могла отречься.
Кто-то из Сашиных товарищей читал однажды вслух: к воробышку подбежала большая охотничья собака. А мать-воробьиха, завидя это, как кинулась навстречу страшилищу, как взъерошила перышки, собака невольно попятилась. Вот она — сила любви, говорилось там напоследок. Любовь сильнее смерти и страха смерти. Любовь малой птахи. А мать человеческая должна стоять в стороне.
Для чего же мы, матери? Чтобы растить в первые годы, а потом услужать и молчать? И ждать, склонив голову под обухом?
Аграфене Власьевне было тревожно. Какие бы мысли ни являлись к ней, все они кружили вокруг одной, главной, которая должна была привести к какому-то выводу. И хотя жизнь кончилась и ничего не оставалось делать, вывод, который мерещился, словно мог привести еще к чему-то новому, спасительному.
6
Сосед по площадке был агитатор. Он явился перед выборами проверить фамилии и прочее. Ирина Петровна уговорила его выпить чашку чаю. И тут Аграфена Власьевна услыхала от него странные слова — войну мы выиграли, теперь на очереди выиграть мир.
— Как это? — спросила Ирина Петровна.
— Борьба уже начинается, — ответил гость. — Чтобы не было больше войн. В эту борьбу включаются все, и, что особенно важно, женщины. О, женщины большая сила! Представляете себе, что это будет, если все женщины во всем свете выразят свой протест?
— Как же это? — спросила опять Ирина Петровна.
— Петиция, — сказал агитатор. И разъяснил, что готовится огромное послание всем королям и президентам, одним словом, всем людям, которые правят странами. «Для того ли мы рожаем детей, растим их и воспитываем, чтобы поставлять вам пушечное мясо? Не будет этого!» Так скажут женщины всей земли. И наши также. В первую очередь.
И хотя гость говорил по-газетному, Ирина Петровна тогда же прониклась смыслом его речи и спросила:
— А когда можно будет подписаться?
— Скоро, — сказал гость. — Большие дела затеваются.
7
Аграфена Власьевна обычно засыпала довольно скоро, но ненадолго. В ту ночь она никак не могла заснуть, ворочалась с боку на бок и все представляла себе громадную толпу женщин, целую армию, которая движется прямо на виновников Зла, чтобы заставить их почувствовать силу материнского гнева.
Лишь поутру пришел к ней сон. Он был тревожен и смутен, а затем она увидала то, о чем всю ночь думала.
Самому Главному, Королю из королей, Президенту из президентов уже доложили, что женщины пришли. Они ждут. Но женщин не было видно, а Президенту поднесли бумажный рулон, который все разматывался и разматывался — без конца... На нем были обозначены разноязычные подписи — сколько языков на земном шаре. И собственную подпись: А. Ломова — она хорошо разглядела. Президент, или Король, все смотрел на движущийся рулон, а когда дошел до подписи А. Ломовой, перестал смотреть и сказал презрительно:
— Это она писала? Дешево же думает отделаться!
Все стоящие вокруг засмеялись, и все исчезло: и они, и рулон, и сам Президент.
Аграфена Власьевна долго лежала в темноте, стараясь унять бьющееся сердце.
Он был прав. О, как он был прав! Сидят — каждая у себя дома, кто в Париже, кто в Ярославле, — и ставят свои подписи. Пожалуйста! И думают, что из-за этого войны прекратятся. Но разве так борются с врагом? Разве он, не знающий жалости, поймет их горе?
И снова мысли. Еще острее и беспокойнее.
8
С трудом поднялась она в тот день. Ей было трудно дышать. Ирина Петровна вызвалась проводить в поликлинику.
— Поберегли бы себя, — говорила она по дороге. — Одни глаза остались.
Они дошли до вестибюля. Ирина Петровна напомнила, что надо сказать докторше, и пошла восвояси. Но при мысли о длинной очереди, регистраторше, которая будет долго и придирчиво расспрашивать, да еще о том, какая докторша попадется — бывают очень строгие, — Аграфена Власьевна решила не ходить. Ей казалось, что одышка у нее оттого, что мешают мысли: слишком их много и никак не соберешь их в одну.
Пора уже ей смириться, одинокой и хворой. Если даже не выдумка эти подписи и попадут они в Америку, то все равно ни к чему это не приведет. Надо, чтобы тот сам видел матерей, их бесчисленные толпы; чтобы он понял, что они готовы подставить свою жизнь под нож и пулю, защищая своих детей, а значит, и весь мир. Тот должен знать, что воля матерей несгибаема.
Аграфена Власьевна направилась к скверу. Но толпа преградила ей путь. Все же она увидала: громадный верзила с тупым красным лицом, с папиросой, прилипшей к нижней губе, держал за шиворот парня и бил его по лицу, а голова у того болталась. Аграфена Власьевна обмерла. Какое-то смутное сходство хулигана с кем-то, кого она знала, еще сильнее испугало ее. Может быть, фриц с автоматом... этот снимок она видела в газете. Сходство было отдаленное, но несомненное. Но страшнее было другое. Она вдруг поняла, что, думая о фронтовой жизни сына, не все представляла себе. То, что рассказывал Вася Шустов, было парадное, почти праздничное, и это она видела, этим гордилась. Она воображала себе Сашу-героя, Сашу-победителя, но не Сашу-смертника, погибшего от чужой злой руки, узнавшего последние муки...
Хулиган на мостовой снова занес кулак, но Аграфена Власьевна уже не смотрела, ей стало дурно. Когда она очнулась в сквере на скамейке, толпы уже не было, а женщина, которая поила ее водой, сказала, что обоих, и бандита, и потерпевшего, увели куда следует.
— Недавно тут повадился, окаянный. Раньше и не было драк. От него, пьянчуги, все и пошло.
Аграфена Власьевна посидела на скамейке, а когда ноги стали крепче, поднялась и побрела домой.
День был на редкость хорош. Снег еще не сошел, но освещение было совсем весеннее. Почему-то вспомнился ей такой же день, который был еще до Саши, очень давно, в самом детстве. Что значило это позднее воспоминание? Почему оно явилось утешить ее именно теперь?
9
К вечеру она успокоилась немного и даже поиграла с Ириной Петровной в домино. Рано легла и уснула скоро. Уже на рассвете привиделся ей сон, непохожий на все прежние по своей яркой реальности.
То ли американский город, где живет президент, то ли сам Ярославль возник перед нею. Высоченные здания соседствовали с деревянными домишками окраины. Впрочем, это мог быть и Рыбинск. Да, рыбинский рынок, очень знакомый. Но товаров — груда, как до войны. Освещение, какое она видела днем: весеннее. Много знакомых: подруги ее молодых лет, такие, какими были прежде. Тут же и Вася Шустов с сестричкой. Все они веселые, но Аграфене Власьевне тревожно: она почему-то ужасно боится увидать Сашу и хочет просить друзей — предупредить его, чтобы не приходил. Но никто ее не замечает...
С той стороны, где свет особенно ярок, она видит Сашу в походном облачении. И как раз в эту минуту на противоположной стороне появляется тот самый хулиган, которого она видела в сквере. Он заметил Сашу и навел на него свой тупой, мутный взгляд. Папироса двигалась у него в зубах, а под рубахой ходили мускулы. Он рос, как гора, и тьма, исходящая от него, заволокла почти всю улицу.
Теперь мысли старой женщины сгустились в одно целое. С удивительной ясностью она поняла, что именно этот убийца, уголовник, — где бы ни родился, откуда бы ни взялся, — всему причиной: от него все и пошло. От его тупой рожи, от его мертвой папиросы, злых желваков и мутных гляделок. И страшная, непреоборимая ненависть, которую она никогда не знала, охватила ее. Эта ненависть разорвала сумерки, в которых мать пребывала после гибели сына, сумерки, ненадолго сменившиеся ложным светом в Рыбинске и снова наступившие. Она не задыхалась больше, напротив, чувствовала, как прибывают силы. Не ждать больше, а действовать, покончить с этим злом — вот к чему вели ее долгие, томительные ночные думы. Все зло мира, все насилие и несправедливости, все войны произошли оттого, что он существует безнаказанно. От этого всегда и везде смерть будет настигать Сашу и угрожать всем. Она, старая, слабая мать, всю жизнь только принимавшая покорно то, что посылает ей судьба, должна сама сотворить свою судьбу: защитить, пойти под нож и под пулю — в этом ее единственный долг.
«Окаянный!» — это слово произнесла она, шагнув вперед и без страха встречая еще более мутный взгляд убийцы. И нож и пуля вонзились ей в сердце, но это было ненапрасно, потому что повеяло свежим воздухом и опять посветлело вокруг. И в этом наступившем свете она увидела, как спешат ей на помощь толпы матерей всего мира. Она уже различала их лица, слышала голоса, видела протянутые к ней руки...
— Я знала! — плача говорила всем и каждому Ирина Петровна. — Я видела. Она прямо на глазах таяла... Хорошо, что это случилось во сне.
И, вглядываясь в спокойное лицо лежащей перед ней женщины, она не могла понять, откуда это новое выражение бесстрашия и величия, которое она не только не видела на лице ее робкой соседки, но редко замечала на лицах встреченных ею людей.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





