ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


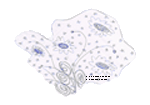
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Поликарпова Татьяна
(Монолог влюбленного)
Я не
чувствую в себе отваги. Для отваги нужно
отчаяние. Не знаю, конечно, может, так
не для всех. Но для меня непременно
отчаяние предшествует волне отваги.
Отвага мне нужна, чтоб сделать
решительный шаг: порвать с прежней
жизнью. Будь я моложе лет так на двадцать,
о чем, как говорится, и речь. Собрал
чемоданишко, а еще лучше — рюкзачок, и
покатился по свету. Возьмут и в Братске,
и в Гжатске. Хочешь — по своей профессии:
я учитель литературы; могу и в воспитатели
пойти, в общежитие, тут и с жильем сразу
все решится. Нет проблем. Могу и в бригаду:
хоть к бетонщикам, хоть к землекопам,
хоть к каменщикам. Многое могу... Но я
увлекся — не могу, а мог. Мог...
Да,
совсем другой коленкор получается,
когда переступишь через пятьдесят.
Роковая черта.
Кажется, какая разница,
если сорок девять? А разница! Совсем не
то, что, например, девятнадцать и двадцать.
Хоть тоже солидно: разменял третий
девяток. Ну и что, что разменял? Разменял,
а в печенке и в селезенке ничегошеньки
не ворохнется.
А вот пятьдесят... Это
да-а... Это полвека... Переживи-ка, поди.
Но не в сознании одном беда. Не век одни
пополам: тебя всего будто переехали.
Трактором. Вот сердце. Оно и раньше у
меня трепыхалось при физической работе
или если за автобусом к остановке
припустишь. А теперь, после юбилея, и
просто так перебои.
Или грипп. Бывало,
отболел, и — как с гуся вода. А после
перевала ровнехонько через месяц
очередной грипп кончился для меня
радикулитом. Сбил с ног в букальном
смысле слова. Стоял здоровый человек
на своих ногах, слегка наклонился —
убрать с дороги табуретку, и вдруг —
бум! — как говорит мой внук, человек уже
на полу без сознания. Страшный электрический
удар — разряд в поясницу — сбил меня с
ног.
Очнулся уже на своей кушетке, с
которой сбросили весь поролон. Лежу на
голой фанере, прикрытой простыней, а
надо мной склонился здоровенный верзила
в белом халате: морда широкая, как у
тигра, а в руках держит шприц с капелькой
светлой на конце — эдакий змеиный зуб
с ядом. А руки у тигра... Бр-р! Огромные,
в рыжем волосе, мясистые... У меня сроду
таких не было. Ни в двадцать, ни в тридцать
лет. Ну, палачище! Девичьей красы, подумал
я почему-то. И тут же поймал себя: еле
глаза разлепил, а мысли сразу вбок! В
левый бок, заметьте... Ах ты, задохлик!
Но тигриная рожа кивнула мне, мол,
привет, задохлик! Вот ты и ожил. Благодаря
моему змеиному зубу!
М-да, неплохое
чудище я произвел на свет после
электрического удара: тигриная рожа со
змеиным зубом в палаческих руках! Что-то
все-таки во мне есть!.. Или было... Так
верней... Могу я иногда. Чувствую, что
могу. Чутье есть мало-мальское к образам...
Так и зазвучало: что-то громоздко-тяжелое,
жесткое... и вдруг: и-и-и-з-ззз.... Как жало,
вонзающееся в слух, тонко-зудящее,
нестерпимое... И опять глухим барабаном:
бум... бум... Ах, музыка, музыка... Раб я
твой...
Может, это-то меня и сгубило...
Все, за что ни брался, казалось не своим,
не настоящим... Вот и перебирал... А люди
практические недаром говорят: жизнь
коротка, бить надо в одну точку... Выбрать
точку, и — по ней...
Неприятные эти
мысли заставили меня невольно шевельнуться,
двинуться как-то то ли рукой, то ли ногой,
и сразу же в спину снова дернуло током...
— Постарайся лежать спокойно,—
пророкотал тигр.
Да я уж и сам понял,
что притвориться покойником — самое
для меня выгодное... Испугался я: как же
быть? Теперь и не шевелись?
Так и
пролежал на спине два месяца, перебирая
мысленно последние перед пятидесятилетием
события. Они было пододвинули меня к
самому краешку: ввергли в отчаяние,
которое должно было породить ту самую,
необходимую мне отвагу... Проклятый
радикулит... Он лишил меня возможности
узнать, был ли способен я на решительный
шаг или уже нет...
Пока я лежнем лежал
эти два месяца да анализировал себя, за
мной ухаживала жена. Жена... Нет, эта
жизнь — сплошное издевательство над
человеком: ведь мои планы относительно
перемены в моем существовании прежде
всего касались жены. И вот жизнь швырнула
меня ей под ноги, чтоб я еще и еще оказался
ей обязан... Чтобы опять она провозглашала
надо мной: «Чтоб ты без меня делал? На
что б ты годился? Да кто из твоих б...
терпел бы тебя?» Она, может, этого и не
говорила словами — она так смотрела,
что я слышал ее скрипучий голос, скучный,
осточертевший мне за двадцать долгих
лет...
Сам не пойму, как это я, боевой
парень — что и говорить, был не промах,
до тридцати лет хорошо погулявший,— а
так попался, в такую ловушку... Ну, правда,
Аська была красивая, такая ленивая
кошка, так вся и перетекает, потянувшись:
вот была в одной позе и вот уже в другой,
не сделав при этом, кажется, ни одного
движения, а как бы перелившись. Движения
ленивые, а в рыжих глазах пламя затаилось...
Впрочем, может, совсем не такая она
была, просто мне такой казалась. Теперь
я ни в чем не уверен.
Правда, понял я
довольно скоро после женитьбы, что
ленива она в самом деле, а пламя в глазах
у нее от злости. Но у нас уже росла дочка.
Ну, в то время меня и женатого не
обходили милые женщины. Об иных Аська
узнавала. И это, разумеется, не улучшало
ее характер... Я же, пока был до пятидесяти,
отходил от скандалов быстро.
Вот
теперь я понимаю, какую штуку играет с
нами молодость и сила: кажется, все
перенесешь, все можешь, и главное решение
у тебя впереди. И все будет в конце-то
концов по-твоему... А уходит сила и
телесная и душевная, и вдруг захочется
покоя и понимания с человеком, тебе
подобным,— а уж добиваться-то и нечем.
Нечем, товарищи! Нет уверенности, нет
силы. Нет — отваги... И жизнь швыряет
тебя под ноги той, с которой ты только
что хотел гордо расстаться...
Я хотел
этого. Потому что в один почти весенний
день встретил женщину, светлую лицом...
Смешно, когда теперь, в трезвом моем
состоянии, представлю себе, что у нее,
у той женщины, вовсе другое было на душе,
а, может, и другой,— оттого и светилась
она лицом. И вовсе я ей не показался ей
подобным, как она увиделась мне подобной
и моей спасительницей от злой жены. (Так
что, может, к лучшему, кстати, что меня
разбил радикулит и мне теперь есть, чем
оправдаться.)
Нас познакомила моя
старая знакомая, с которой мы начинали
работать вместе на заре туманной юности.
Столкнулся я с ними на улице, и Галка,
представив меня, возьми да и скажи:
—
Вот, Нюся, с этим Петей Томиным мы в
музыкалке, как и ты, начинали.
И эта
Нюся так и засветилась:
— Правда?! —
С таким восторгом воскликнула, будто
мы в другой жизни, где-нибудь на Альфа
Центавра были родней.
— А вы тоже
филолог? — спрашиваю и чувствую, как
расплываюсь в глупой улыбке.
— Нет!
— сказали мои дамы в один голос.
Засмеялись.
— Я музыкантша,— пояснила
Нюся,— я в пединституте преподаю. Но
музыкальная школа... Это же сама музыка!
Ну, товарищи дорогие, ну, если б вам
вот так довелось: ведь с первых слов она
просто так, не думая, не гадая, проникла
в мою тайну, о которой даже Галка, которая
со мной в музыкалке работала, не знала!
Я увлекся там музыкой, композицией.
Сидел в классах на занятиях, обзавелся
соответствующей литературой, товарищей
музыкантов выпытывал. Какие-то азы
ухватил, слух же у меня абсолютный.
Увлекся. Сочинял. Песни. Романсы. Просто
какие-то фантазии: музыкальные образы,
как я их про себя называл. Жил этой
тайной. Никому ее не доверял.
И вот
новорожденная знакомая тебе в лицо:
«Музыкальная школа — это ж сама музыка!»
Я был захвачен врасплох. Обезоружен.
Настолько, что так и не успел ее спросить,
почему для нее-то музы-калка — сама
музыка. Господи, близкая мне душа! Вот
что колотилось во мне тогда.
Оказалось,
нам по пути на автобусе. И, оставшись с
ней вдвоем, с места в карьер стал ей
говорить, какая она удивительная. Что
у нее лицо светится. Что я воспринимаю
ее как знак... Как знак... Я не мог найтись,
чего — знак, и она мне подсказала:
«Судьбы!» И засмеялась. С большим
лукавством засмеялась. Это ее лукавство
меня подхлестнуло. Почувствовал себя
вовсе не на пятьдесят, а на тридцать. А
что? Волос седых у меня нет почти, хоть
волосы темные, такие, говорят, быстро
седеют. У меня ж виски побелели, а это,
согласитесь, даже украшает. И мои глаза,
темные, всегда нравились женщинам. И
рост у меня подходящий: не высокий, не
низкий, самый средний. Нет, никогда я за
свою внешность не испытывал неловкости.
Равно как и за одежду: школьный учитель,
привык к аккуратности. Рубашка всегда
свежая, всегда при галстуке.
В автобусе
было тесно, мы близко стояли. Я сквозь
сияние ее и свою увлеченность все ж
разглядел и седину в волосах, и морщинки
у глаз, и что шея уже тронута временем,
хоть и немного... А все равно, ничуть меня
это не охладило, а напротив, придало
сил. Думалось, лет на семь всего меня
помоложе. Не то что я в ту самую минуту
решил свататься и с женой разводиться,
нет, просто так бодрости мне придал факт
ее возраста.
— Как чудесно зовут вас,
Нюся, как нежно,— говорю опять.
— Да
уж,— отзывается,— нежности хоть отбавляй.
И послышалась мне горчинка в ее тоне.
Почувствовал, что неспроста. Понял, что
не очень-то ей тепло. И такая жалость
сердце мне схватила! Вот взял бы в охапку
и утащил... Только так подумал, услышал
голос своей жены: «Куда потащишь? Подумать
хоть раз можешь головой своей?» И еще
сильней сжало мне сердце...
— Отчего
это, Нюся,— говорю ей,— я сразу со всей
своей глупой, наверное, башкой и дурацким
сердцем поверил в вас? Неужели только
потому, что у вас такое сияющее лицо?
Теперь говорю себе: ты и в жену свою
поверил с ходу. Но нет, неправда! В жену
я не поверил, я просто сильно ее желал.
Тело ее ленивое желал. Ожидал с тоской
и мукой телесной, как пламя в рыжих ее
глазах охватит меня... Чего мне было
тогда верить в кого-то... Я в себя тогда
верил.
А Нюся... Хм... Потом она очень
скоро стала раздражительной. Она и
тогда, в автобусе, вдруг нахмурилась и
сказала:
— Знаете, Петя, я ужасно не
люблю, когда люди, хоть и в шутку, унижают
себя. Зачем вы говорите: глупая башка?
Дурацкое сердце? Хотя я, конечно, польщена,
что вы в меня сразу поверили... Правда,
не знаю, как понимать эту вашу веру.
—
Все понял! — с готовностью говорю ей.—
А начет веры... Мне кажется, Нюся, вам
можно все-все про себя сказать, и вы
поймете.
А она опять рассмеялась.
—
Опрометчиво! — говорит. А я все равно
верю! Смеется очень уж хорошо. И я поехал
ее провожать и в метро.
Тут уж меня
совсем без узды понесло. Все рассказал.
И как я устал от жизни. От непонимания
близких. Как жалею, что приехал в этот
большой город, оставив тот, где успешно
работал раньше. Там было столько друзей...
Город юности — это что-то да значит. А
здесь я гол, как сокол. Есть, конечно, и
здесь знакомые — из бывших друзей. Почти
все стали здесь шишками на ровном месте.
Они, конечно, и примут, даже и домой
позовут, и поговорят, и виду не покажут,
что шишки, а все равно, вроде милость
тебе оказывают... Это я так ощущаю. Были
когда-то ребята... А! Жизнь разъедает...
Вот и я... За что только ни брался. Нет,
чтобы выбрать дело — и в одну точку.
Все, чем богат, вложить. А я... И плоты
гонял...
— О! — сказала тут Нюся и
пристальней взглянула.
Да, было... И
золотишко переправлял из мест его
благородного рождения...
— Да ну?! —
удивилась до испуга Нюся.— И не попались?!
— Нет, не попался. Но во второй раз уж
не отважился.
— А-а! Ну, это правильно!
— одобрила и добавила: — Но все же это
факт! Биографии!
— Потом уж, как раз
после этого «рыска», поступил в институт.
И то... Цыганская кровь покоя не давала...
— О, при всем еще и кровь цыганская?
— А как же! Бабка говорила, что ее дед
— из цыган, кантонистов.
— А,— говорит,—
бабкин дед. Далековато...
Я знал, что
на цыгана не похож, только разве вот
цвет глаз, но жила во мне какая-то заноза,
гоняла с места на место. Я и после
института срывался: с геологами ходил.
С рыбаками на СРТ. После уж — музыкальная...
Осел...
— Ну, у вас биография,—
позавидуешь! Вам бы в писатели,— говорит.
— Ах,— отвечаю ей,— вы сами не знаете,
как угадали... Знаю, что никому не надо,
а пишу... Пишу, Нюся! Нет, не стихи, не
прозу,— музыку сочиняю. Песни. Романсы.
И пьесы...
— А сонаты? Симфонии?
—
Вы смеетесь, Нюся. А это моя жизнь, мое
счастье. За что я и проклят всеми, и гонят
меня в шею...
Вижу, она так поежилась
зябко, плечами шевельнула, нахмурилась.
— Что вы? — спрашиваю.— Вам неприятно?
— Жалко,— говорит.— Вас жалко...
—
Спасибо, Нюсенька!
Накрыл я ее руку
своей, но она свою тут же отняла, спокойно
так вытянула, не резко. Но и без колебания.
И глянула в упор, как отодвинула.
Наверное, в тот первый раз я где-то
допустил оплошность. Скорей всего с
этой рукой. Говорил о душе, а сам — за
ручку.Но ведь и всегда-то так. Это ж
душевное движение. Человеческое.
Естественное...
Нюся напомнила мне:
— Так вы о музыке... Можно будет
послушать?
— У меня с собой,— говорю.
Вынул несколько листов. Она тут же
пробежала глазами.
— Похоже,— говорит,—
на музыку... Только похоже на чью-то...
Это хуже.
— Так ведь ничто из ничего
не создается... Мелодии порхают... На
слуху...
— Да,— говорит,— создать
что-то из ничего — невозможно. Создают
из себя. Из жизни. ...А порхает много чего.
Ах, ты, боже мой! Ведь права! Как права!
И воскликнул я от самого сердца:
—
Как же я мечтаю хоть конец жизни пройти
с человеком, понимающим тебя, твое
душевное дело!
— Все мечтают,— сказала
она каким-то вдруг низким скрипучим
голосом.
Вдруг жену свою услышал...
Ужас! Неужели... Глянул, а она смотрит на
меня и словно хохочет беззвучно. Глаза
хохочут.
— Слава Богу! — прошептал я
как глубоко верующий.— Было так ужасно,
так ужасно, Нюся, услышать этот ваш
голос! Я содрогнулся! Я услышал голос
своей жены!
Тут уж она вслух рассмеялась,
даже голову закинула, а потом уронила
и резко смех оборвала:
— А, значит,
это жена вас не понимает? Из близких-то?
— Не то слово,— говорю,— просто враг
мой. Ужасный. Губительный. Ну, ладно,
музыка ее раздражает. А трубки? Спокойные,
молчаливые курительные трубки? Знаете
ли, я их коллекционировал. Большая уже
коллекция собралась. Ценность немалая.
Она взяла и продала! «От тебя,— говорит,—
толку нет, мало зарабатываешь, да еще
сколько на это баловство извел». А разве
мало, Нюся, двести рублей? Да ведь и
трубки я собирал в основном пока холостой
был!
— Ой-е-ей! — Нюся аж руки свои
стиснула и подняла их к подбородку. Ах,
какой потрясающий жест! Такой детский!
— Как же вы могли допустить, чтоб она
смогла это сделать! — с болью такой
воскликнула, с болью, сближающей нас.
— Она еще и не то может,— ободрился
я Нюсиной искренней болью.— Может,
например, меня из дому выгнать. Не откроет
дверь, и все.
— А у вас ключа нет? —
замирающим голосом Нюся.
— Есть, но
она на крюк запирается. Такой дли-и-ин-ный
крюк! А стучать — соседей будить неудобно.
Я ухожу к дочери. Хоть и перед ней стыдно.
— Ну, а совсем к дочери уйти?
— Так
замужем она. И ребенок. Не хочется еще
их жизнь стеснять.
— Ай, Петя, что-то
тут не так! Должен быть выход! Размен, в
конце концов. Значит, все-таки не так уж
плохо все у вас с женой.
Как объяснить
человеку, что плохо, совсем плохо!
—
Менять квартиру, говорите, Нюсенька.
Думаете, не прикидывал. Но она желает
отдельную однокомнатную. А я на старости
лет не хочу в коммунальную комнатушку.
— Н-да,— говорит Нюся и головой
задумчиво так покачивает.
— Но это
все ерунда теперь, Нюся,— воскликнул
я, опять подивившись на ее удивительное
лицо: то свет льет, то темнеет.— Теперь
я о тебе буду думать!
Ах, неосторожно
у меня это «тебе» сорвалось. Она надменно
дала мне понять:
— Ну, если это вам
поможет...
Выделила «вам» голосом.
Все же два раза успел я побывать у нее
в гостях. Первый раз она пирожки жарила.
Ловко так. Сама в коротеньком сарафане.
Летом было. Такая вся как девчонка
крепкая, что ноги, что руки. Гораздо
моложе показалась мне в этот раз. Дочка
у нее лет пятнадцати. Все заглядывала
на кухню. Наверное, хотела подстеречь
что-нибудь интересное. Может, и нет. Так,
пирожков ждала. Чего там — подстеречь:
Нюся на меня и не смотрит. Беседу
поддерживает междометиями: «Ну?» «Ах,
так...» «Да-а уж...»
Я старался не молчать.
Рассказывал ей, как в обед пришлось в
школьном буфете съесть только одну
холодную котлету. Гарнир — в рот не
возьмешь. Хлеб черствый... В желудке
сразу закололо, даже в сердце отдает.
— Бледный, я, наверное? — спрашиваю.
— Да уж, бледноват,— признала.— А что
— с женой немая война?
— Она у нас
почти без перемирий,— говорю.— Недавно
с сердцем стало плохо, так не пошла даже
неотложку вызвать. Телефона у нас нет,
к автомату приходится выходить.
—
Ах,— говорит,— бедный Петя, но сейчас
пирожки будем есть. Любите с молоком?
— Нет,— говорю,— лучше с чаем. У меня
от молока пучит живот. Жена мне тогда
мяты заваривает. А у вас, наверное, нет
мяты.
— Ни мяты нет,— говорит,— ни
чаю. Придется с молоком. А то как с одной
котлетой в желудке жить, да и той
холодной... А мяты потом у жены возьмете...
Или под замком? — Смеется надо мной,
грешным...
Но все же нашлось у нее
немного заварки. Сделала она мне чашку
чаю.
Сидели мы, и дочка тут же с нами,
так хорошо, по-семейному. Я им рассказывал,
отчего у меня с сердцем сделалось плохо
в последний раз. Завуч ко мне цепляется,
что я одной из учениц «тройку» в четверти
вывел. А уж эта ученица — кошмар!! Тупица
сама по себе, да еще и делать ничего не
хочет. Завуч потребовала все ее сочинения
и, представьте,— какая наглость! —
утверждает, что оценки занижены. Ошибок-де
не на «тройку» — можно «четыре» поставить.
А там же ни одного живого слова! Все
списано прямо с учебника. Дословно! А
вся загвоздка в том, что родители девицы
за границей и, говорят, завучу и директору
привозят хорошие сувениры.
— А вам
нет? — дочка спрашивает.
Тут Нюся ее
отослала: поела, мол, и иди к подружкам.
Она пошла, а из коридора мне язык показала.
Шаловливая девочка. Если что, нам с ней
трудно бы пришлось. А она от двери еще
прокричала: «Мам, до вечера! С сочувствием
к тебе, твоя дочь Аня!»
— Почему с
сочувствием? — спрашиваю Нюсю.
Наконец
она засмеялась очень весело.
— Это у
нас так принято, формула такая, когда
настроение хорошее...
— А если плохое?
— То без сочувствия...— И хохочет.
—
Интересно! — говорю.— Забавно! Нет,
правда, с юмором. Хорошо, дружно живете!
Это ж видно. И даже зовут вас одинаково:
Нюся, Аня,— это ж Анна?
— Да, угадали.
Так мужу хотелось,— говорит.
— Это
значит, так он вас любил, Нюся.
—
Значит, так.
От знакомой своей, от
Галки, я уж знал, что мужа у Нюси нет
давно, разошлись. Я еще подивился: как
можно было такого светлого ангела
оставить, да еще с дочкой... Я это и
высказал тут, извинившись, что, может,
зря говорю, неприятно это ей вдруг. А
Нюся не рассердилась. Сказала только:
— Ангела как раз легко оставить. У
него когтей нет. Не цепляется. Не страшно.
Взмахнул крылышками и полетел себе.
Сердце мне сжало. Я не удержался и
признался ей:
— Я так люблю вас, Нюся.
Никого еще вот так, как вас, не любил.
Так чисто и так всецело.
А она отшутилась:
— Это,— говорит,— у вас от пирожков,
вероятно.— Но сразу же и посерьезнела:
— Знаете, Петя, если б любили, я бы
непременно почувствовала. А ведь ничуть
не чувствую. Ни на крошку.
— Я не
виноват,— говорю,— но что люблю —
правда. Все время хочу видеть вас.
—
А звоните раз в полгода. Разве это любовь?
Знаете нынешнюю поговорку: «Если звонит,
значит — любит!» Вот как! — смеется.
—
Я же вижу, Нюся, что вы меня только
терпите... Ведь терпите? Потому и стараюсь
меньше вам надоедать. И боюсь лишний
раз позвонить. А мысленно все время с
вами разговариваю...
А правда ведь...
Позвонишь, она отвечает коротко, явно
ждет, когда я трубку положу. Я уж стараюсь
без пауз все ей выложить. Расскажу, чем
занимался. Ремонт, так о ремонте. Или о
дочке: она у меня болезненная, часто
простуживается... Но очень одаренная в
математике. Это ведь редкость: женщина
в математике. Разовью мысль о таланте
и воле... Опять намекну о своем одиночестве.
Я знаю, такие, как Нюся,— жалостливые
натуры. А где жалость — там любовь.
Все-таки надеялся я... Хоть и чувствовал,
что ждет она, когда я начну прощаться.
Кончу свои рассказы. Но я эгоистически
продолжал! Потому что одно сознание,
что она там, на том конце провода, держит
трубку, слышит мой голос, что нас соединяет
эта вот минута, меня утешало! Сейчас
могу точно сказать: утешало...
Да,
тогда, после пирожков с чаем, она ведь
со мной гулять пошла... Зелень, лето, и
мы с ней... Вдвоем. Два одиноких человека.
Неужели, думал я, ей не тоскливо одной?
Без друга? Почему так думал? Глаза
грустные, вот почему. Только и были
сияющими, когда мы первый раз встретились.
А потом даже тоскливые стали. Ну и,
признаться, та моя знакомая, Галка, мне
говорила, что никого нет у Нюси. Это
точно. Она бы знала. Я же Галке в первый
же вечер звонил: объяснил, что влюбился.
И спросил, как, мол, там с этой стороны.
...Гуляли мы по каким-то зеленым
задворкам. Знаете, эти новостройки все
в зелени. Нюся показывала мне свои
любимые заросли.
— Видно,— говорит,—
какой-то любитель из жильцов старался,
навез отовсюду растений. Вот куст — я
и не знаю, что это за зверь... У нас таких
нет... Не наш, а прижился... Видите? И
виноград у него и плющ, как во Франции,
по стене ползет. А смотрите, как подобраны
деревья... С расчетом на осень. Вот
мелколиственный клен: осенью он — чистая
киноварь. Рядом — береза, она будет
золотой. Дальше — вяз. У него осенью
листья как железные, покрытые окалиной:
сизо-малиновые, будто недавно из горна...
— Ах,— говорю,— Нюся! Как вы все
чувствуете! Видите... Вот так бы с вами...
— Нет,— прерывает она меня резко,—
я уже говорила вам, Петя: ничего не
чувствую. Я просто вас развлекаю. Надеюсь,
понятно,— и так сухо, резко.
Морозом
на меня дохнуло. Съежился я. Стерпел. Не
мог я прямо ее спросить: мол, скажите,
Нюся, и я не стану звонить, проситься в
гости. Я знал, она ответит: хорошо, не
надо. А я надеялся на время. Ведь наше
знакомство только начиналось. Я надеялся
растопить ее своей искренностью.
Доверчивостью. И неизменной нежностью.
Ведь порвать с человеком очень легко.
Поломать, разбить — это ж и дурак сможет.
Я видел: она человек надежный. И добрый.
Несмотря на свою насмешливость и
колючесть. Это все так, оборона. Недаром
же я читал Экзюпери: все время вспоминал
его притчу о цветке, у которого и было-то
всего оружия — один несчастный шип. Что
мне ее уколы — стерплю... Преодолею. А
нет — так просто хоть изредка побуду
рядом с человеком, которому я могу
сказать о себе почти все. Сам не знаю,
почему меня так тянет на откровенность
с нею... И в тот раз все, что в ту минуту
передумал, я выложил ей в таком вот виде:
— Нюся, я очень глупо себя веду, а?
Плохой я. Ужасно вам надоедаю!
А она
остановилась и аж руками всплеснула:
— Господи! Чего вам, Петя, неймется!
Что вы все себя клеймите! Что ж вы думаете,
я вас пожалею, полюблю, если вы будете
мне твердить, какой вы глупый и плохой?!
Нет, пойдемте, я вас провожу к метро...
Вы только подумайте: она еще меня
проводит! Раздражившись, рассердившись,
негодуя! Не ангел ли?..
— Эх, чего же я
наделал,— говорю.— Сам себе все время
порчу жизнь... Но, Нюсенька, только потому,
что не могу отделаться от ощущения: вы
— человек, все понимающий и видящий.
Даже когда раздражены! Когда сердитесь
на меня!
Но она промолчала.
А во
второй раз так вышло — позвонил, говорю:
— Тут я, возле вашего метро... Хочется
увидеть вас, Нюся.
— Да стираю я...—
отвечает, но нерешительно так.
— Ну
и что,— говорю,— мне бы увидеть вас. Не
помешаю... Очень уж на душе муторно...
—
Опять муторно? — И рассмеялась.— Ну,
раз так... Заходите.
Ах, думаю, смеется,
в хорошем настроении. Но эти женщины...
Даже самые лучшие. Не поймешь, отчего у
них вдруг все меняется. Настроение их.
Действительно, «как ветер в мае».
Прихожу, она весело мне говорит, что
главное уже все сделала, белье сейчас
докипит и можно пойти прогуляться.
Выварка на плите у нее клокотала, кипела.
— Прекрасно! — воскликнул я.—
Прекрасно, Нюсенька!
А сам подумал:
нет, не может быть, чтобы одинокой женщине
не нравилась моя преданность! Ведь вот
— довольна!
Рассказываю ей, отчего у
меня на душе сегодня особенно тяжко:
как-то вдруг увидел свою жизнь всю враз,
словно в книге прочел... И увидел, что
бестолково все как-то, без стержня,— а
ведь есть у меня идея... Почему же не мог
я послать все к чертовой матери и заняться
любимым делом?
Стоял я в дверях кухни,
маленькая кухонька, как обычно в этих
наших девятиэтажках, а она у плиты, белье
помешивала.
— Ну, все,— говорит,—
готово. Снимаю...— Чуть помедлила, будто
с силами собиралась, и этот бак с бельем
принимает на себя, и с этим баком так
быстро переступает, чуть ли не несется
прямо на меня. Я и не знаю, куда мне
податься, места мало, не разойтись в
дверях, растерялся. А она мне с натугой:
— Петя... С дороги... Да назад, назад...—
Я и отскочил в коридорчик. Уступил
дорогу. А она бак — прямо на пол в
коридорчике перед дверью в ванную и
сказала только: — Хоть бы дверь догадался
открыть...
Опрокинула бак в ванну,
открыла воду, а сама пошла переодеться.
Проходя мимо меня, так весело на меня
глянула, близко в лицо посмотрела,
весело, но, ох, как недобро! А лицо все
розовое от пара, как у девушки.
—
Петя,— говорит,— со стиркой вышло —
лучше не придумаешь! Какой получился
тест! С дороги-то как вы метнулись, а?
И
прошла. А я ей вдогонку кричу:
— Нюся,
так я же очень послушный! Меня так
воспитали. Я слушаюсь женщин с первого
слова!
Выходит она в чудном платьице
— синее в белый горошек — любимая моя
расцветка, а ей как идет — чудо! И мы
пошли гулять.
На улице она меня
спросила:
— Что, жена приучила
слушаться?
— Да все она, будь неладна!
— в тон ей отвечаю, весело.
И тут Нюся
останавливается, поворачивается ко мне
и начинает свою речь. Спокойно и
размеренно. И помню я эту ее речь всю от
слова и до слова.
— Петя,— сказала
она,— мне надоело слушать ваши жалобы.
Всякие. Но особенно на жену. Кое о чем я
с самого начала догадывалась, а сегодня,
мне кажется, я вас поняла хорошо. И вас,
и стиль вашей семейной жизни. Давайте
договоримся: вы должны прекратить всякие
жалобные речи. Если вам действительно
жить по-прежнему невмоготу — уходите...
Снимайте жилье. Платите втридорога.
Вкалывайте. Совсем оставьте жене
квартиру. Потому что нет ничего более
жалкого, чем мужик, который ноет и
жалуется, а сам и пальцем не шевельнет,
чтоб изменить свою жизнь. Уверена, что
жена вас нянчит как несмышленыша, потому
вы и слушаетесь ее. Разве не так, Петя?
Я готова вам помочь — о квартирах
поспрашивать. Но не собой помочь...
Понятно?
Как она это говорила... И какой
был у нее вид... Хоть бы гневалась. Так
нет... Смотрит, широко открыв глаза, и
холодно, и в то же время словно бы с
болью...
Это я теперь, лежа врастяжку,
осознал, вспоминая. А тогда замерло все
во мне, окостенел я от ужаса, понимая,
что вот и конец моим надеждам на Нюсю...
На человека... Нет, видно, их, человеков,
среди женщин. Раз уж она, Нюся... Так
жестоко...
Она и еще тогда говорила...
Как раз о женщинах.
— Мне,— говорит,—
Галка рассказывала, что вас, Петя, женщины
любили и баловали... Что ходок был Петя...
Петушок... Тот еще... Так неужели не успел
понять женщин, а, Петя? Женщине мужчина
нужен, ребенка она сама родить может...
Да ребенок хоть растет, делается
помощником, товарищем... А взрослый
ребенок — это ведь, Петя, очень тяжело!
Тем более для одинокой женщины. Думаю,
что жена как раз и любит вас, как никто
не любил и не полюбит, раз столько времени
с вами. Подумайте-ка... И не ищите вы
других ангелов. Ваш ангел при вас...
Вот
так все и кончилось.
Приехал я домой
окостенев. Звенели у меня в ушах
безжалостные Нюсины слова. А перед
глазами — глаза ее с холодной какой-то
жалостью. Как к приговоренному: и жалко,
и помиловать нельзя. Неужели она еще
жалела меня? Да разве если жалеешь, так
оттолкнешь человека? И, вспоминая ее
«ваш ангел при вас», корчился я от
унижения. И постепенно овладевало мною
крайнее отчаяние...
Выход был
один-единственный: бежать. «Все. Точка,—
решил я.— Еду куда глаза глядят. К черту
все. Всех баб. Я сам человек...» Но, пока
я созревал в этом своем намерении, прошла
неделя, и две. Грипп подхватил. И наконец
бум! — радикулит.
И вот склоняется
надо мной тигриная морда со шприцем. И
меня выхаживает жена. Мой ангел. И я не
чувствую в себе даже тени недавней
отваги. А вместо отчаяния — лишь тупая
ноющая боль в пояснице.
1984 г.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





