ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
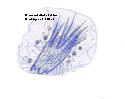


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Поликарпова Татьяна
...О всех кораблях, ушедших в море...
А. Блок
Вот
посчитать бы... Посчитать, сколько моряков
в наших сухопутных областях... В самом
центре России... Сколько их бродит по
Мировому океану, пристает к разным-прочим
берегам. Гуляет по Лиссабонам и Сингапурам.
А также — Бомбеям... Тут ведь не один
военмор, срочная служба. Есть и мирные
«торговцы»... Если просто на глазок
прикинуть, выйдет не меньше, чем каждый
десятый из всех мужиков, начиная с
восемнадцати лет... И вот вопрос: это
обстоятельство сказывается каким-то
образом на их земной жизни? Ну, может,
не на самом жизненном пути, не на его
сюжете, так на восприятии всего, что
встречается по дороге... Впрочем, если
на восприятии, так и на самом пути тоже
скажется... Непременно... Ведь если ты
засмотришься на что-то, идя даже и по
ровной дорожке, на что-то удивительное
или просто интересное, и то можно
оступиться, споткнуться и даже наскочить
на телеграфный столб. На дерево. На
камень. Вот выкатится камень на вашу
ровную дорожку, а вы и не заметили,
заглядевшись, положим, на красивый
закат. И встаете с разбитым носом. Или
шишкой на лбу... Да-а... Очень хорошо
известно, что ничей, то есть абсолютно
ничей жизненный путь, даже принцессы
или принца из сказки, не похож на ровную
дорожку. Пожалуй, могут встретиться
отдельные ровные участки, но никак не
больше, чем участки.
Так вот представим
себе молодого человека с восприятием
податливым, как самый мягкий растопленный
воск, представим, как впечатывается в
него всякое новое для него явление... И
вот такой по молодости мягкий мальчишка
вдруг оказывается среди волн Мирового
океана, и не фигуральных, как наша
предполагаемая ровная дорожка, а
натуральных: мокрых, соевых и очень
тяжелых, если как следует ударит по
скуле — вашей собственной или вашего
корабля, а главное, бессчетно многочисленных
— от горизонта до горизонта, в то время
как сами вы со всем вашим кораблем —
малая точка в центре вселенной, набитой
этими волнами под завязку. Только сверху,
слава богу, небеса... И хорошо, пока с них
тоже вода не польется.
Все это сразу
после хоть и волнующихся, но тем не менее
обыкновенных полей. Нормальных, твердой
земли, пространств, полных неизменяемых
и изначально известных вам примет. Вот,
например, в моем селе: только выйдешь
за околицу, слева в отдалении видишь
длинный колхозный коровник; за ним —
силосная башня, и к ней на подступах
пылит по дороге пухлый воз с зеленой
массой: вико-овес там или кукуруза.
Да-а... Этот воз, можно сказать, примета
такая же постоянная, как сама силосная
башня. Главное, знаешь, что лошадка —
Слива, а возчик — дядя Слава.
И еще за
башней маячат приметы: дуб с сухой
макушкой в виде рогатины и одним сломанным
рогом; группа кустов, издали похожих на
невысокие скирды, так они правильно
округлы. Дальше — лесополоса, совсем
как голубое перышко, чудом ставшее на
одно ребро. А из-за лесополосы тянутся
два тонких прутика — это трубы завода
комбикормов... Уфф... И все это лишь один
луч моего взгляда. Один градус. А их
может быть триста шестьдесят. Как и в
океанском круге. И в каждом градусе,
соединенные его невидимой осью, приметы,
предметы... Одни видимые, другие —
знаемые. Во-он там старый пень от березы,
спаленной молнией. Стоит на краю оврага.
И овраг, и пень скрыты от меня, стоящего
на околице, плавным, почти неприметным
всхол-мием. Но я знаю, что они там есть,
так же непременно знаю, как собственное
имя...
А дом родной? Он-то набит приметами!
Его особенная крыша, которую ты знаешь,
как собственные ладони, выражение его
окон, то открытых, то притененных
занавесками... А палисадник и все, что в
нем. И ведь не теряешься в этом многообразии.
Не надоедает оно. Наверное, потому, что
каждый образ, составляющий это «много»,
связан с тобой, отражает тебя, всю твою
жизнь.
А в океане, если вдруг и возникнут
приметы, вроде тучки в сплошной синеве
неба, так и те неверны, изменчивы,
преходящи, как вышеназванная высоко
плыущая тучка. И возможно, появилась
она, чтобы провещать о беде. Тучка может
предшествовать целой флотилии свирепых
детей циклона... То-то матросикам будет
дело... А-а, в чем и дело-то... Если б время
и силы матросиков не съедала бесконечная,
как океан, работа, поэты рождались бы
среди них раз в десять чаще. Поэта рождает
удивление. Удивление — начало, первотолчок
землетрясения. И разве не каждый
претерпевает такое землетрясение, кто
от пашни или с городского асфальта, из
тесноты, попадает в океан? Но... Работа
— усталость, работа — усталость не дают
впечатлению пустить корни в душе. Разве
только та душа — особенная. Ведь можно
отмахнуться от собственного удивления:
ну и что, что вокруг следа не видно? Что
горизонт кольцом замкнул пространство?
И нет тут ни «право», ни «лево», ни вперед,
ни назад... И почему мы не потерялись? Не
подчинили ход корабля этому кругу: ведь
единственное, что видно глазом,— круг
горизонта, обрез океана? Но нет, идет
корабль намеченным курсом, к своей цели:
Бандунг, Марсель... Еще там какой-нибудь
пуп земли...
— А-а-а! — так подумает и
отмахнется обычный, не обремененный
излишней душой матрос— Командиры знают.
У них на то приборы и карты, пеленги и
радиомаяки...
Но, скорее, он и не задаст
себе этих вопросов, потому что заранее
знает про командиров и карты. Однако и
тот с неленивой, неспокойной душой тоже
все это знает, может, еще и лучше, точнее,
но он задает себе эти вопросы, и не знает,
не уверен, что известные ему ответы
истинны. Огромность задачи: найти верный
путь среди не отмеченного ни единой
приметой круга воды и неба, — захватила
его. И пусть он знает про навигационные
приборы, мысль его, пораженная удивлением,
задает все новые и новые вопросы: как
додумались до этих приборов люди? Ведь
не бог вручил им тот самый первый,
секстан? А может быть... Бог? Как ходили
по океану самые первые корабли? И
мерещится моряку среди волн продолговатая
черная скорлупка того, первого, корабля,
похожего, скорее, на большую лодку... И
снаряжает он свои чувства туда, в Гомеровы
времена, и ужасается, и удивляется
отвагой первых мо-Ряков... «Это вот в
таком-то,— смотрит он,— синем и далеком
океане... где-то возле Огненной земли...
Какая-нибудь средней паршивости волнишка
накрывала с головкой скорлупу, снаряженную
слабым человеком против могучих стихий!»
...Вот ты из каких, дорогой мой Иван
Муранов... Ты из этих вот, океаном крещенных
моряков нашей области...
...Человек,
который так размышлял и бормотал изредка
себе под нос, Верлибр Михеевич Катин,
сотрудник областной молодежной газеты,
только что прочел стихи, присланные в
редакцию очередным, как он сначала
привычно подумал, «чайником».
Он сидел
один в маленьком кабинете, оставшись
после работы, чтобы разобрать опасно
потолстевшую папку со стихами. По одной
причине, о которой будет сказано в свое
время, он давно не прикасался к поэтическому
накопителю, а сегодня решил, что себе
же накладно будет, если и еще протянет
с этим.
Когда он открыл папку, с самого
верха пухлой груды писем и конвертов
скользнул этот самый Иван Муранов:
несколько листиков, сшитых за угол
толстой черной ниткой.
Катин ленивым
глазом, почти с отвращением, покосился
на плотный столбец стиха на верхнем
листке, и вдруг лицо его преобразилось.
Примерно так, как меняется лик застывшего
в безветрии пруда со всеми своими
камышами и ветлами по берегам под
внезапно налетевшим вихрем: только что
сонное, с оттенком отвращения и
брезгливости лицо Верлибра Михеевича
вдруг ожило и окрепло, оно как бы
взъерошилось, в глазах блеснул острый
смысл... Катин захохотал с каким-то
злорадным неистовым бешенством и яростно
ударил кулаком о стол... Вот так началось
это сверхурочное чтение, ввергшее Катина
в уже знакомые нам размышления.
Судя
по их характеру, Верлибр и сам был поэтом
или склонным к поэзии человеком. Странное
его имя свидетельствовало о том же.
Конечно, смелые папа и мама Катины
рисковали, одарив сына этаким имечком:
откуда бы им знать, что их новорожденный
станет своим в той области человеческой
деятельности, где это словечко — верлибр
— что-то значит? Скорее всего, им просто
понравилось звучание — такое звонко-певчее,
птичье, и в то же время — гордое. Они не
задумывались и не спрашивали себя, как
будут сверстники парнишку, а взрослого
— сто раз переспрашивать в отделах
кадров, подозревая в носителе небывалого
имели чуть ли не лазутчика оттуда: «Не
русский, что ль?»
Но кто его знает?
Может быть, как раз имя и побудило Катина,
сына Михея, погрузиться в мир слов и
странных занятий, называемых
журналистикой... И благо ему с его именем.
В редакцию он пришел, еще учась заочно
в пединституте на литфаке. Принят был
тепло. Сотрудники редакции быстро
привыкли к имени новенького и звали его
просто Вер. Чаще — Верка. Верка Катин.
Верка-катин. Когда любили — окликали
Верочка; когда сердились — Кат. Катин
относился к их упражнениям в словотворчестве
добродушно. Наверное, потому, что ни
«Веркой», ни «Катькой», ни даже «Ка-катькой»
было невозможно умалить мужское
достоинство Верлибра. Он был такой
мужичок-боровичок. Просторная спина,
короткая шея, крепкие кулаки. Лицо белое
и румяное с крутыми татарскими скулами
и сильным подбородком. Ему не хватало
лишь моржовых усов, чтоб являть собой
классический образ братишки-боцмана.
Сей образ недаром приходил на ум: все
знали, что Верка ломал срочную службу
во флоте и закончил ее боцманом.
И все
же было в облике Катина нечто,
соответствующее нежности девичьих имен
— Верочка, Катя,— это его синие глаза,
большие, в пушистых и блестящих, как у
ребенка, ресницах. Но это можно было
заметить, если приглядишься к Верлибру
в тот момент, когда он в мечтательном
настроении. Если ж он глядел ехидно или
гневно, как бывало на летучках, когда
он «раскладывал» чей-нибудь незадачливый
опус, глаза его были, надо сказать, мало
женственны. А суждения Верлибра... Тут
уж кому как повезет: он мог разнести по
кочкам ясный деловой материал, и мог
восхититься велеречивой чушью. Что ж,
и в этом проглядывал поэт... Впрочем,
ребята в редакции говорили, что Верка
роль играет: доказывает свою способность
в аргументации и «про», и «контра», мол,
как захочу — так и поворочу... Да ведь
кто и говорил-то об этом: тот, кто сам
был неспособен к литературной игре, кто
работал с натугой, без веселья.
О том,
что Катин сочиняет стихи для себя,
догадывались. Хотя никто не видел и не
слышал ни одной его строчки. Так он был
самолюбив. Он положил себе обнаружиться
стихотворцем только сразу, только в
печатном виде. Он даже видел тот грядущий
свой сборник стихов столь ясно, что ему
иной раз казалось: он и впрямь есть.
Существует! У книжки была блестящая
черная обложка, разодранная белым
зигзагом молнии по диагонали от левого
верхнего к правому нижнему углу. Внизу
по черноте играли блики, позволяя
догадываться о кутерьме волн... Но ни
имени, ни названия не видел Катин на
своей книге. Почему-то никак не мог
представить себе... Хотя название придумал
давно: «Мертвая зыбь». Но только мысленно
писал это по черному мраку обложки: имя
выше, название ниже молнии,— так она
становилась ему неинтересной.
Зауряд-книжной. Ну, при чем молния, если
такое название? Мертвая зыбь и молнии,
и пляска беспорядочных волн несовместимы.
Если есть одно, то нет другого. Мертвая
зыбь — это волнение без движения.
Отголосок прошедшей где-то далеко бури.
И все же он не мог отказаться от молнии.
И не мог, и не хотел отказаться от
названия. Потому что мертвая зыбь есть
мертвая зыбь. Деваться от нее некуда.
Но откуда молния? Может, она явилась
свидетельствовать о яростной натуре
Верлибра? Как магма в центре Земли, его
натура была глубоко упрятана под толстой
корой всяческих установлений и уложений
того времени. Пожалуй, сам Верка так
думать не мог. Чтобы думать так, надо
что-то с чем-то сравнивать: одно время
с его уложениями и другое время с другими
уложениями. Но время пока что было
несравнимым. Несравненным. Оно было
таким, какое Верлибр и застал, влившись
в самостоятельную взрослую жизнь. Иные
идеи, да, они были, и Катин успел их
хлебнуть, но те идеи были не для рабочего
употребления. Скорее они служили
украшением личной жизни. Точнее сказать,
частной жизни. Ну, а много ли ее у нас,
частной-то жизни?
Сам Верлибр думал
о молнии просто: молния — это образ того
шока, который поразит всех при выходе
его книги.
Самое-то грустное, что Катин
знал: сомневайся он хоть всю жизнь,
молния у него там или не молния,— сборник
его стихов не мог выйти. Он на этот счет
не заблуждался. Недаром работал в газете.
Недаром вместе с товарищами проходил
чистилища обкомовских проработок и по
поводам куда более невинным, чем его
«Мертвая зыбь»; стоило их редактору
зазеваться и пропустить на полосу стихи
хоть одной нотой грустнее, чем, например,
«Я люблю тебя, жизнь...».
Редактор,
человек еще молодой и с университетским
образованием, иной раз поддавался чарам
какой-нибудь юной поэтессы. По наблюдениям
Катина, эти создания наиболее склонны
к грусти именно из-за избытка жизненных
сил и здоровья. Он так и объяснил
редактору, оправдываясь, что опять
всучил ему «неуставные» стихи.
— Поди
объясни это в обкоме! — горячился
редактор.
— А ты бы попробовал, —
нагло отвечал ему Катин.
То ли редактор
хотел проучить Верку, а заодно и всех
сотрудников, то ли такова была высшая
воля, но на следующую головомойку в
обком должны были пойти все литсотрудники.
Сели за один большой длинный стол, во
главе его, как отец большой дружной
семьи — секретарь обкома по пропаганде,
«Клим Ворошилов», как между собой звали
его некоторые, очень немногие сотрудники
газеты, и Верка в их числе. Верка с
огромным удовольствием слушал сейчас
его подпрыгивающий тенорок. Казалось,
секретарь тянется, становясь на цыпочки,
дабы заставить свой небольшой голосок
возгреметь с причитающихся ему высот.
— Что ты, Кондратов,— взывал он к
редактору,— разводишь, понимаешь ли,
эту грусть и печаль на своих страницах?!
Но вот именно что не на своих! На своих
бы — так какой спрос! Но ведь ты — в
областной! В ком-со-моль-ской! И где эта
твоя Со-лом-ки-на,— Уничижительно
протянул он фамилию бедной поэтессы,—
где, повторяю, нашла она эту грусть и
печаль в жизни нашей советской молодежи?
Наша страна давно уж оставила, понимаешь
ли, эту грусть и печаль разным там
Онегиным и Печориным!
В этом месте
Катин и сам не заметил, как иронически,
а может, даже и сардонически заулыбался.
А может быть, что и не так, и не сяк, а,
напротив, очень печально. Ибо, как потом
выяснилось, никто, кроме «Клима», его
улыбки не видел... К сожалению...
— Вы
чему улыбаетесь?! Молодой человек! Это
я вас, вас спрашиваю! Да встаньте же,
когда к вам обращаются!
Катина с двух
сторон подтолкнули плечами сидящие
рядом коллеги: «Ну, встань...» Оказывается,
это на него кричат...
Верлибр Михеевич
Катин, муж своей жены и отец своей дочери,
литсотрудник областной молодежной
газеты (высшее образование), в прошлом
отличник боевой и политической подготовки,
боцман и старшина второй статьи Северного
морского флота, поднялся, чувствуя, как
у него каменеют мышцы ног, повел плечами,
словно разминаясь после сна, еще немного
помедлил — собирал всю свою выдержку
— и, наконец, сказал с вежливой готовностью:
— Вы — мне? Я вас слушаю...
И секретарь
как-то смешался. Видно, пока Верка
собирался с силами, он очнулся от гнева
и пафоса. И только спросил Катина,
брезгливо сморщив маленький носик:
—
Где вы учились, молодой человек?
—
М-мм... В советской школе... Потом — в
вузе... Советском...
— Садитесь... В
советской... А ведете себя, будто из...
из...
— Кембриджа...— выручил его
вежливый Катин, усаживаясь и снова
втискивая свои боцманские плечи между
плечами товарищей.
Подсказка его
была, конечно, дерзостью большей, чем
просто улыбка. «Клим Ворошилов» грозно
вперил в него свой взгляд, но, видимо,
пар уже был стравлен, и он только
пробормотал с угрозой:
— Вот именно...
И — «перешел к следующему вопросу»,
как обычно пишут в отчетах с разных
пленумов и конференции Катин и его
товарищи.
Потом Верка, тщеславясь,
спрашивал у всех, кто был тогда в обкоме
партии:
— Слушай, а ты не видел, как я
улыбался? — сладострастно придыхая
«кхакх...» — О, много бы я дал, чтоб увидеть
ту свою улыбку! Много-много...
Но никто
не видел!
— Может, вот так, гляди: —
Верка, чуть выдвинув вперед челюсть и
жестко прищурив глаза, растягивал в
стороны губы, не разжимая зубов, якобы
в сардонической усмешке...
Зрители
хохотали:
— Берегитесь антипартийной
улыбки Верлибра!
— Катин готовит
секретное оружие!
— Скоро за тобой
придут, Верка, смотри — доулыбаешься!
В духе времени шутили: еще и года не
прошло после процессов Синявского и
Даниэля.
Редактор же сказал Верлибру,
кротко поучая строптивца:
— Вперед
осмотрительнее давай советы, как мне
отвечать там.
— Может, ты заранее
договорился с начальником, чтобы он
меня «выдернул»? А? Для науки? — прищурился
Верка, и в глазах его вспыхнул и погас
нехороший желтый огонек.
— Ты что?
Того? — редактор покрутил пальцем у
виска.
— Ну-ну,— пробормотал Катин,
опуская взгляд, и тем как бы говоря, что
подчиняется, но не сдается.— Короче,
как договоримся,— он поднял холодный
взор на главного: — Я пока не буду тебе
предлагать стихов. Пусть читатели
отдохнут от поэзии, а обком успокоится.
— С тебя никто не снимает обязанности
заниматься стихами читателей,— голос
главного вдруг стал низким, тон —
надменным: он напустил на себя важность.
Это случалось с ним порой, когда он
спохватывался, что уж слишком демократичен,
и давал понять: есть предел и его
терпимости. Служебная этика обязывает...
… Вот что произошло, и вот почему
папка со стихами полнела, а строптивость
Катина соответственно истощалась. Она
истощалась, но не проходило противное,
тошнотворное дрожание где-то внутри,
под ложечкой, начавшееся в тот момент,
когда он встал перед секретарем обкома...
Ребята считали, что он блестяще вышел
из положения: ответил, не потеряв
достоинства. Даже еще и дал понять
кое-что... Но сам-то Верка знал, что должен
был сказать без всякой игры в достоинство:
— Я улыбаюсь потому, что вы смешны в
своей самонадеянности вместе с вашим
невежеством.
Но он задавил эти
естественные слова. Они сдохли и смердят
под ложечкой... А он ёрничает по поводу
своей разящей улыбки и дает знать, что
победил он... И все так понимают. Ну
наверняка так думают! Ведь никто не
видит, не чует, что происходит у него
под ложечкой.
Уступая роковой
необходимости отвечать на читательские
письма — пусть эти письма всего лишь
стихи (редактор был человечески прав),
Верка и остался после работы...
Вот он
потянул за тесемки отвратительно
беременной письмами папки, и скользнул
к нему с самого верха груды Иван Муранов.
Он явился, чтобы утешить Верку. Вытащить
его из тухлых потемок службы к свету
поэзии.
И сначала Катин хохотал, как
безумный, и лупил стол ударами боцманского
кулака, и плакал от хохота. А потом —
думал. А потом — мечтал... И благословлял...
Не случай, пославший ему этого
полуграмотного чудака — талантище.
Иванище, но саму Землю и сам Океан,
рождающих в безмерной своей щедрости
свободных людей... Значит, поэтов... Но
это потом — когда прочел все. Сначала
он надолго застрял на «Батыйском»...
Какой же молодец этот Муранов, что
первым номером на верхнем листочке у
него шел «Батыйский»! Так назвал про
себя Верка этот стих. Он сразу вытряс
из Катина всю протухлость. Варварской
степной свободой рванул...
Я хочу быть Чингисханом,
Город захватить Владимир,
Властью опьяненным ханом
Жить войной, не зная мира...
Так он начинал, этот Иван, пренебрегая всяким политическим и поэтическим приличием, всякой оглядкой на всемирную борьбу за мир. Нырнув в чингисханскую, а потом батыйскую шкуру, он упивался яростью, он купался в крови! И — отворял дурную, отравленную унижением, катинскую кровь! Вел за собой в битву, в месть!
Это я, Иван Муранов,
Счастлив был в кровавой рубке
И, снимая с плеч чурбаны,
В Русь плевал сквозь крысьи зубки.
Уж Иван-то не ломал себя, не корчился, стараясь быть благоразумным, он давал себе волю, в распыл пуская пресную житуху...
А как хочется быть диким,
Сидеть в кибитке кочевой
И сырой печенкой икать
Под ветер злобный и сухой...
И вдруг прямо тут же, за всеми кровавостями и после сырой печенки:
И мне стало бы всех жалко...
Я бы спас святую Русь.
Милая старушка галка,— (Господи, а эта птица откуда?!)
Не нагоняй степную грусть...
— Ну, вот
и все твое чингисханство,— бормотал
чуть не прослезившийся на этом месте
Верка Катин.— Эх, ты, Иван ты и есть... И
галка у него какая-то... Уж не из «Слова»
ли залетела... Читал, читал...
А Иван с
галкой уж, оказывается, был не Чингисом,
а Батыем: он говорит ей, галке:
Ты не знаешь, что я — Батый,
Что прошлое во мне горит,
И скачу я на Закаты
Европу Ваньке покорить...
Снова
Катин хохотал, приговаривая:
— Ну,
проходимец! Ну, еретик! Этой концовкой
все ж равновесие сВ той комнате что-то
звякнуло, щелкнуло и понеслась лавина
оглушительных звуков. Бесстрастный
ритм барабана оттенял их глуховатым:
тум... тум... тум... Неслась лавина, камнепад,
все сминая на своем пути, не оставляя
ни одного потаенного уголка для
собственной мысли, ощущения... Перемалывая
кости только что звучавшим мелодиям...
Где там ямщик... Где голубое пальто... Где
та Еленка... Сам Митя, ее сын... Ее друг...
ил... К чертовой матери... Все договоры...
Всю Европу в страх вгонит перед Ванькой...
Говорят: пустите Дуньку в Европу! А туда
уж Ванька скачет... На Закаты... И, шельма,
с заглавной буквы пишет: Закаты! Ну, и
пес! Возьми его за рупь двадцать... Написал
— ладно. Так он же это в редакцию, в
редакцию! Мол, печатайте! И не думает,
не боится...
Тут Верка разглядел, что
перед стихом есть посвящение: «Имаму
Амиргалиеву». И сразу же, как при вспышке,
ярко и четко увидел картину, они сидят
за бутылкой, может, уж и не за первой,
два друга, Иван и Имам, и объясняются
друг другу в любви и уважении. И поэт
Иван, взъерошенный и вдохновленный
чувствами к другу, хорошо подогретый
выпитым, говорит ему, что он не то что
его, Имама, понимает досконально, до
самого донышка, но даже и самого
Чингисхана! С-самого Б-баты-йя... Может,
он даже говорит, что спасибо и рахмат
тому Чингису и этому р-расподлому Батыю:
ведь если б не они, то вот мы с тобой...
др-руг!!! — ни хрена б не встретились...
Вот что...
...Тут мы сделаем отступление
и поясним, что в те годы, когда пили Иван
и Имам, и даже в те, когда Катин читал
мурановские вирши, не вышла еще
чивилихинская книга о нашествии, где
автор доводил до читающей публики
последние выводы ученых, что с Чингисом
и Батыем пришли на Русь совсем не те
татары, которые живут на Волге, что их,
волжских булгар, так же как и русских,
поработили разноплеменные кочевники,
собранные ханами.
А уж о Льве Николаевиче
Гумилеве и его исследованиях о
татаро-монголах и вовсе не слыхивали.
Потому не знали Иван и Имам, что могли
они встретиться и породниться и без
посредства Чингиса и Батыя...
Да... Так
продолжим о том пиршественном дружественном
столе... Наверное, прямо за ним и накатал
Ванька свой стих. И прочел другу. И они
еще выпили за кровавое преображение
Ваньки-Батыя... А может, пока поэт писал,
товарищ его уснул, примостив голову
свою татарскую на край стола, на сгиб
собственного локтя, и Муранову пришлось
его будить, и он будил друга безжалостно,
как ордынец, ибо поэт жесток и нетерпелив,
когда ему потребен слушатель...
Так
фантазировал Верлибр, не спеша читать
другие листки, предполагая, что все
дальнейшее пойдет так же безграмотно-беспомощно,
зато вряд ли хоть и вполовину столь же
мощно, но дерзостно.
— Ну, варвар-недоучка,—
любовно качал лохматой башкой Катин,
еще и еще раз пробегая «Батыйский»
стих,— ну, куда уж дальше:
И, махнув с холма нагайкой,
Тьму пускать в большой набег.
Губы вытерев о майку,
Знать, что я — лишь человек.
Нет, вы
видали: Чингисхан в майке... Наверное, в
такой голубой армейской, какие носят
офицеры... Ну, правильно, военный же...
Чем дольше думал Катин, тем больше
убеждался, что у Муранова ничего не
сказано просто так. Вот это, например:
«Знать, что я — лишь человек». Ведь это
он о гордыне ордынца! Мол, я — всего лишь
человек, ведаю жизнью и смертью народов...
Обладаю силой Бога... Его властью... И эта
похвальба сопровождается низменным,
полуживотным жестом: губы-то вытерев о
майку! Жест жрущего... Пьющего.. Кровь
пьющего.
Не-ет, этот Муранов куда как
не прост... По крайней мере, здесь...
Верлибр с неохотой, с боязнью перевернул
лист с Батыем.
И прочел все теперь уж
одним духом. И многое узнал про Ивана и
про его жизнь.
Э-э... Моряк... Братишка...—
присвистнул Верка.— И Бразилия тут у
него... И ливанские ботинки он носит... И
в португалку-то он влюблен. А сам из
деревни, как и я... Отец его с матерью до
сих пор в деревне. А он уже в городе... В
коммуналке живет... И пишет... И не думает,
для чего и для кого пишет... Пишет, просто
потому, что поэт...
Верке ли не знать,
о чем и для чего сочиняют 99, 98 процентов
самодеятельных поэтов? А мы же, газетчики,
их и воспитали под чутким руководством
«Клима Ворошилова». Верка потянул за
уголок торчащий из середины папки
листок: вот пожалуйста:
Расцвела пятилетками Родина пышно,
Расцвели социализмом города и поля,
Как мечтал наш Ильич, у тебя так и вышло —
Стала Родиной Мира Советов земля...
Интересно,
у кого это «вышло»? У какого «тебя»?
Пришлось вытащить весь листок.— А-а...
«Стихи о ветской женщине...» Это у нее
«вышло»... Воспитали, воспитали, я люблю
тебя жизнь,— с матерной интонацией
пробормотал Верка.— А как же не
воспитать... И нас воспитывают. Ведь и в
голову не придет, за что могут всыпать
на обкомовской летучке... За какие-нибудь
пейзажные восторги... Что это было у нас
про осень... Еще до Соломкиной... Ну, да!
Мол, октябрь и багряный лист в холодном
ручье кажется таким одиноким. Но Клим
наш Ворошилов начеку! Его не проведешь!
Тут же затряс пальцем, забрызгал: он
понял, что это намек на крейсер «Аврору»!
Грязный намек и пасквиль!
Уж и смеха
нет, не хватает... Что ж, и Клим, выходит,
не лишен способностей: образно мыслит.
Наверняка их наставляют где-нибудь:
мол, поэты и словечка в простоте не
скажут — все с намеком. На то, мол, и
поэзия, чтоб подрывать устои...
А
Муранов сплошь, гад, подрывает... Вот
назвал стих «Из нашей жизни». А о чем
пишет?
А в комнате у нас до нашего вселения
Рабочая жила пенсионерка.
И что пила, так в этом нет сомнения.
И умерла. И все. Исчезла тетя Лерка.
Ей все по праздникам открытки шлют с работы.
Администрации как знать, что нет ее.
Как будто не жила и не работала...
Да разве
наша жизнь такая?! Эй, поэт, разве такие
у нас рабочие пенсионерки?! Разве они
умирают?! А тем более — пьют?!!!
А
дальше-то что! Дальше вообще мистика:
В неощущаемой она для нас материи
Незримо в нашей комнате живет.
И видит нас...
Ну, дальше ерунда, невнятица... Но вот!
Во мне она чай с бубликами пьет...
Катин
надолго затих над стихами Ивана...
—
...Добрый парень... Добрый,— бормотал
он.— Все похоже, все едино... Вырос
где-то... Где-то плавал...
То ли о себе,
то ли об Иване думал Верка. Накатило
воспоминание-ощущение: мерная зыбь
океана под днищем корабля, когда ногами,
подошвами, упираясь в пустячную тонкую
опору: палубу, весь корабль,— чуешь
упругую бездонную тяжкую глубь...
Братишка,— чувствовал с нежностью.—
Ты, брат, во мне... Со всем твоим... А в
тебе-то,— Катин заулыбался растроганно,—
и тетка Лерка, и Батый... Португалка...
Все во мне... И я во всем... Точно, точно
сказано, Федор Иваныч...
Невнятным
шумом, голосами наполнялась тихая темная
комната. А может, только, Веркина голова...
«Все во мне, и я во всем»,— разобрал он.
А потом кто-то как бы ответил: «Тебе ж
нет отзыва, таков...» И, не договорив
строки, повторил: «Тебе ж нет отзыва,
таков...» И снова то же самое... И опять...
Как застрявшая на одной бороздке
пластинка... И не переставая слышал Катин
шум волн. Вроде прибрежные: накатит...
о-от — ка-атит... Шипенье воды, процеженной
сквозь гальку... Мелкий топоток-постук
самой гальки, увлекаемой волной... О-опять
накат... Медленно, размеренно, длинным
гекзаметром... Сейчас гекзаметрами не
пишут... Один Иван... В одном стихотворении...
Нет, в двух... Красивых... «Еду я в красной
кошевке равниной великой — Юноша.
Ванечка. Бог...» Вот так. Не меньше... Ведь
это божественное: все во мне и я во
всем... Но... Тебе ж нет отзыва, таков...
Катин нисколько не удивился, что
подали ему голос великие, любимые им
поэты. Что он вместе с ними обдумывает
Ивановы стихи. И вроде сам Иван с ними.
И какая-то старушка, деревенская, в белом
платке, темнолицая, тут же сидит, пьет
чай из блюдца, хрустит баранками,
разламывая их на кусочки узловатыми
пальцами, аккуратно отправляет в запавший
рот... Почему-то ее Верка видел, а поэтов
и Ивана только слышал. Причем у всех у
них был один голос — его собственный,
катинский.
— Послушай, Иван, это у
тебя прелестно: «Небо молочное в марте,
а молоко голубое...» Ты музыкален, мой
милый... Ты — поэт...
— Да, Александр,
вы правы: если слова еще и звучат, а не
только значат, то признак несомненный:
мы слышим талант! — отозвался Федор
Иванович.— Вот не угодно ли... Послушайте
и вы, Верлибр Михеевич, как это у нашего
друга: «Снег под санями скрипит, как
сухая береста...» М-м? Слышите ли вы этот
явственный скрип? Но дальше: «И не
сугробы, а сивые там кобылицы в волшебности
грез... Падают с неба снежинки, на солнце
сияя, как звезды...» И вот теперь, после
этого тихого «с-с-с» — звука сухого, и
впрямь россыпь снега при морозе, особое
внимание, господа: «В центре России под
треск перемерзших берез...» Какой
отчетливый контраст «р»! Впрямь взрыв:
лопнула древесина на морозе!
— Как,—
помните,— не удержался и процитировал
одного из гостей Верлибр: «Шипенье
пенистых бокалов и пунша пламень
голубой».
— Да,— улыбнулся голосом
Александр,— я был так же рад тогда, как
теперь, слыша Ивана...
— Но, господа,—
нагло заметил вдруг, сам от себя не
ожидая, Верлибр,— не кажется ли вам, что
«волшебность грез» — это что-то из
девятнадцатого века? — и быстро
поправился, сообразив, что вышла
бестактность: — Имею в виду, восемнадцатый,
разумеется...
— Что ж, наш друг Иван
говорит о воображении, поэтической
грезе, превратившей сугробы в сивых
кобылиц...— Федор Иванович помедлил и
решительно добавил: — Хотя мне всегда
жаль, если поэтическое чувство искажено
напыщенностью выражения... Очень жаль...
— Да, господи! — загорячился Верлибр
и бросился защищать Ивана: — Ему эти
пышности и не нужны! Он может самыми
простыми словами! И точно, вот что! Точно!
Иван, братишка, прочти из своей
«Португалки», а?
— Любезнейший друг
наш бывал в этом королевстве? — с
любопытством спросил Федор Иванович у
Ивана.
— Морская служба...— скромно
и кратко ответил тот. И, помолчав, загудел,
замычал, нажимая на «м»:
Макинтош
мой тебе мешковат,
Мерзнешь, маленькая,
миньятюрная,
Манекенщица милая. На
каблучках ты за мною бежишь...
Когда
он дочитал до конца, Александр звонко
рассмеялся:
— Мне безумно нравится
это: «Португальский портвейн португальскими
губками пьешь»! Это бесподобная,— и он
быстро проговорил что-то по-французски,
Верлибр уловил лишь известное ему слово
«тендресс» — нежность. И Федор Иванович,
видимо заметив его затруднение, перевел:
— Александр говорит, что это прелестная
находка — эти нежные глупости. И это
так выдает душу автора, столь
бесхитростную...
— Да,— уже по-русски
подтвердил Александр,— но еще и саму
минуту нежности, когда ты глуп от
счастья... Даже неумелому стихотворцу
простодушие придает очарования...
—
Но вы заметили? — спросил Федор Иванович.—
У Ивана часты мотивы смерти. Что ж, «помни
о смерти» — всегда свидетельствует о
глубоком нравственном сознании... Но
все же... Мне странно: ведь наш поэт так
молод... Александр, припомните... Я, во
всяком случае, за собой такого не
упомню... Впрочем, пока нет несчастья,
есть ли поэт...
Верлибр очнулся вдруг,
внезапно, вздрогнув от железного грохота
за дверью... Потом — плеск воды, какое-то
отвратительное мокрое хлюпанье,
чавканье... Не сразу понял, что это
уборщица заявляет о себе: ведра, вода,
тяжелая швабра... Тетя Люба пришла...
Значит, уже девять часов.
Катин резко
потряс головой, сметая с чела остатки
наваждения и страха, который он успел
пережить, услышав железный грохот.
Схватив ручку, быстро написал записку
Муранову: «Или приезжайте в редакцию в
удобное для вас время (можно и ко мне
домой — следовал катинский адрес), или
сообщите ваш адрес, приеду к вам я».
Запечатав записку в конверт, написал
адрес до востребования,— так стояло
под стихами Ивана,— и побежал домой, по
дороге опустив письмо в почтовый ящик.
Прошло более месяца — ни самого
Ивана, ни ответа от него. Но мало ли что,
некогда человеку, уехал куда... Шут его
знает, может, опять в море ушел... Оправдывал
его Верка.
За этот месяц он успел
разобрать всю стихо-папку и убедиться,
что Иван у него один.
Было время
подумать и о себе «в свете Ивана»...
Согласимся, это случай особо редкий,
когда поэт, впервые читая другого поэта,
сразу же ревниво не сравнивает его с
собой. Но у Верлибра так было! В тот вечер
он не вспомнил о себе ни разу... Только
потом... И он прямо сказал себе, что
завидует легкости и поэтической вольности
братишки... Но, с другой стороны, Ивану
не мешал бы его, катинский, мозг,
«обогащенный знанием тех богатств,
которые накопило человечество...», по
сравнению с «братишкой», конечно, —
скромно поправил себя Верка. Словом,
ему ужасно как хотелось, как было надо
встретитсья с Мурановым, разговориться,
помочь ему, поддержать, руководить его
образованием, чтением... И он собрался,
не дожидаясь больше письма от Ивана,
поехать в его городок, не дальний от
областной их столицы, и так решил, как
письмо пришло. На конверте не было
обратного адреса, лишь фамилия, выведенная
аккурантым, с нажимом, почерком. «Ишь,
писарчук!» — улыбнулся Катин, вскрывая
конверт. Оттуда он извлек собственную
записку, на обороте которой тем же
красивым почерком, что и на конверте,
было написано: «Иван Игнатьевич Муранов
к вам приехать не может. Он скончался
20 августа сего года. Адрес не пишу. Все
равно не приедете. Не к кому.
Муранова
К. вдова».
Внезапным ледяным холодом
Верке сжало кожу на голове под жаркими,
вечно лохматыми волосами. Холод пролился
вниз по хребту, заставив содрогнуться.
Но Катин упрямо и зло скрипнул зубами:
— Ишь, шутишь, братишка... Ишь, ведь
какие игры... Со старым боцманом... Так,
брат, сразу не бывает... Да еще по почте...
Хотя дата, названная в письме, резанула
ему глаза белой вспышкой, ослепив на
миг: ни на минуту он не забывал этой даты
— 20 августа — с тех пор как отправил
письмо. В тот вечер он его и отправил. В
тот вечер и разговаривал с Иваном и
великими поэтами.
Все это значило
одно: Ивана нет. Злой шутки нет.
Но
Верка продолжал ругаться, обещая вывести
братишку на чистую воду, вот только б
дозвониться до горкома... И он набирал
номер комитета комсомола того городка,
где живет Иван.... Долго не мог соединиться.
Толстым пальцем слепо тыкал в телефонный
диск, не попадал, срывался. Снова
набирал... Никак не мог собрать внимания:
отвлекали от дела, затормаживали
медленные, не телефонно-телеграфного
ритма, гекзаметры Ивана, те самые,
удивившие Федора Ивановича строки о
смерти... Значит, тогда же заметил их
Верка. Да недодумал, недоглядел... А чего
и думать было: все же ясно сказано в том
стихе, где «небо молочное в марте, а
молоко голубое»:
Скоро начнутся
катанья, игрища:
Шины горящие с горок
парнишки возьмутся пускать.
Ну и,
наверное, мне все не так загрустится
И
не захочется в самом начале весны
умирать...
И в другом намек:
Это
не столбы от телеграфа,
Не холодные
гудят стволы березы:
То Россия, мать
голубоглазая,
О поэте проливает слезы.
Чего бы ей проливать, если жив-здоров
сыночек...
И третье воспоминание... Как
же, как же он, Катин, сразу не бросился
в тот Иванов городок, прочтя эти последние,
до истомы предсмертной последние слова,
эту тихую детскую жалобу.
Буду я
рад, если нужен великой России.
Если
я плачу, то стало мне жалко себя:
Словно
я маленьким мальчиком в снежный малинник,
В самый крещенский мороз жить ушел
для тебя...
Зажатая в руке Верки
телефонная трубка взывала к нему жалобным
голосом потерявшегося цыпленка. Он не
слышал. Накатывали на него мерные гряды
гекзаметров, следы Ивановой жизни...
Мертвая зыбь...
...Катин все-таки
достучался до горкома комсомола. Знакомый
инструктор обещал ему разузнать все,
что удастся, об Иване Игнатьевиче
Муранове, очевидно, бывшем моряке, и тут
же сообщить в редакцию.
Он позвонил
уже в конце рабочего дня. Да, был такой
Муранов. Скончался от белокровия. Да,
Катин правильно предполагал: служил во
флоте, на подводной лодке. Детей у него
нет. Родители в деревне. Здесь — жена,
Клавдия Юрьевна. Он сообщил Катину ее
адрес.
И Катин съездил ко вдове Клаве,
прихватив с собой бутылку белой. Помянуть.
Вдова траура уже не носила. Весь траур,
все горе скопилось у нее в глазницах,
серые глаза смотрели как из темных ямин.
Но говорила без рыданий и всхлипов, чего
опасался Верка.
Клава привела его в
комнату с единственным окном. И со стены
у окна глянул на Катина Иван с небольшой
цветной фотографии, очень ясной и чистой,
наверное, иностранного происхождения.
На фоне синего яркого океана под пальмой
стоял невысокий моряк в белой форменке.
Глаза у моряка были рыжеватые, золотистые,
и такого же оттенка прямые ровные брови.
А выражение лица удивленное и радостное:
мол, надо же, куда меня занесло! Где я
стою, мама родная!
Такой человек и мог
написать «Бразилию»... «Эвкалиптовый
сон», так у него называется. В катинском
мозгу сразу очнулся, заискрил золотом
и зноем этот стих. Верке сейчас так не
хотелось слушать тихий ровный голос
Клавы,— она стояла у него за спиной и
рассказывала... А Катин так бы и сказал
ей: «Погоди, а, Клава... Потом бы...» Но не
мог он, конечно, прервать ее... Так они и
стояли перед лицом радостного Ивана. И
Клава говорила:
— Это он уже после
армии. На сухогрузе ходил в загранку...
Без моря, говорил, не могу долго... Ну,
всего год и ходил... Потом слабеть стал...
Врачи сказали — хватит моря... Нужен
свой климат... Ну, здешний... В деревне у
своих пожил... Потом — больница... А под
конец здесь уж,— она кивнула на кровать
сбоку окна, за которым желтели березы...
А Катин и слышал и понимал ее, но
издали, фоном, потому что он вспоминал
вместе с Иваном «Бразилию», а это громкий
стих:
Когда в Бразилии золотой стоят
бразильские эвкалипты,
По мостовой,
по парку, по мостовой, по парку
Вгоняю
свои старые ливанские ботинки
В
расплавленный асфальт.
А в Бразилии
зонтики тонкие, звонкие,
Словно пленкой
прозрачной укрыли мир.
Золотые мартышки
там кричат, как мальчишки,
И огромные
чайки залетают клевать апельсины на
аллею Святого Мартина...
Вот тогда
ощущаешь, что жизнь здесь, у нас,
Мчится
стремительно скучно...
Натюрморт
нарисуешь: тюлевый занавес, чернобривец
в горшке,
Полбутылки кефира на фоне
берез, на окне...
И — забросишь чернила.
И захочешь опять очутиться в той
далекой пиратской Бразилии...
По аллее
гулять в эвкалиптовом сне.
Клава
замолчала, борясь со слезами. Верлибр
повернулся к ней и сказал:
— Ничего,
ничего, Клава, мы все-таки вытащим его!
И на мгновенье, обняв ее за плечо, чуть
притянул к себе. От его слов и братского
жеста она заплакала.
Это уж потом,
когда ее будет расспрашивать следователь,
ей покажется, что и слова Катина и его
краткое объятие — с чего бы? ведь не
родня — очень странны... И свидетельство
ее выйдет кстати: оно объективно, так
сказать, поддержит мнение «Клима
Ворошилова» о невменяемости Катина В.
М., литсотрудника областной молодежной
газеты.
И в самом деле: разве нормальный
литсотрудник сделал бы то, что позволил
себе Катин?
Воспользовавшись правом
выпускающего редактора на своем очередном
дежурстве в типографии, он снял с полосы,
уже подписанной главным редактором,
собственную информацию — что-то о ходе
ремонта в одном колхозном клубе — и
вместо нее поставил «Бразилию» Ивана,
заранее заслав ее в набор как прозаический
текст. То есть «совершил идеологическую
диверсию» — так это было квалифицировано,
только вот ради чего он это сделал, не
могли понять ни в редакции, ни выше.
Сколько разных интересных версий,
сколько сильных слов и выражений
обрушилось и пролилось на голову
Верлибра! А он...
После того как на
первом оттиске свежего номера газеты
он размашисто начертал «В свет!» и
поставил число, час и минуты, и печатная
машина, набирая обороты, пошла пахать
тираж, ветерок от нее, ветерок с керосиновым
привкусом, овеял голову Верлибра легким
дыханием свободы...
Да, этот воздух
легок, так, как легок, разрежен воздух
горных вершин, им трудно дышать. Не
всякий сможет... И Верлибр испытывал
легкое головокружение. Но оно радовало
его, давало ему ощущение особенной
полноты жизни. Будто до сих пор прозябала
в нем половинка ли, четвертинка ли его
самого, а теперь Бог послал ему недостачу,
воскресил... Или будто то истинное, что
есть он сам, жило в нем скрючившись,
скорчившись, и вот распрямилось,
расправило плечи в полный разворот, и
грудь во весь свой объем приняла свежего
ветра.
Это счастливое преображение
отразила и его внешность: исчез колючий
прищур, глаза смотрели доверчиво-обреченно,
впрямь как у чистой девушки, глядящей
на своего возлюбленного; волосы как бы
отдуло со лба, и лоб вдохновенно белел...
И движения стали свободней, гибче...
В
Верке теперь не переставая звучала
какая-то не знакомая ему до того просторная
мелодия, и незаметно для себя он то и
дело напевал... Окружающим, однако,
слышались в его мурлыканье знакомые
мотивы: то вроде песня «Растем все шире
и свободней...», то романс «Клубится
волною горячею кровь...», то плясовой
ритм «Перевоз Дуня держала, держала,
держала...».
Радостен, спокоен и
доброжелателен был Верлибр те два дня,
пока ходил еще на работу и, без отрыва
от производства,— к следователю. Он
ясно и доверчиво, не затрудняясь и не
путаясь, объяснял все свои действия и
причины, к этим действиям его побудившие.
И, может быть, все и закончилось бы для
него снятием с работы «за использование
служебного положения в личных целях и
обман доверия коллектива и руководства
редакции». Ну, может, на худой конец дали
б срок принудработ... Если б не его
выступление в обкоме партии!
Вроде
он сначала и не собирался никак выступать.
Повиниться хотел, объяснить про Ивана...
И редактору дал слово не выступать...
Но лишь увидел лицо с маленьким носиком
и явно торжествующие бледные глазки
«Клима», благодушие покинуло его. И
прорвало его и «Климентом Ефремовичем»,
и всем прочим... И что он говорил, что
нес! И — кому!
— Я уже наслышан,
уважаемый Климент Ефремович...
— Это
что за Климент...— грозно оборвал его
секретарь и... почему-то тут же замолчал...
— Простите... Я уже наслышан о вашем
мнении о моем... м-мм... поступке... Будто
я напечатал стихи погибшего за Родину
моряка, дабы подорвать могущество и
авторитет оной и дабы прославить
буржуазный строй Бразилии. Но, увидев
вас сейчас — да-да сейчас! — я другое
понял! В ваших глазах я читаю радость.
Торжество. Вы рады — наконец-то! —
разоблачить лицо врага...
Тут редактор,
присутствовавший на приеме, возвысил
было голос:
— Ты что себе позволяешь...
Но «Клим» его прервал и даже понукнул
Катина:
— Ну-ка, ну-ка: интересно!
А
тот и рад:
— О, даже два вражеских
лица: в моем — еще и лицо моряка Ивана
Муранова! Я вам доставил эту радость...
Где ж их по нынешним временам найдешь,
врагов-то... С лицами...
Катин собирался
еще что-то сказать, но, видимо, «Климу»
хватило для выводов.
— У вас все? —
почти весело спросил он.— Отлично...
И
нетерпеливо вскочил, словно вот сейчас
побежит куда-то.
— Спасибо, спасибо!
Теперь мне ясна картина... Всего хорошего.
Верка ушел, а редактор было задержался,
медлил уходить, хотел что-то объяснить,
но кивком и взглядом ему указали на
дверь.
Когда вечером того же дня
домой к Верлибру приехала «скорая
помощь» с четырьмя добрыми молодцами
в белых халатах, он все же удивился
сначала. Однако быстро сообразил, что
к чему, и рассмеялся. А рассмеявшись,
долго не мог остановиться, только
приговаривал:
— Ах, вот почему молния!
Ах, я дурак, не понимал! Вот тебе и мертвая
зыбь! Ну, Клим! Ну, прямо соавтор!
Но
санитары не удивлялись этим странным
словам и смеху литсотрудника Верлибра
Катина, знакомого им по статьям в
молодежной газете.
Они привыкли к
своей работе.
Они были нормальными
людьми.
1989, июль
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





