ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


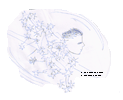
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Пистунова Александра 1980
Увитый плющом палисандровый посох, сухой и легкий, в три четверти человеческого роста, с завершьем в виде плоского кулачка. Приближающийся к алтарю Вакха, покровителя поэтов, держит его в левой («счастливой», по мнению римлян) руке, потом останавливается возле огня — светильника, где горит масло богини мудрости Паллады.
Этот посох назывался тирс, масло Паллады было оливковое, зеленоватое... Взять тирс, подойти с ним к огню мог не всякий: тысяча встречных на пути к поэтическому алтарю должна была утвердительно и строго по форме ответить этому страннику на вопрос: «Знаешь ли меня?» Тысяча: «да, знаю и люблю». А если не уверен, что девятьсот девяносто девятый скажет именно так, то не бери великий тирс, не думай, что можешь опираться на славу, греть пальцы возле священного огня...
Есть многие, которым тысяча встречных и сегодня скажет: «Знаю». Немногие, которым ответят: «Знаю и люблю». Николай Васильевич Кузьмин, книжный график и писатель, один из тех, кто по праву может взять тирс в левую руку. Литератором стал он не так уж давно, лет двадцать пять назад. Художником был с отрочества. Его специальность в изобразительном искусстве — иллюстратор: «проливающий свет». Его литературный жанр — биографическая проза, которую не стоит путать с мемуарной, ибо фокус эпохи, система жизни, пусть единственной, а не крохи памяти составляют суть такого жанра! Но точнее назвать Кузьмина всеобъемлющим словом поэт. Не от того, что именно поэзия русского стихотворчества (Пушкин, Лермонтов) и русской прозы (Гоголь, Лесков) сосредоточивала всегда его художественные устремления. О, вовсе не потому. Поэт — означает, по нашему мнению, особый способ бытия, отношений с людьми и миром.
Поэт? Позвольте, он никогда не рифмовал, даже в далеком от нынешних девяти десятков лет детстве. Он бормотал стихи, проникая в их душу, он помнит многие сотни строк в таких сочетаниях, которые мало кому доступны. И однако всякий факт его творчества, его бытия — стихи, их краткая громадная емкость, простота, афористическая прелесть. Он — поэт, ибо не искусство служит комментарием его личности, но личность — всего лишь комментарий его искусства.
Как наградила меня судьба, сведя с этим человеком в ранней молодости, когда видеть перед собою пример безгреховной, не знающей компромиссов, расчетов, корысти, не терпящей и малейшего отступления от кодекса порядочности жизни — так важно. Патриархи: Коненков, Сарьян, Корин, Дейнека, Фаворский, Пластов — мыслители, новаторы, щедрые душою люди, великие художники — тоже были мне знакомы в их последние годы, и счастье часов общения с ними незабываемо. Но Кузьмин соединил в себе одном, что было лучшим в каждом из них: прямодушие, серьезность, непосредственность, благородство, простоту, сердечность. Он не был ласков, однако открыт и доступен. Не говорил, что презирает хвастовство, фальшь, вульгарность, напыщенность — он шутил, любовался чужим искусством, иронизировал, вспоминал. Рисовал, разрешая мне видеть, как рука, не отрываясь от листа, оставляет на нем линию без обрыва, не знающую поправок. Он никогда не давал советов: прочитайте, посмотрите. Просто делился прочитанным, увиденным, заражая своим восхищением. Даже если его гостем оказывался молодой мужчина, Кузьмин, прощаясь, подавал ему пальто. Он не умел жаловаться на занятость или недомогание, бранить, завидовать, жадничать. Он не мог не заметить чьей-то удачи, забыть чей-то праздник или беду. С первого мгновенья, когда он открыл мне дверь в мастерской на Советской площади, с ним было легко: никакой позы, дистанции авторитета, отодвигающей вежливости... Так было четверть века назад и никогда иначе потом. Около Николая Васильевича жизнь кажется вечной. Что это: его оптимизм или его искусство? Это он. Однажды я жаловалась ему, делилась с ним каким-то огорчением. Он процитировал Бунина: «Поверьте, все в жизни проходит и не стоит слез, а самая большая беда — это печаль!»
Он живет теперь уединенно: таково условие возраста — мало физических сил и все отданы творчеству. Читает, рисует, пишет, любит слушать хорошую музыку. У него прекрасные сыновья. Но главная радость его жизни — жена, Татьяна Алексеевна Маврина, художник того же высокого ранга, что и Кузьмин, мир называет ее «русским Матиссом», но, разумеется, определение это условно, как всякое.
Я чувствую всегда в этом доме дружество Николая Васильевича с женою, какую-то знаковую их близость, летучий обмен мимикой, фразой, прикосновением, кратким взглядом. Здесь совсем незначительны процедуры быта, которого оба словно бы не замечают, зато скрыто-огромна острая нежность, обращенная к книге, рисунку, слову, создаваемым ими так несхоже и так родно друг другу. Оба они фантасты, оба сказочники. Обоих страстно волнует древнее, старое — и русское, и античность, и Европа. Однако оба формировали свое искусство на видимом, живом и современном в конце двадцатых — начале тридцатых. Рисовали на улицах, пляжах, на дорогах, ходили пешком по Руси. Тогда-то, вероятно, оба они поняли, что, кроме прошлого, настоящего и будущего, есть еще одно время: вечное. Сказать им об этом — посмеются, терпеть не могут выспренних слов. Но что поделать — единственно, решительно верным является только это определение их общей творческой задачи — вечное.
Надо сказать еще, что, бесконечно уважая творчество другого, каждый из них не любит, когда публично говорят об их семейной связи. Не желают отъять для себя и крупицы достижений близкого человека? Прикрыться ими? Не выносят рекламных святочных историй о счастливых избранниках? Все это верно. Поэтому я ограничиваю разговор о Кузьмине и Мавриной вместе, да ведь и рассказ мой — лишь о Николае Васильевиче.
Пятнадцать лет назад я написала о Кузьмине книгу. Там было много юношеской восторженности, неточных фраз, незаконченных рассуждений. Но хочу признаться: не поправлю там ни слова, ни запятой, не посмеюсь над своим литературным несовершенством, хоть, возможно, нынче написалось бы несколько лучше. Разве можно отказаться от старого письма с объяснением в любви, даже если сегодня было бы стыдно так открываться? Предмет моей любви не изменился. Теперь я люблю этого человека еще больше, чем прежде, хотя тогда, полтора десятилетия назад, казалось, что невозможно чувствовать острее и мои черновики обжигали мне пальцы.
Деревня, где я работала свою книгу, называлась Марьина Гора — недалеко от Абрамцева, там Кузьмин живет летом. Я приезжала к нему, сидела на крылечке перед заросшим садом, ходила с ним и Татьяной Алексеевной к роднику, из которого, как говорят, Аксаков поил Гоголя. А потом возвращалась к себе, укладывала в грибную корзинку исчерканные странички и читала их вслух под большой елью, открывавшей дорогу в лес. Ель снисходительно меня слушала. Веселый чертик, блюститель несуразиц и оговорок, качал ее нижнюю лапу, притворяясь синицей, и мне хотелось, чтобы слова на моих страницах были похожи на ее простую песню.
Тем летом Николай Васильевич подарил мне «Евгения Онегина», книгу, вышедшую в год моего рождения в издательстве «Асаdemia» с его удивительными иллюстрациями. Том был старый, желтый футляр поизносился, на титуле стоял каллиграфический автограф Кузьмина. Эта книга была мне знакома, как ни одна другая. В дни доблокадного ленинградского детства она всегда лежала на рояле вместе с пушкинским однотомником, и я рассматривала ее, еще не зная букв. Отец и мать читали мне «Онегина». Это было на Мойке, в доме № 25, стоящем напротив дома № 12, где жил Пушкин. Можно сказать, что я выучилась читать года в четыре для того, чтоб не мучить родителей бесконечной просьбой об «Онегине». Что я тогда понимала в гениальном романе? Верьте или нет, но сейчас кажется, что понимала и слышала все то же, что и теперь. Меня учили помнить свой адрес, если потеряюсь: Мойка, напротив дома Пушкина, и я считала, что автор «Онегина» в самом деле живет в бельэтаже коричневатого здания, где зашторены окна. Я точно знала день и час, когда он выходит на прогулку: ранние сумерки дождливой осени. Поэт в высоком цилиндре и плаще-пелерине, он один на набережной Мойки, и свинцово-серая туча над его головой ползет к домам на нашей стороне канала, отражаясь в зеленой воде. Таков был Пушкин на первой левой странице моей любимой книги, тогда я не знала, что эта страница называется «фронтиспис».
Когда начинали меркнуть октябрьские короткие дни, я взбиралась на подоконник и выглядывала знакомую легкую фигуру на тротуаре, сложенном из прямоугольных каменных плит. Но пусто было возле дома напротив. Однажды под пушкинскими окнами, возле пологих ступеней, ведущих к воде, кто-то привязал большой смоленый баркас. Он колыхал тяжелую густую Мойку, стоял всегда пустой, словно бы ожидающий, и я следила: в этот баркас спрыгнет Пушкин и уплывет...
Пришла зима, Мойка замерзла, черное суденышко вросло в лед, но я продолжала присматривать за ним. Однажды на той стороне появились старинные кареты, из них выходили дамы в длинных платьях и коротких шубках, мужчины в пелеринах и цилиндрах, как у Пушкина. В Ленинграде снимали фильм о поэте. Однако это потом узналось про фильм, а в тот день — просто ожили рисунки на полях моего «Онегина». Заклеенную балконную дверь растворили, и мы, трех-четырехлетние ребятишки, стали смотреть, что же происходит. Из деревянных ворот вынесли желтую восковую фигуру в раскрытом гробу, и тогда раздался детский крик: «Пушкин, не умирай, пожалуйста, не умирай». Когда-то я писала об этом. Но почему-то не в силах была сказать, что то был собственный мой крик и что те волнения, ту печаль, тот детский голос я ношу в себе много лет.
Когда кончился день съемок и у нас топили печь-голландку, отец посадил меня на скамеечку возле огня, открыл Пушкина и прочел:
...Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
— Еще! — попросила я.
Отец держал в руках книгу, и отсветы огня плясали по раскрытым страницам. На одной стороне были стихотворные строфы. На другой — живой, вечный Пушкин, держа в руке гусиное перо, собирался прикоснуться к листам бумаги, и свеча мерцала и таяла около острого кудрявого профиля... Буквы я уже знала и спросила: папа, что такое «Н. К.» под рисунком? Отец объяснил — это инициалы художника Николая Кузьмина, он рисует так, как рисовал Пушкин, и все иллюстрации в нашем «Онегине» — его. «Рисует как Пушкин?» — «Да».
В тот день я узнала, что существует смерть, но сильнее ее — вечность. Что где-то живет человек, умеющий делать свое дело, «как Пушкин». Имя его художник, инициалы Н. К. Что любовь, которая называется искусство, есть мост между землею живых и землею мертвых. Мост с одной стороны Мойки на другую.
Прошло почти двадцать лет с того дня. И однажды летом, уже в Москве, воображая себя критиком и получив задание газеты написать об иллюстрациях Татьяны Мавриной к «Сказке о мертвой царевне», я позвонила в дверь на последнем этаже большого серого дома около памятника Юрию Долгорукому. На пороге стоял стройный легкий человек, чуть седой, с веселыми зелеными глазами. «Таня, к тебе». Вышла Маврина. «Познакомьтесь, — сказала она, — это Николай Васильевич Кузьмин».
Он понял, что я его знаю, видел, какого труда мне стоило подать ему руку, почувствовал, как сжалось мое сердце. И легонько подтолкнул меня вперед, в комнату, совсем непохожую на мастерскую. Там стоял простой сосновый стол, по желтым доскам бежало солнце, останавливалось в хохломской чаше с золотым медом, мокро сияло на гжельской тарелке с клубникой и тонуло в букете полевых цветов, собранных небрежным пуком в глиняном кувшине. Меня усадили на сундук возле этого стола и стали хлопотать о чае, о рюмочке (оказавшейся старинным кубком зеленоватого стекла с мавринской росписью), почему-то заговорили о Гомере и незаметно вовлекли в беседу застывшую меня. О Гомере и о чае говорилось одинаково просто. Потом на этом же столе, сдвинув в сторону чашки и оплетенную бутыль с вином, Татьяна Алексеевна показывала «Царевну». Румяный шар катился по ее страницам: щеки мохнатоглазой красавицы, солнце, отравленное колдуньей яблоко... Все было тут круглое, легкое, певучее, как пушкинская сказка. Кузьмин сидел рядом со мной на сундуке и смотрел на чудесное это рисование, словно впервые. Странное дело: этот человек — легенда детства — ничем меня не стеснял. И вместе с тем не все позволял сказать. Не могу объяснить, как это получалось. Однако знаю, что та первая встреча с ним и Татьяной Алексеевной была уроком гигиены души и слова. Я увидела Художника, поняла, что произведение, поражающее зрителя, для него, живущего в благородной атмосфере собственного духа, — почти обыденное дело. Но акт другого творчества, свершающийся рядом с ним, даже вот так близко, семейно — он воспринимает тайной, чудом, не перестает ему удивляться. И кроме того способен, воспринимая, подняться, словно бы к самой высокой точке обзора — на гору, откуда хорошо виден мир. Гигиена души и слова не позволит ему произнести громкую фразу. Благодарно и радостно, как бы издалека смотрели зеленые глаза на мавринское рисование, на остолбеневшую юную гостью, которой так хотелось заорать что-нибудь про Пушкина, про любовь, про искусство.
Вся светлая печаль (ибо радость, бывает, ранит, как печаль), вся радость того июньского дня всегда со мною. В мастерской на Советской площади была тогда еще и молодая женщина с мальчиком. Их лиц не помню. Но слышу явственно, как Николай Васильевич, провожая, спросил мальчика: «Читаете ли вы вслух и смеетесь ли, если встречается смешное?»
Кто еще мог бы задать такой вопрос? Он вернул меня к зимнему вечеру у печки, и, придя домой, я сказала отцу: «Представь себе только, я видела «Н. К.»!» У нас не было ужо ленинградского «Онегина» — он пропал в блокадном городе. Но на другой день отец принес мне библиотечный том. И, смещая времена, видя перед собою человека, шествующего с тирсом к высокой горе, где стоит алтарь Вакха, ощущая пожатие его руки, слыша его смех, мужественный голос, — я верила и не верила в «Н. К.». На полях желтоватых страниц верже, где застыл парад литых черных строф, рисовал их гениальный автор. Ведь он-то живет вечно, мы в полной его власти. Быть может, это он, надев на большой палец художника свой талисман — волшебный перстень, вложил в легкую руку Кузьмина перо, едва задетое черными чернилами, а потом акварельную кисть, на хвостике которой совсем мало краски...
С этим «объяснением», а вернее, с этой тайной, столь мне попятной, я провела несколько лет, часто видя Н. К. и Татьяну Алексеевну, бывая с ними в музеях и на полевых дорогах, в их мастерской и дома, на веселой кухне, увешанной расписанными Мавриной подносами, в маленькой комнате Николая Васильевича с шахматным столиком, на котором в разных сосудах стоят в строгом порядке его перья, кисти, карандаши.
Тайна всегда сопутствует большому искусству, более того — она его вернейший и, быть может, единственный признак. Кажется, мы знаем о ком-то из творцов всякий его день и час, друзей и врагов, дневники и письма, любимых и детей, дома, где он бывал, его маршруты, замыслы, способы и технику его искусства... И чем больше знаем, тем таинственнее для нас его создания. Мы жаждем узнать что-нибудь еще и только прибавляем новые страницы к некоей книге напрасных обещаний. И все равно мнится: явись еще какой-то документ, факт, камушек, засохшая между страниц травника — тайна разъяснится. Мнится, хотя мы точно понимаем: она не откроется никогда.
Работая книгу о Кузьмине, я видела кипы черновиков к «Онегину» и обязываю себя помнить, что иллюстрации эти рождены неслыханным трудом, крутым, почти отвесным подъемом по лестнице совершенства. И все же, когда раскрываю старый том, то вижу творческий процесс работы художника только так: он прочел Пушкина и словно бы его забыл. Дуновение, аромат, золотой свет одни остались с ним, и, чтобы вспомнить слово, воспроизвести музыку, задвигалось перо, утешая его память невесомой точностью пластических образов.
Кузьмин никогда не предавался скуке вымученного благоговения перед солнцем русской поэзии. Он волшебно живет где-то совсем недалеко от Пушкина, и всякий, кто его знает, чувствует это, глядя в его глаза: зелено-серые, странные, как бы не приученные к близким расстояниям, привыкшие ловить проблеск звезды между тучей и месяцем. Однако: как и где начинался этот художник, ни с кем не схожий, этот открытый человек, похожий на любого старого русского интеллигента?
Родом Николай Васильевич из Сердобска, маленького города возле Пензы. Он называет своих родителей «честными ремесленниками», и это, вероятно, правильно, но ремесленники: отец — портной, мать — дамская мастерица, кружевница бабка и дед-садовник хранили в себе доставшуюся им в наследство от многих бывших прежде поколений великую крестьянскую духовность, живое художественное чувство, умение удивляться. Да и профессии у них были такие, которые ныне мы считаем творческими. Мать Николая Васильевича, Елена Михайловна, славилась умением составлять букеты, а фантазию маленького сына старалась пробудить, нарезав в мелкое крошево всякую пестрядь со своего портновского стола — лоскутки шелка, цветную синель, шерсть, гарус, ссыпала ее в конвертик или тюричек из бумаги и учила смотреть туда через дырочку: «Гляди-ка — сады растут, цветы цветут!»
— Я глядел через дырочку, — вспоминает Кузьмин, — и впрямь видел райские кущи.
Я поразилась, узнав о тюричке с лоскутками, — да это же нынешняя игрушка — калейдоскоп с цветными стеклышками, обжигающий детский глаз цветовой радугой, одно из самых первых фантастических впечатлений, вызывающих художественное чувство малыша.
— Родники били всюду на земле моего детства, — говорит Николай Васильевич, рассказывая о пейзаже сердобских земель. — Луга, степные озера, петляющая по равнине река с водяными мельницами и лесами по бережкам...
Таким ключевым родничком была и семья будущего художника: мать, создающая из лоскутков райские кущи, отец, выучивший его читать пяти лет от роду по старому тому Лермонтова, всегда лежавшему в ларе на погребце. Василий Васильевич писал буквы мелом на портновском катке, а мальчик складывал из них слова по огромной книге, которую едва мог удержать на коленях. А рисовать он стал еще раньше. «Я рисовал всегда», — говорит Кузьмин. Заказчицы матери знали, что лучшим подарком для мальчика будут дешевые краски и цветные карандаши.
Дорого бы мы дали, чтобы посмотреть те рисунки... но их унесло ветром давних времен.
В этом раннем детстве, которое мы пытаемся увидеть с нынешних седых вершин Кузьмина, еще один факт представляется особо важным: первая встреча с Пушкиным. В мае 1899 года, когда Россия отмечала столетие со дня рождения поэта, лучшему ученику первого класса Сердобского городского училища Коле Кузьмину был вручен памятный подарок — однотомник Пушкина.
— Однажды, — рассказывает Кузьмин, — я прочитал в однотомнике:
Надо мной в лазури ясной
Светит звездочка одна,
Справа — запад темно-красный,
Слева — бледная луна, —
и сразу увидел этот закатный пейзаж, какой и сам не раз наблюдал: и звездочку, и луну, и красный запад.
К стихам я сделал тогда рисунки; один к отрывку «Альфонс садится на коня» — пейзаж с двумя повешенными:
Кругом пустыня, дичь и голь...
А в стороне торчит глаголь,
И на глаголе том два тела
Висят...
Так вот когда — восьми лет от роду — Кузьмин впервые иллюстрировал Пушкина!..
Корней Иванович Чуковский назвал однажды Кузьмина «самым литературным из всех наших графиков». «Было невозможно понять, — пишет Чуковский, — откуда у него такая литературная хватка? Отчего каждый его книжный рисунок так родственно близок той книге, которую он иллюстрирует?.. Все дело в понимании текста, в умении вдумчиво и проницательно прочитать этот текст. Нужно быть талантливым читателем, а талант этот так же редок, как и всякий другой».
Интересно проследить, как родился и окреп этот — один из многих — кузьминский талант. Помните фразу Горького: «Любите книгу — источник знания!» Эти слова мог сказать только тот, для кого книга была всем на свете, учила говорить, любить, общаться с людьми и верить в них, открывала горизонты, эпохи, миры, создавала человека. Такую фразу мог бы сказать и Кузьмин, и она в равной степени была бы результатом его собственной биографии.
— Книжное все воспитание мое, — говорит Николай Васильевич.
В этом случае «книжное» не противопоставление «жизненному», а продолжение его: книга просто раздвинула рамки жизни, вошла в жизнь как первая необходимость. И создала образованнейшего человека, воспитала художника.
Книги были самыми красивыми вещами, которые держал когда-либо в руках сын портного, а Коля благоговел перед красотой. Он сам приучил себя мыть руки перед чтением, да и сейчас, собираясь читать, Николай Васильевич моет свои сухие легкие руки, а показывая мне библиотеку, говорит:
— Подите помойте руки, и там в ванной мохнатое белое полотенце — это «книжное».
— Я, — рассказывает Николай Васильевич, — с наивностью провинциала послал свои рисовальные опыты в редакцию «Золотого руна», объявление о котором вычитал в газетах. Мне удивительно повезло: рисунки мои увидел в конторе журнала Сергей Кречетов, редактор-издатель «Грифа», взял их для своего альманаха и выслал мне в качестве гонорара первый номер «Золотого руна», великолепно напечатанный красками и посвященный Врубелю!
«Сердобск, Саратовской губернии, господину Николаю Васильевичу Кузьмину...» Таких бандеролей никогда не получал никто в кузьминском роду. Отец, предлагавший Коле «садиться за иглу», был поражен, мать — открыто и безмерно счастлива. Коля разложил блистающий красками номер на отцовском катке, за которым тот кроил и сметывал жилет для купца-соседа, и погрузился во Врубеля. Он так и не узнал, были ли когда-нибудь помещены принятые рисунки, но одобрение и гонорар были тогда даже важней этого — ведь купить «Золотое руно» было бы не по средствам Коле, хоть и получавшему в то время кое-какие деньги за репетиторство.
В те ранние годы более всего он рисовал по памяти — у него создалась привычка запоминать человеческий облик, костюм, движения, типические жесты, характерную манеру сидеть, говорить, улыбаться. Рисовал он по памяти и архитектуру, городские интерьеры, животных, цветы. Эта тренировка зрительной памяти стала прочной базой будущего кузьминского творчества — ведь иллюстратор обязан знать и помнить все; любимый Кузьминым Дорэ так и говорил о своей работе: «Я вспоминаю...»
Странно — в те ранние годы Николая сложилось не только призвание Кузьмина, но и профиль этого призвания. Он никогда не стремился к живописи или скульптуре, характер его дарования был графический, и подросток, не имевший в уездном городе никакой художественной среды, сам «поставил диагноз» своему призванию. Случай феноменальный — так однороден и крепок бывает лишь большой талант, главная примета которого — самодостаточность.
— Я решился послать наиболее удавшиеся мне рисунки в московский журнал «Весы», постоянным подписчиком которого был, — рассказывает Николай Васильевич. — Журнал, выходивший под редакцией Валерия Брюсова, одного из моих любимых поэтов, очень мне нравился. Я долго собирал пять рублей, необходимые для подписки, но когда стал его получать, не был разочарован — замечательная проза, стихи, искусствоведение. И вот в этот-то журнал, где печатались такие художники, как Сапунов, Судейкин, Крымов, Якулов, Пастернак, Борисов-Мусатов, Сомов, Бакст, Юон, я, мальчишка из Сердобска, послал свои рисунки. Сам удивляюсь тогдашней своей смелости... Но... два рисунка были напечатаны. Случилось второе чудо.
Рисунки появились в шестом номере «Весов» за 1909 год. Отчетливо помню летний солнечный день, воскресенье, я сижу у стола с только что полученным номером. В литературном отделе повесть Андрея Белого «Серебряный голубь», статьи Брюсова, Сергея Соловьева. Вот и рисунки: Н. Кузьмин. «В парке». Он же. «Сокольничий»...
С редактором «Аполлона» Сергеем Маковским Коля Кузьмин был знаком задолго до того, как получил от него письмо с одобрением посланных в «Аполлон» рисунков. Постоянный автор «Журнала для всех», образованнейший искусствовед, его всегда было интересно читать. Правда, Маковский постоянно выдвигал тезис, с которым сердобский реалист, будь он постарше и почитай большую литературу, не согласился бы. Маковский много знал, проповеднически владел словом, утверждая, что нет в мире правды, только — красота, а в истории остается лишь запечатленное искусством. При всей любви и потрясенности Коли Кузьмина искусством, с этим он вряд ли был согласен. Правда и реальная жизнь как предмет изображения — вот что было главным для него в великом Рембрандте, в Гойе, в Александре Иванове... Но ведь это легко формулировать теперь, а тогда редактируемый Маковским журнал «Аполлон» был для юноши источником познания современной живописи, графики, скульптуры. В «Аполлон» Коля послал рисунки книжных украшений — они были уверенны и изящны. Маковский направил «г-ну Николаю Васильевичу Кузьмину» заинтересованное любезное письмо с предложением присылать новые работы. Это было еще в последнюю сердобскую зиму перед окончанием реального училища. Рисунки Н. Кузьмина появились рядом с иллюстрациями Александра Бенуа, Бориса Кустодиева, Евгения Лансере.
Собираясь в Петербург, в Академию художеств, сердобчанин намеревался зайти в «Аполлон», со всеми познакомиться и представиться.
Еще до экзаменов в Академии Кузьмин пошел в редакцию «Аполлона». В приемную вышел редактор Сергей Маковский — представительный, одетый изысканно, с длинными ухоженными ногтями и браслетом-цепью на руке, с запонками величиной с блюдечко на манжетах...
— Он пригласил зайти в соседнюю комнату и церемонно представил бывшему там обществу: сотрудник нашего журнала Николай Васильевич Кузьмин... Все присутствующие были удручающе комильфотны. Я донашивал серую ученическую блузу и чувствовал себя в этом блестящем обществе очень неловко... Раскрыл свою папку и выложил рисунки. Маковский взял несколько для журнала...
Какая обычная странность: в биографиях замечательных людей искусства часто найдем мы «дни отторжения». Шаляпина не принимали в хор, Кузьмина не приняли в Академию художеств. Глубокое мое убеждение: художник — всегда самоучка. Преодолевший отторжение, сам себя построивший человек, даже если ему встретились умные учителя. Притом вовсе необязательно конкретное руководство — самоучка выбирает себе учителей, иногда ушедших за горизонт веков. Так случилось и с Николаем Васильевичем.
Музеи в ту петербургскую осень заполняли собою все. Бродя по эрмитажным анфиладам со своей тетрадочкой для записей, он был богат и радостен, как нигде и никогда. Великие тени окружали его и благодарили за горячую к ним любовь.
А позднее, когда в Русском музее открылся зал древнерусской живописи, он никак не мог уйти от ликов в иконном зале... Иконы в музее — то была революция в русском искусствоведении. Прошло лишь несколько лет с той поры, как московский художник и коллекционер Илья Семенович Остроухов расчистил первую черную доску... Раньше это считалось немыслимым. Даже Виктор Михайлович Васнецов, собравший множество старых икон, будучи верующим человеком, не решался «прикоснуться к святыне» — реставрировать иконы. Открытие древней русской живописи, открытие иконы как произведения искусства принадлежало атеистам. Молодого художника, уже несколько лет гордо несшего свое вольнодумное безбожие, поразила древняя живопись — она открыла ему горизонт родного искусства, и на нем стояли могучие великаны — художники раннего средневековья России.
— Помните, как в толстовских «Казаках» Оленин, подъезжая к Кавказу, впервые увидел горы и потом все время к ним возвращался взглядом: «А горы? А горы?», будто соизмеряя с ними себя самого, свою жизнь, любовь, отношение к людям, — рассказывает Николай Васильевич о первой своей встрече с древнерусским искусством. — Вот так же было с нами, молодыми людьми той поры. Мы поняли, что мы не безродны, что у страны нашей есть своя художественная история.
Кузьмин начал посещать частные художественные курсы Званцевой, где занятиями руководили Бакст и Добужинский, а во время отъезда Бакста в Париж его заменял Петров-Водкин.
— Петербургские белые ночи столько раз описаны и воспеты, но кто описал черные петербургские дни? Проснешься утром — за окном ночь, посмотришь на стрелки, боже, уж девятый час! На улицах повсюду фонари, освещены окна домов и витрины магазинов — ночь ли? День ли? Желтый туман висит над улицами, мокрый снег падает медленными хлопьями, у встречных прохожих бледно-зеленые лица мертвецов — какой призрачный, неправдоподобный город... Ох, и тосковал же я с непривычки в этом заколдованном царстве по нашей провинциальной зиме, с морозами, со сверкающими под солнцем снегами, с деревьями в инее, с розовыми закатами и синими сумерками...
Всякий раз, когда я слушаю или читаю воспоминания Николая Васильевича, меня пронзает точность и «зримость» каждого его слова. Быть может, оттого, что я знаю продолжение всей его биографии в искусстве, в книге? Кузьмин говорит о петербургских днях, а я вижу этот холодный «зеленый» город в его перовых рисунках с подложенным акварельным фоном — словно воздух тех улиц, на которые выходил утрами двадцатилетний одинокий юноша, спустившись по лестнице, пахнущей кошками, и шагающий на голодный желудок до середины дня. Деньги-то, сердобские репетиторские медные гроши, он стремился протянуть подольше.
И отчего-то этот «зеленый» зимний туман я чувствую больше всего в самой веселой из книг Николая Васильевича, в его «Козьме Пруткове». Может быть, потому, что шутливая фигура директора пробирной палатки рождена петербургской почвой, фантастическими силуэтами зеленого тумана на улицах чиновничьего города? Не знаю, трудно объяснить. Значит, художнику надо было почувствовать сырость, пробирающую до костей при невеликом морозе, чтобы холод этот сжал мое сердце над кузьминским фронтисписом к «Онегину», где Пушкин в такое вот ноябрьское петербургское утро стоит на набережной Мойки, опершись на чугунный парапет, а зеленый туман ползет над крышами домов, над рекой... Этот акварельный фон, этот цвет не просто найден, он пережит старым мастером в юности.
И снова лето в родном доме, разговоры с матерью, постаревший и ставший ниже ростом отец, ученики, ожидающие столичного репетитора. Лето уже проходило, истекал июль, мелела Сердоба, начался август и вдруг... война. Сколько ни читаешь о войнах, даже самых древних, — для простого человека они всегда начинаются «вдруг». Оказалось, что Николай — ратник второго разряда, призывается во вторую очередь как старший сын, опора родителей.
Скоро повальная мобилизация коснулась и ратников второго разряда. В начале зимы из них отобрали тех, кто был со средним образованием, и отправили в военное училище в Казань. Согласия не спрашивали.
— Я всегда ненавидел белые погоны и тонкие офицерские ножки, затянутые в сапоги, — говорит Николай Васильевич. — Но до Казани то было чувство разночинца, стихийное неприятие фрунта, муштры, рукоприкладства, вульгарного лексикона, — словом, всего комплекса понятий, связанного с царской армией. Старшие юнкера «цукали» новичков, заставляя их выполнять всякие глупые и унизительные приказания. Я не стал терпеть пошлых выходок. Да и какой я был юнкер — взрослый человек двадцати четырех лет! Я все мечтал тогда надеть белый костюм — он казался мне символом цивильности, свободы, антиподом подлой службе.
Весной 1915 года Кузьмин попал в саперную роту второго сибирского корпуса и был отправлен на фронт. Рота, в которой он служил, обслуживала целую дивизию, поэтому ее без конца переводили с одного участка фронта на другой — в таких условиях невозможно раскрыть книгу, а не только разложить предметы для рисования. И все-таки были альбомы рисунков. Саперы знали Кузьмина как «прапорщика, который рисует», он умел поставить себя товарищем этих бородатых мужиков и году к семнадцатому «с удивлением обнаружил, что популярен в солдатской массе». Прапорщика Кузьмина выбрали от батальона делегатом на армейский съезд с наказом голосовать за мир.
Весной 1918-го Кузьмин, снявший ненавистные погоны, ненадолго вернулся в родной город. Теперь Николаю Васильевичу уже двадцать семь лет. Дома сумрачно, холодно, всю зиму не хватало дров. Лавки закрыты. По ночам из-за углов стреляют бандиты...
Сердобские коммунисты решили выпускать в городе свою газету — пропаганда советских идей была насущно необходима. В этой газете будущий «Н. К.» стал художником и корректором. Кузьмин был счастлив. Он полюбил редакционный шум в дневное время, когда там собирались селькоры из комбедовцев, слесари, сочинявшие стихи, укомовцы, писавшие передовицы, и ее тишину, запах остывающей типографской краски, клея, чернил, сыроватой бумаги в поздние часы, когда он держал в своих руках горячее слово, которое завтра будет вершить судьбы его родного края. Для «Голоса коммуниста» Николай Васильевич начал резать линолеумные клише и с той поры на несколько лет «заболел» линогравюрой. Награвированный Кузьминым шрифт стал заголовком газеты. Увидав несколько почти истлевших номеров газеты, я поразилась тому, какой эмоциональной емкостью может обладать шрифт. Кузьминский заголовок патетичен, яростен, он останавливает взор. Один силуэт этого шрифта в состоянии поведать сегодня о том времени, когда определялась цена крови, хлеба, слова, свободы.
Кузьмин был мобилизован в Красную Армию. Он стал командиром саперной роты, а потом дивинжем в знаменитой 15-й стрелковой Инзенской дивизии, о которой знают все, кому приходилось когда-нибудь хоть немного изучать историю гражданской войны.
Кончилась гражданская война, а дивинж Кузьмин все еще служит в армии — строит мосты через горные речки между Владикавказом (ныне Орджоникидзе) и Петровском-Портом (Махачкала). Северный Кавказ, пушкинские и лермонтовские места... Только летом 1922 года он демобилизуется — наверное, можно было сделать это и раньше, но привык к армии — восемь лет ранней зрелости прошли в военной форме.
Тридцать два года, но как мало сделано из задуманного в юности! Хорошо бы еще поучиться, посидеть в рисовальном классе. Может, поступить в Академию художеств, вернуться в Петроград?
Двадцать второй год. Всего шесть лет остается до двадцать восьмого, когда Кузьмин решит иллюстрировать «Онегина». Неужели в шесть лет можно пройти путь от абитуриента Академии до иллюстратора Пушкина, притом до одного из лучших его иллюстраторов, стать в первую десятку советских графиков?
— Я был принят и даже не на первый — общий курс, а сразу на графический факультет.
Каждое утро он шел в академию в рисовальный класс: новая система обучения предписывала изображать куб, пирамиду или конус.
— Может, те упражнения были даже полезны. Я не мог воспринимать их не потому, что они казались мне несерьезными. Просто я с юных лет не любил учителей-дидактов, педагогов, «садящихся на плечи» ученикам, людей «системы». В искусстве это мне кажется противопоказанным.
В издательстве «Радуга» заказали Кузьмину рисунки к «Английским детским песенкам» молодого поэта Маршака. Николай Васильевич отправился к поэту. Холодно и тесно было в маленькой комнате, где работал Маршак, там же стояла кроватка его первенца. Над спящим мальчиком, укрытым всеми теплыми вещами, какие были в доме, Маршак и Кузьмин толковали о плане иллюстраций. Тогда же Николай Васильевич узнал и Корнея Ивановича Чуковского. Начавшееся в те дни знакомство стало за несколько десятилетий прочной творческой дружбой. А с изданием детских стихов той зимою так ничего и не получилось — издательство дышало на ладан, и книга не вышла.
— Мы все много думали тогда, — вспоминает Николай Васильевич, — что же такое рисунок? Правильный рисунок? Хороший рисунок? Можно ли поставить между ними знак равенства или же это совсем различные понятия?
Так прошла студенческая зима. А летом 1923 года Кузьмин поехал на каникулы в Сердобск. Путь, как всегда, лежал через Москву. После тихого, какого-то остывшего Петрограда Москва поражала шумом, кипением, невиданным ритмом жизни. Кузьмин, как впервые, увидал этот город и почувствовал себя в нем своим. В день отъезда он забежал в «Рабочую газету» — там заведовал художественным отделом его старый сердобский товарищ Николай Константинович Вержбицкий, бывший редактор «Голоса коммуниста». В отделе стояло несколько столов, и человек пять художников что-то рисовали за ними.
— Садись и действуй, — сказал Кузьмину Вержбицкий.
— Как, так сразу?
— В газете всегда сразу.
В тот день, уезжая с Павелецкого вокзала, радуясь дорожной суете и ощущая себя как рыба в воде в этой активной шумной московской жизни, он решил: надо перебираться в Москву, все равно в академии ничему не научишься.
— Осенью я вернулся, — вспоминает Николай Васильевич. — Жить мне было негде. Это было время, когда в Москву стремилась вся Россия — спали на сундуках в коридорах бывших барских квартир, в кухнях, на чердаках. Местом жительства был сам город, а не комната или здание. Я нашел и стол и дом в «Рабочей газете»: Вержбицкий позволил мне оставаться ночевать в редакции. Я спал на большом столе, подложив под голову рулон «срыва».
Почему и эти — бытовые — воспоминания Николая Васильевича Кузьмина столь интересны? Может, не стоит останавливаться на таком будничном материале его жизни, а говорить лишь о высоком — постоянный тренаж, учеба, мысли об искусстве, музеи, общение с необыкновенными людьми?
Художник Кузьмин не сохранял себя в некоей «башне из слоновой кости». Обычная жизнь, густой быт старой российской провинции, «развороченный бурей», и еще не установившийся быт нового общества неотделимы от его личности. И как любопытно, что легкий рой онегинских рисунков взлетел с такой «заземленной» стартовой площадки, рожден рукой, только что вбивавшей гвозди на кубанской переправе, шпорившей красноармейского коня, искавшей темп рисунка, с радостью включавшейся в рабочий ритм редакционной жизни, убиравшей с полу чужого дома тощий тюфяк, постеленный на троих... «Онегин» появился по закону контраста не в тишине изысканного ателье с верхним светом и антресолями — его образ мелькает на асфальтируемых московских улицах, где кричат моссельпромщицы и звенят переполненные трамваи с мальчишками «на колбасе», в квартирах, где шумят синими огнями примусы, на бесконечных этажах и лестницах Дворца труда, там помещается «Гудок» — новое место работы художника Кузьмина. Дворец труда, этот улей, набитый редакциями профсоюзных газет и журналов, уже столько раз описан и сатирически, и лирически, и литературоведчески, и еще как угодно. Все знают, что там, в газете «Гудок», работали в двадцатые годы Катаев, Ильф, Петров, Паустовский, Олеша, Булгаков, и еще, оказалось, Николай Васильевич Кузьмин. Это кузьминский заголовок вот уже почти пять десятков лет не уходит с газетных страниц. Ни на что не похожий шрифт «Гудка» и нежный и прекрасный шрифт «Онегина»...
— Какое счастье, что у России есть Пушкин! — скажет старый художник через много лет. — Всю нашу жизнь он сияет над нами, как незаходящее солнце...
С жаром в голове газетчик из «Гудка» ищет пушкинские приметы в Москве 20-х годов: пишет акварелью связанные с его памятью места. Но вот однажды на Кузнецком мосту взбираются по мостовой сани с седоком — железные полозья скребут по камням, и Кузьмин, стоящий около дома, где нынешняя книжная лавка писателей, вдруг ахает — пассажир извозчичьих саней похож на Пушкина, тот же острый профиль. Или это показалось за пеленой влажного снега? Так он и изобразил поэта — Кузнецкий мост, зима, падающий сырой снег: «Пушкин в Москве».
Кузьмин иллюстрирует Пушкина. Нет, пока еще рисунки — не иллюстрации, это графика на пушкинские темы, картинки не для книги, для собственных своих глаз, которые внутренним зрением давно видят пушкинские интерьеры, дороги, его друзей, любимых женщин, его цилиндр и тяжелую трость, пальто с пелериной, его летящую походку, манеру говорить с иронической нежностью и читать стихи, будто принося присягу.
Из этой глубокой душевной потребности общения с любимым поэтом родилась совершенно новая для Кузьмина графика, а уж из нее — иллюстрированный им «Евгений Онегин». Художник стремился приблизиться к гению поэта — творить без напряжения, «без пота», замыкая легкой линией целый мир, не теряющий от этой легкости ни единой своей черты.
В те годы появился термин «медленное чтение Пушкина», он возник в среде ученых-пушкинистов: Гроссмана, Цявловского, Вересаева, Тынянова, Ашукина. Но Кузьмин узнает этот термин лишь через несколько лет. Сам — как это типично для сердобского книгочея! — он сам открыл такой метод постижения Пушкина.
Работе над «Онегиным» Кузьмин посвятил пять лет жизни. Вступив в этот океан, он еще ощущает себя молодым, и таким видят его критики, друзья. Закончив иллюстрации, он почувствует себя прошедшим огромный путь, стареющим, даже усталым — главное, ради чего появился он на свет, будет совершено. Целых пять лет такой игры, такой работы — ловить голос поэта, усиленный гигантским русским пространством, жить рядом с ним, принимать его правила, мнения, смеяться его шуткам и плакать над его горестями, восхищаться его характером, манерами, дружить с его приятелями, любить верный его идеал... И все это отражать в легких линиях, подобных пушкинским рисункам, создавать книгу, в которой сольются в одно все ее элементы: иллюстрации, типографский шрифт, пропорции, бумага цвета слоновой кости, междустраничная закладка «ляссе». Создать «Евгения Онегина», выходящего ровно через столетие после его первого появления, в полном объеме, но таким, каким хотел увидать свое сочинение Александр Сергеевич Пушкин.
Критика по праву называла художника пушкиноведом: его рисунки в «Онегине» не только изящно сопровождали сюжет — в них Кузьмин проследил то, что еще никогда не составляло предмет иллюстраций великого романа: отношение поэта к своему труду, его жизнь в течение главных лет творчества. Читатель увидел Пушкина гуляющим с Онегиным на фоне Петропавловской крепости, Пушкина за игральным столом, Пушкина, творящего стихи, задумавшегося у окна, Пушкина с соседом, с дамами, Пушкина в дороге, Пушкина среди декабристов, Пушкина, встретившего в «Одессе пыльной» корсара Морали. Пушкин кузьминских рисунков пировал среди друзей, обняв резвую Музу; одетый в форму лицеиста, он лежал под зеленым деревом с книжкой; он держал в руках странный предмет, который мы часто называем, не зная, как он выглядит, — это была Лира, и она вовсе не казалась странной в руках вдохновенного кудрявого человека, на плечах которого лежали облака... Кузьминские рисунки порой выглядели сделанными с натуры, будто художник жил рядом с поэтом и украдкой заносил в свой альбом то, что видел. Но вдруг они обретали какую-то легендарность, сказочность (Пушкин с лирой под кудрявыми облаками), не теряя при этом своей естественности и реальности. Лихо, смело, как это дается лишь народным мастерам, Кузьмин рисовал Пушкина в фантастических ситуациях, не изменяя найденною облика портретно, и его сюжеты казались лишенными даже тени необычности и экзотики. Он оперировал высшей правдой — правдой творчества своего великого персонажа.
Рисунки Кузьмина мне кажутся обязательными для «Онегина», и такой силы обязательности книжной графики я больше не знаю.
А что было дальше? Многое было и будет дальше. Лермонтовский «Маскарад», гоголевские «Записки сумасшедшего», Лесков, Чехов, «Горе от ума», «Козьма Прутков» — всего не перечесть.
Писатель, неоднократно являвшийся читателю в комментариях к иллюстрированным им произведениям, Кузьмин создал на склоне лет и свои собственные прозаические книги, ставшие библиографической редкостью сразу же по выходе в свет.
«Круг царя Соломона» и «Штрих и слово», к которым я не раз обращалась, говоря о Николае Васильевиче, снабжены его собственными рисунками.
Кузьмин демонстрирует в своей прозе удивительную память, умение запомнить мир в деталях и образах, сказать о них метко, точно, на обжигающем красотою лексики и интонации русском языке. Старый человек размышляет о том, как он становился личностью, что было для него нравственным примером.
Его проза всегда — признание в любви к книге. Кузьмин не устает удивляться этому созданию человеческого духа и умения. Он вспоминает облик книг, которыми наслаждался в течение жизни, «которые меня потрясали, которыми я жил и с которыми навсегда связан памятью ума и сердца», описывает зеленоватые обложки и узкий шрифт пантелеевской серии западных классиков, возвращается в счастливые свои дни медленного чтения любимых авторов — Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Стендаля. Эти страницы — целая программа глубокой духовной жизни, и, закрыв книгу, больше всего боишься расстаться с этой программой.
Уже сказано, что сюжетом одного из первых рисунков Кузьмина к Пушкину было странное не дописанное поэтом трехстишье «Кругом пустыня, дичь и голь... а в стороне торчит глаголь, а на глаголе том два тела висят...» Быть может, эти горькие строки —начало незавершенной эпиграммы? Да, так можно думать, зная сатирическое наследие Пушкина... Проиллюстрировавшему этот сюжет было восемь лет.
Почти через восемь десятков лет после той сердобской картинки мастер снова занялся сатирой Пушкина. Огромная исследовательская работа в самых разных сферах отечественной культуры — литературе, изобразительном искусстве, геральдике, книгоиздательском и музейном деле — стоит за любым из этих изящных перовых рисунков к никогда не существовавшей прежде книге. Художник внимательно изучил толкования пушкинистов, принимая или отвергая их, и, по существу, вынес в своем рисовании определенные вердикты тому, что кажется давно известным или, наоборот, удивляет новизною. Он ищет яркие и образные детали, притом такие, которые были бы верны исторической символике и атрибутике. Вот почему эпиграмма «Заступники кнута и плети», которая, как доказано совсем недавно, адресована князьям Лобановым-Ростовским, являет собою некий «герб» их рода с виселицами и бичами в квадратах гербового поля и офицерами аракчеевской муштры по бокам. Вот почему «болван болванов» кишиневский чиновник Иван Ланов портретирован в карикатуре Кузьмина не только по данным едкого пушкинского шестистишия, но и по строкам из пятой главы «Евгения Онегина», где он назван Фляновым: «И отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут...»
В уникальной книге «Эпиграммы», не просто иллюстрированной, но составленной самим художником, собранной по строкам и строфам, не пропущен ни единый пушкинский иронический стих, здесь кузьминское перо, не до конца погруженное в старинную чернильницу, изобразило десятки реальных персонажей, над которыми гневно потешался или нежно-весело смеялся Пушкин.
Впрочем, веселья и нежности, лукавой проказы, искрометной иронии, озорства в этой книге гораздо более, чем гнева.
Таковы «пропорции» пушкинских чувств, а Кузьмин во всем следует гениальному автору. Пушкину нравилась Овидиева фраза: «Что ни старался я сказать прозой, все выходили стихи». Так вот и мой «Н. К.»: просто не может говорить прозой, не умеет!
Да никогда, никогда на свете не взял бы он в руки посох-тирс и ни за что не стал бы шествовать с ним к алтарю Вакха. В крайнем случае — трость (тросточку Онегина), да и то, если уж нездоровье заставит. А вакхический алтарь с палладиным маслом? Это очень бы его стесняло. Он ведь прожил скромную, совсем нелегкую и очень чистую жизнь: вынес многое как человек, чтобы делать свое дело как поэт. «О славе, — однажды пошутил он, — или о тайне жизни и смерти лучше всего думать часа в четыре утра. Мутное дело размышлять о славе».
А мутного «Н. К.» не любит. Ясен его почерк, ясен мужественный голос, ясна строгая речь, ясная линия без обрыва ложится на лист бумаги. Он пишет, рисует, слушает музыку, гуляет. Он окружил свою тайную дружбу с Пушкиным божественным ореолом, но сам и не подозревает об этом: смеется с Александром Сергеевичем на заснеженной московской улице, обнимается, прощаясь. «Н. К.» моего детства — рядом, а это значит, что услышана горестная просьба: «Пушкин, не умирай!»
Читаете ли вы вслух вечерами и плачете ли, если хочется плакать?
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





