ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


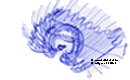
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Поликарпова Татьяна
- Зимняя,
февральская, завьюженная улочка
старинного города: дома деревянные,
редко каменные, то двух-, то одноэтажные,
тихие, уютные, дремлющие под пуховыми
снеговыми перинами на крышах. Округлые
края пуховиков свисают с крыш то тут,
то там, причудливо изгибаясь, кажется,
именно от этого уют и покой на старой
улице.
В ее даль уходит группа из шести человек: пять крупных мужских фигур и одна девичья в голубом пальто.
Фигуры мужчин громоздки, тяжелы из-за черных деревенских полушубков или, тоже черных, грубого сукна, полупальто. И шапки на всех тоже черные или коричневые с суконным верхом. На ногах — у кого — кирзовые сапоги, у кого — чесанки с калошами.
Среди них неожиданна маленькая ладная фигурка девушки: лазоревый цветок среди глыб развороченной земли. Впрямь лазоревый: такое на ней пальто. И что за цвет? Не скажешь, что васильковый — васильки темнее. И уж никак не простовато-голубые незабудки... Одним словом, небывалым был цвет пальто, да тем более в то время — самое начало пятидесятых годов, когда привычно обычным был цвет черный или около того.
Однако девушка в ярком пальто была как-то сопряжена со своими темными спутниками: у пальто был черный пушистый воротник и — что тоже небывало для того времени — такая же оторочка по подолу. Но лишь этим черным цветом меха и сопряжена. А так из-за пышной оторочки, волнующейся при каждом шаге почти над самым верхом узких ботинок, из-за маленькой, еле держащейся на обильных каштановых волосах шапочки-кубанки, тоже черной, казалась она видением давно прошедшего времени: институтка, курсистка ли, в живом виде занесенная метелью из того времени в это...
Вот уходит, удаляется странная группа. Размывают, приглушают ее цвета матово-белые струи поземки...
...Откуда они? что свело их вместе? куда делись?..
«Они из памяти вашей, Елена Андреевна. Из того времени, которое ушло...» — Елена Анреевна спрашивает сама себя и сама же отвечает.
«Значит, они из того времени, которое ушло, но было при мне, раз это моя память? А девушка как туда попала если она и в том времени невзаправдашная? Меховая оторочка выдает ее. Цвет пальто... Тогда, в мое время, таких не носили...»
«Полно, Елена Андреевна... Знаете вы прекрасно, что и девушка самого что ни на есть того времени. А увидели вы эту группу с голубым пальто, чтобы защититься от Митиной несправедливости; сказать себе: ты права, а не он. Опереться на то время, в котором вы, Елена Андреевна, и были студенткой, то есть институткой — в институте учились, а ваше пальто случайно оказалось голубым. Но совсем не случайно воротник и оторочка — черными. Это вы хотели соответствовать цветам своего времени. Хотя, если уж совсем честно, можно было бы и все пальто сделать черным, из голубого — нетрудно. Однако это вам и в голову не приходило, потому что сделать так — значило обидеть маму и бабушку. И все-таки вы нашли возможность хоть как-то соответствовать цветам своего времени. А вот своему сыну, Мите, не разрешили того же самого: не разрешили принять цвета его времени. Мало сказать — не разрешили. Просто лишили его такой возможности. Без вашей помощи — обыкновенной материальной — он не мог этого сделать. Если бы мог, он и спрашивать бы вас не стал, взял да и сделал. Но мальчику не хватало денег. А вы, Елена Андреевна, эти деньги имели. Ровно столько, сколько он просил у вас: триста рублей. Свободные деньги, не зарплата,— премия. Небывало щедрая премия за разработку «Нового метода комплектации деталей кроя и подачи их швеям». Пакетами, а не штуками на конвейер подача. Это избавило швей от принудительности конвейерного ритма. (Идею вычитала Елена Андреевна в иностранном журнале.) Но идею перенять легко... А вот рассчитать, а более того, доказать, а еще более того и другого — организовать... Зря деньги не платят. Потому — лестно вам было. Что и говорить — приятно. Вот и доставила бы радость сыну... Боже мой, Боже милосердный... Нет во мне милосердия...— Елена Андреевна не заметила, как потеряла собеседницу в себе, вспомнив, откуда олубое платье и отчего сейчас пригрезилось ей давно забытое,— она снова тонула, вязла в недавней, в нелепой ссоре с сыном.— Нет милосердия. Нет... Боже, какие страдающие, какие гневные стали глаза у Мити,— ее же глаза тогдашние, девичьи, чистые, без этих красных прожилок, с тонкими, а не с толстыми, припухшими веками, из-за которых глаза стали меньше; ясные, редкого чайно-золотистого цвета...»
«Я прошу у тебя взаймы! Ты знаешь, летом я заработаю в стройотряде и все верну,— говорил он.— Если б я знал, что мне предложат всего за пять сотен такую дубленку, я б не истратил деньги на джинсы и другую ерунду. Теперь мне не хватает трехсот... И ведь они у тебя есть. И я отдам, ты понимаешь, отдам!»
Эх... Елена Андреевна сидела одна в темноте, уставившись в незашторенное окно, но не видела драгоценного кристалла ночи, сияющего перед ней. То сильный свет ртутного фонаря, стоящего наискось от окна над пешеходной дорожкой, не рассеивая весь мрак, делал его прозрачным; превращал путаницу голых мокрых ветвей березы за окном в сверкающую бриллиантовую паутину, упорядоченную ясно различимыми радиусами и меридианами; заставлял голубовато светиться сами стволы. Фонарь делал бездонным черный асфальт, отражающий разноцветные окна дома напротив, он отыскивал малые лужицы в скорченных ладошках давно опавших кленовых листьев на газоне за дорожкой, и они лучились... Редко. Кое-где.
Кристалл ночи рос вверх и вниз, в глубину и во все стороны, делаясь темнее и плотнее к краям.
Но Елена Андреевна вглядывалась сейчас в гневные и скорбные глаза сына. Они пересилили, вытеснили и ту тихую улицу старинного города, и эту реальную, феерически прекрасную московскую ночь.
Куда делся ее гнев? Остался лишь стыд. Стыд за тот гнев:
«Я знаю, что отдашь. Знаю. Просто не могу позволить, чтобы ты в свои двадцать лет разгуливал в дубленке за пятьсот рублей, ведь ты всего еще студент. А моя зарплата — двести рублей. И у тебя еще сестра. Я не могу тебе этого позволить, потому что это разврат. Отвратительный, гнусный разврат! Эгоизм непозволительный. Не по моим силам».
...Слова — вот что. Слова сами взвинчивают нас. Несут. Замолчать бы тогда. Сказать ему: дай время подумать. И подумать самой с собой. Вспомнить себя в его возрасте. Вот как сейчас, когда возникла перед ней та группа с девушкой в голубом пальто. Возникла, чтобы она могла оправдать свой гнев на Митю. А получилось, что поняла Митю... Что и он тоже, как и она тогда, не хочет высовываться из своего времени. Хочет быть как все. То есть носить дубленку...
Она даже не усмехнулась, подумав так: в дубленке, значит, как все. Потому что она сейчас правильно, до самого донышка, понимала своего Митю и его время. Не в том дело, что далеко не все в дубленках, а что дубленка — примета времени, его вещный знак. Как цветные дождевые зонтики. В ее времена эти зонты были черными. Усугубляли цвет ненастья. Сейчас они расцвечивают непогоду. Улица — что тебе июньский луг, райский сад. Тропические цветы зонтиков блещут под дождем. Сейчас цветное, яркое время...
...А значит, Елена Андреевна все-таки каким-то образом видела ночь за окном, ночь в ярких красках, мокрых блестках, раз пришли ей на ум разноцветные зонтики и это — цветное — время...
Ах, какой стыд... Она и в самый момент ссоры уже чувствовала, как задавленный гневом стыд тихонько охал где-то в ней, не в силах пробиться: «Ох... О чем мы?.. Это же Митя... О чем он?.. С такой страстью... А я — о чем?!» Был, был стыд и тогда. За него, за себя. Но несли ее гнев и обида: требует денег, когда знает, как нам трудно! Ведь не двенадцать лет, ведь двадцать один годик! И она вскричала: «Вот когда будешь кормиться на свои деньги, платить за квартиру и прочий свет-телефон да при этом сможешь купить дубленку, вот тогда носи ее на здоровье! Тогда! Тогда! Понял меня?!» И ее трясло от бессильной ярости, потому что видела она: Митя и не старался вникнуть в ее слова. И тогда она добавила: «Да будь у меня в два раза больше денег, все равно не дала бы. Потому что — разврат. Потому что себя еще не кормишь».
Сейчас, стоя в темноте у окна, она понимала: вот здесь, вот на этом месте и развело время ее и Митю. Ты привыкла, говорила она себе, деньги тратить на пищу и сыну хотела то же внушить. Вот в чем дело... Ей все время приходится думать об этих «Лебенсмиттель»,— подумала немецким словом и удивилась, как недвусмысленно расшифровано в этом языке: лебенсмиттель —то есть средства для жизни, средства жить. Жестко и точно. А у нас какие-то непонятные «продукты». И слово-то все равно не русское. Магазины называются: «Продовольственный»... Разве думают об этом дети? Даже такие взрослые, как Митя? Сейчас, если дети в семье — подростки или студенты — где-то заработали денег, эти деньги — на вещи для себя. Святое дело. Везде пишут и говорят: это и нравственно, когда дети сами зарабатывают себе на особые туалеты и всякую музыку. Никто же не виноват, что для нее, Елены Андреевны, обстоятельства таковы, что лишь бы достало на эти самые средства для жизни. Почти так же, как было в войну и сразу после нее. Так виноват ли сын, что вышел разрыв между заработком матери и сытым, цветным временем? Вот и вышло у них безнравственно. Безобразно. Стыдно.
Время, время... Худо, если оно отбивает сына от матери из-за вещи, из-за денег...
Казалось бы, к чему так-то уж переживать? Ну, подумаешь, мать отказала сыну в покупке. Ну, пусть и погорячились оба. Обычное, житейское. Но не обычные, житейские отношения были у Елены Андреевны с сыном. Так ей до сих пор казалось. Потому ошеломил ее этот стыдный спор и ссора. Непонимание. Ей-то казалось, они с Митей были одним... Заодно... Что ее заденет, то и его. Чему он рассмеется, тому и она. На что она отзовется, на то и он. Вплоть до одинаковых слов. Ехали однажды в электричке. Вдали проплыло село с непорушенной церковью под маленьким куполком. И они сказали в один голос: «Маковка-луковка». Главное, в одном тоне: задумчиво, вполголоса, словно бы про себя. Бывали и более сложные совпадения...
Только вот музыка, подумала она. Музыка не совпадала. Его музыка, хоть она многое слушала с удовольствием, никак не могла стать для нее своей. Оставалась неродной. Мелодии, если они были, не запоминались.
А Митя не воспринимал народные песни. Из классики — лишь Баха, кое-что из Грига. И то потому, что была их музыка использована какими-то культурными ансамблями. Эти ансамбли и приучили его к Баху и Григу уже и в чистом виде.
Иной раз, вслушиваясь по ее настоянию в русские народные песни по радио или теле, признавал: «А что... Это бы аранжировать. Нынешней техникой расцветить. Битлы бы сделали из этого мощный хит!»
Ну, да бог с ней, с этой музыкой. Не главное в жизни... Как они с Митей ладно-дружно сиживали, когда он сдавал экзамены в институт. В день сдачи она пекла что-нибудь вкусненькое. Или покупала. За чаем подолгу разговаривали. Майка на то время была отправлена к бабушке с дедом. И Митя говорил: «Даже не догадывался, до чего же здорово сдавать экзамены!» Она понимала, о чем он.
Бывало, что они и на рыбалку ездили вдвоем. Митины друзья удивлялись таким отношениям с мамой...
И чем же это все было, если из-за какой-то дубленки... Значит, вовсе не дружба...
Вдруг она горячо покраснела: она задела, наконец, тот нерв, который и связывал ее с Митей... Тут уж не время, нет! Додумалась, наконец, что ведь и Митя ждал от нее дружеского понимания. Как и она от него! Так же, как ты к нему, так и он к тебе, понятно? Потому и попросил попросту, по-дружески. А встретил... мать-распорядительницу. Ответственного за режим: вот это можно, а это — никак! «Я взаймы у тебя прошу... Не просил бы, да больше не у кого...» И этого его прямого сравнения себя с другими, с другом, к которому бы можно было обратиться за деньгами, она не поняла. Не пожелала. Попытки не сделала понять. Зато сразу приняла его за сыночка-эгоиста — капризника, не умеющего подумать о матери.
Каждый из них накрылся собственной обидой, как колпаком, как щитом, и оттуда, оттуда уязвлял другого... В каком она пальто ходит... Как они жили, когда она выплачивала долг за новый холодильник: десять рублей на неделю на троих... Все...
А Митя-то из-под своего щита обозвал ее жалкой... Это вдруг вспомнилось, вдруг,— вот только сию минуту... Да-да... Она его еще спросила: «И тебе не будет неловко, что ты наденешь дубленку, а твоя мама — двадцать лет инженер, мать двоих детей — пойдет рядом в хилом пальтишке — восемь лет стажа? Надеюсь, ясно, что я не могу купить тебе дубленку?» На что он и ответил, глядя на нее с величайшим презрением: «Да кто тебе не велит? Заняла бы да и купила. Но ты же не умеешь жить... Ты — жалка... А я оказываюсь и виноват».
Елена Андреевна застыла, вспомнив это. Почему-то только сейчас, после всего другого вспомнив. Видно, очень не хотелось помнить. А эти его слова и были самыми свежими, так сказать. Последними. Вслед за ними она услышала, как хлопнула дверь. Как яростно она хлопнула. И она осталась одна, припечатанная этим словом: «жалка»... А что же дальше было? Запамятовала, Елена Андреевна... Или это последнее оскорбление оглушило ее так, что она забылась на минутку? На минутку... На сколько же?
А-а-а... Вот когда привиделась ей вьюжная улица старого города и группа с девушкой в голубом пальто... Память подсунула ей это видение, чтобы она опомнилась. Укрепилась в себе. То ее время шагнуло к ней навстречу...
Елена Андреевна в волнении встала с места. Обойдя стол, вплотную подошла к окну, лбом уперлась в прозрачное, словно его и нет, стекло, и сверкающая разноцветным блеском ночь, ее кристалл, бесконечно простирающийся вверх, к звездам меж беспокойных рваных облаков, и влево и вправо в темно-прозрачную даль двора, протянувшегося меж длинных и ровных, стеноподобных домов, грянула, наконец, прорвавшись в ее отвлеченное болью сознание... Ночь, как праздник... Увидела алмазный ажур березовых мокрых прядей... Колеблет ветер драгоценную сеть, заставляя ее играть беспрерывно. Удивляя слитной красотой человеческого создания — света, и природной, вечной: дерева, ветра, ветвей...
«Господи, господи!» — воскликнула молча Елена Андреевна, словно помолилась, возблагодарила за эту минуту, вдруг унявшую смуту в ее душе. Она почувствовала даже, как освобождается до этого словно бы стянутое усилием мышц лицо.
Она глянула влево, в сторону улицы, и увидела, как белым накалом светится стеклянный угол магазинной витрины сбоку от входа во двор. Вот... На всю ночь оставляют свет в витрине... Щедрое, щедрое время. И не различишь в нем, как не различает глаз семь разных цветов в белом свете дня, струи, пряди — хвосты — других, миновавших, времен. Да, так: ушло, отлетело ядро кометы, а хвост ее протянут далеко, широко. Смешивается невидимо с частицами света иного дня. И только удар, сбой, как получилось сегодня у них с Митей, вдруг открывает, что ты-то летишь в этом хвосте и ощущаешь, как царапают тебя жесткие частицы уже не твоего времени.
...Голубое пальто... Темноватая серо-белая зимняя улица и пятеро тяжело-одноцветно одетых мужских фигур...
Нет, не вдруг, не сразу явились они в ее памяти. Всплывала картина из прошлого, выделяя из неразличимо бесцветного, общего света свою, пусть бедную, но существующую прядь. Существующую, пока жива она, Елена Андреевна. А с нею — о, с нею многое... многие... Мама и папа. И бабушка!
«Милые мои»,— прошептала Елена Андреевна, и нежное, нежное коснулось ее...
А ведь у них-то с мамой и бабушкой время не разнилось, подумала она с удивлением и завистью к себе самой, той, давней. Впрочем, может, ей теперь так кажется... Но нет. Не помнит она чего-нибудь такого, вроде сегодняшнего с Митей. И песни она пела мамины и бабушкины. Не потому, что по радио их чаще передавали, их и сейчас передают нередко, а потому, что они сами их пели. Вместе. И это самое пальто... Голубое с черным... Оно-то из чего сложилось?..
В памяти словно из ничего, из тумана, проступило... Откуда оно взялось... Его тонкое, идеально гладкое сукно... Темно-голубое и все же не темное, а светлое... И черный мех.
Елена Андреевна будто читала когда-то читанную, а потом прочно забытую книгу, только по мере чтения узнавая: да, да, она помнит это... Именно так и было...
В самом деле, ее пальто началось еще в бабушкиной молодости. Сукно явилось из бабушкина сундука, а куплено было, когда мама девочкой бегала, еще и в институт не поступала, и береглось вроде бы как приданое ей. Вот, мол, будет замуж выходить, сошью ей новое пальто,— так рассказывала бабушка. У мамы были голубые глаза, вот и купила ей бабушка, ее мама, голубое сукно. Снегурочкой была мама. А Еленка бабушкины глаза унаследовала, хоть и не точь-в-точь. У бабушки — чисто карие, у Еленки — желтизной разбавлены.
Однако к маминому замужеству не успели и вспомнить про пальто. Папе срочно пришлось просить руки и сердца мамы, потому что он получил экстренное распоряжение ехать в Среднюю Азию на посевную хлопка. Они даже зарегистрироваться не успели. В Ташкент укатили, прихватив с собой бабушку. А бабушка забыла прихватить с собой сукно на свадебное пальто.
Удержалось сукно в сундуке и во время войны. Хотя очень просто могли его выменять на продукты. Удержались. Бабушка подрабатывала на продукты шитьем. Так и дождалось сукно Еленку.
Отправляли ее учиться в восьмой класс, в город. И обнаружилось, что раздета она к зиме — выросла из старого, детского: рукава еле локти прикрывают, подол — выше колен. Пришлось бабушке самой браться за дело. Долго не решалась: ведь она не портной. Правда, платья у нее хорошо получались, недаром в их селе (уж давно не в Средней Азии) она слыла лучшей мастерицей. Но чтоб пальто... Да из такого береженого сукна...
Однако деваться было некуда. К концу ноября получила Еленка новое пальто. Бабушка сшила его хорошо, но... по-старинному: рукава сделала с буфами. Небольшими, но все-таки. К кисти рукав сужался. В городе же в ту пору все носили подложные плечики, а сам рукав шел ровной трубой, как рукава военных мундиров. Шили пальто в талию, от талии — расклешивали...
Это уж потом, конечно, увидела Еленка, когда в город попала. Ее же пальто, от плеч широковатое и прямое, напоминало салопчик, как на рисунках в старом журнале «Нива», несколько номеров ее сохранилось у бабушки. Но в отличие от салопчиков ее пальтишко было коротким — только за колено. Вот это было по моде.
«Еленочка, уж как могла,— писала ей бабушка с явным сокрушением.— И воротник, конечно, временный, так мы с мамой считаем. Будет возможность, купим новый мех. А пока, сама, наверное, узнаешь, пустила на него старый мамин беличий жакет. Пригодился все же. Выкроила из спины живые места, собрала из кусочков. Но ты не огорчайся: раздобудем что-нибудь». Читала Еленка, и сердце у нее щемило от любви и благодарности к бабушке. Знала, как она старалась, чтобы получилось пальто, как мучилась над шитьем.
Поопасалась немножко, что девчата в школе высмеют ее салопчик, но тогда как-то все щадили друг друга. Девчонки строго-внимательно осмотрели пальто, сказали, что немного старомодно. Да слово это даже и не подходило: ни к какой из мод — какие там были моды до их восьмого класса? — его невозможно было отнести, а сама Еленка о «Ниве» не обмолвилась. Зато подруги нашли, что ей идет и вообще красиво: серое к голубому. Потом и вовсе привыкли. И носила Еленка салопчик до второго курса института.
Жизнь как-то поправлялась. Тут и мода возвысила голос, она заставляла с собой считаться. Главной ее новой напастью оказалась длина: требовалось носить юбки гораздо ниже колен. Гораздо! Пальто становилось просто неприличным.
Еленка ломала голову: что можно сделать из салопчика? Выкроить из ширины и надбавить длину?
Нашли ей девчата мастерицу. Та посмотрела и сказала, что все пальто нужно перекроить, может, получится: выпустить, сколько можно, швы на плечах, подшивку подола, сантиметров пять набежит. Будет заметна потертость на месте бывшего подгиба, да что делать...
Просить у родителей на новое пальто — такого у Еленки даже в тайных мыслях не заводилось.
Но родители сами думали. Приезжает Еленка на зимние каникулы домой, а мама ей лису подносит... Да какую! Царь-лису, пушистую, крупную. Потом ни Еленка, ни Елена Андреевна таких не видывали.
Мама купила шкуру у охотника сырой, невыделанной, а потому дешево — всего за 270 рублей. То есть,— даже сейчас удивилась Елена Андреевна,— всего за 27 по-нынешнему...
Вернувшись в город, принялась Еленка мудрить со своим пальто. Уже в марте перешла на демисезонное, голубое отдала мастерице, а лису понесла скорняку: выделать и выкрасить в черный цвет.
Вот когда в ней, в Еленке, взыграло время! Прекрасно видела, до чего хорош лисий мех. Это только говорится, что лиса рыжая, на самом-то деле она была вовсе не рыжей, а желтовато-серовато-коричневатой. Шел по коричневому хребту и красноватый отблеск, упругими иголочками-остями бежали по меху белые волоски, словно искры. Желтые с серым в глубине бока переходили в светлое брюхо. Осенними красками играл высокий и густой мех. А на голубом-то сукне... Все равно что осенняя роща под голубыми небесами. Видела Еленка, что здорово идет царь-лиса к ее каштановым волосам и золотистым глазам. Но, знать, была она не из отважных, чтобы бросить вызов своему времени, одетому в темное. Хватит с нее голубого, и так все говорят, что ее заметишь-узнаешь в любой толпе, если она в этом пальто. А если еще и разноцветный воротник... Ну уж нет, не нужен ей.
Приемщик в мастерской, парень с нахальным взором кота-блудня, только присвистнул, даже глаза его на миг потеряли нахальство и выразили сожаление: «Эдакое чудо в черный цвет?» — «Да, в черный»,— отрезала Еленка самым холодным тоном. Не в красный же, мол, и не в синий.
Елена Андреевна даже сейчас вздохнула, посожалев о той рыжей красавице, вместо которой выдали Еленке хоть и достаточно большой, но куда против сданной шкуры съежившийся воротник и в придачу четыре блестящих лаково-черных лапки и пухлое черное веретено-хвост... Куда его... Однако, оказалось, было куда. В дальнейшем повезло Еленке с черным мехом, знать, улыбнулось ей время, которому она подмастила.
Кто-то сказал ей, что в универмаге продают огромные черные муфты из лисьих хвостов. Она побежала, и правда: такие здоровенные лохматые черные мешки. Просто разрезали на полосы лисьи хвосты и нашили на ткань. Стоили муфты сущий пустяк: кажется, по тридцатке. Все равно их не брали. Кто ж тогда носил муфты! Кому и в голову пришло понаделать их? Наверное, хвосты было некуда девать.
Еленка недаром училась на инженера-текстильщика: вмиг поняла, на что годятся муфты. На стипендиальные остатки купила три штуки. Разрезала их на полосы, сантиметров в десять шириной, полосы сшила в длину, получилась красивая опушка.
Елена Андреевна даже теперь почувствовала тогдашнюю свою горячечную радость: и не мечтала, что так роскошно удлинит пальто. Теперь подогнанное точно по фигуре, похудевшей со времен восьмого класса, оно слегка удлиненным колоколом впадало в пушистую черную оторочку, волновавшуюся невысоко над щиколотками. «Барыня! — кричали ей цыганки на вокзале.— Давай погадаем на королевича!»
А королевич, имевшийся у Еленки, стал звать ее «девушкой с голубыми волосами, или Мальвиной».
Куда ж оно задевалось, это пальто? Исчезло без следа, как и королевич. Впрочем, от королевича есть живой след — Митя и Майка. От пальто — ни лапки, ни хвоста. А ведь вещи живут дольше людей. Дольше их отношений. Старые одеялишки Мити попадаются под руки, когда перебирает Елена Андреевна залежи на антресолях, вынимая зимнее, складывая летнее, и наоборот. Лежат там и спорки со старых пальто «до» и «после» того, голубого. По старой военной привычке, не собственной своей, конечно, опять по маминой и бабушкиной, вот передалась же девчонке забота старших! — не может Елена Андреевна выкинуть отслужившую вещь. «Выброси!» — сердится Митя. Да, выброси: до десятого класса одевала Митю в перешитое из того, что за ненадобностью оставил в их доме королевич: старые брюки, пальто. Майке и сейчас пока хватает материнского гардероба... Пока... Пока! Глядишь, скоро и она скажет: дубленку!
А Майке пошло бы голубое пальтишко или курточка. У нее глаза синие — в отца. Вот было бы здорово: носила бы она вещь из рук своей прабабушки. Это уж и не вещь, получалось... Бог знает, что... Нематериальное... Такого, наверное, и не бывает, если не говорить о металле, драгоценностях там всяких. Но что драгоценность: как сделал ее мастер, так и живет в том же виде. А пальто превращалось. Бабушка, мама, она сама к нему руки приложила...
И вот оно исчезло. И голубое, и черное.
Елена Андреевна замерзла, стоя возле холодного окна. Глубоко и прерывисто вздохнув, освобождаясь от воспоминаний, пошла на кухню — согреть чаю. Заварив покрепче в большую чашку, вернулась в свою комнату, закуталась вытертым, еще мамой купленным, пледом, угнездилась с чашкой в углу дивана. Пила маленькими частыми глотками душистый терпкий чай, согреваясь, не могла согреться. Окно, хоть и расцвеченное огнями, дышало черной стынью. Задернуть бы шторы. Елена Андреевна ругала себя, что не сделала этого, уходя на кухню, сейчас вставать не хотелось. Терпела, терпела — не вытерпела: встала, почувствовав сразу, как пробежали колкие мурашки от затылка вниз по спине, заставив содрогнуться всем телом. Заболеваю, что ли,— подумала мельком,— притянула друг к другу две половинки тяжелых темно-синих штор.
Заснуть бы, пожелала она, снова устраиваясь на диване, пока Майка из школы не пришла. С силами собраться к Митиному возвращению. Чтоб без всякого надрыва... Спокойно.
Но не могла заснуть. Думала, где сейчас Митя. К кому пошел-поехал. Думала: он ведь тоже мучается, так обидев ее. Не может быть, что не мучается, а только по ускользнувшей дубленке плачет.
И еще подумала: наверное, все было бы у них по-другому, останься с ними королевич. Просто не хватает им всем защиты. Оттого так все трепетно, нервно у нее, у Мити. Так ревнивы отношения. Майка другая. Для нее Митя и есть защита. Вроде отца. В противовес матери. И мир ее уравновешен. И хорошо, дочка...
...А ведь Еленку тогда папа провожал,— вспомнила вдруг ясно-ясно.— Тогда, с черными дяденьками. Папа...
Застигнутое врасплох этой внезапной ясностью памяти сердце замерло, сжалось в темной тоске по невозвратному. Горячо стало под веками, едко. Пришлось сглотнуть комок, взбухший в горле... Папа... Он и поручил Еленку этим пятерым знакомым ему дяденькам. Он беспокоился, потому что Еленке предстояла пересадка в Ульяновске, да к тому же ночью. А до пересадки еще двенадцать часов ожидания.
Еленка с восьмого класса одна ездила из дома в город и обратно — на каникулы. Путь был прямой: до их станции семьдесят километров на лошадях, дальше поездом шесть часов. До места.
А в тот раз пути, что ли, ремонтировали, только приходилось ехать кружной дорогой — через Ульяновск. Туда прибывали в полночь, а отправлялись дальше лишь в полдень.
...Елена Андреевна увидела себя на высокой подножке вагона, из тех — старых, каких уж не встретишь теперь на дорогах: с дверями, которые можно было открыть на ходу и даже постоять или посидеть на подножке; с деревянными полками, и на третьей, багажной, вполне удобно было спать.
Еленка стояла, нагнувшись к папе, а он все не отпускал ее руку, глядя снизу вверх ей в лицо своими яркими, особенно яркими на красном от мороза лице, зелеными глазами.
«Держись Никоныча,— говорил он,— не стесняйся их. Все они люди добрые, свои. Они и ночевку найдут. Так что не бойся!» И все улыбался. А боялся-то он, а не она. Еленка не думала ни о ночевке, ни как ее искать. Так не думает ни о чем ребенок, путешествующий с родителями. Все вокруг него делается как бы само собой, все необходимое ему найдется в свой черед, ничего страшного не произойдет.
Папа с нею не ехал, но он поручал ее Никонычу, механику их совхоза. Никоныч направлялся в город на областное совещание механизаторов. И таким образом, через Никоныча, папа продолжал заботиться о ней.
На станцию они ехали втроем в большой кошеве, запряженной парой, хорошо ехали, а Никоныч все равно маялся и чувствовал себя униженным тем обстоятельством, что он, командир всей совхозной техники, на областное совещание механизаторов следует на лошадях! Папа над ним подтрунивал: уж если сам командир своей технике не доверяет... А Никоныч всерьез оправдывался: «Техника-то при чем... Когда зима. Да февраль. Вишь ведь, какие переметы...»
Да, дорогу то и дело перечеркивали наискось плотные заносы-переметы, иногда обширные. Ветер взвихривал их хребты, гнал по ним низко курящийся снежный прах, словно хотел сдуть их с пути едущих, но это было чистым притворством: на самом деле ветер-то и порождал их... Еленке казалось, что несется по переметам крохотная, невидимая конница, взрывая бешеными копытами снег, который и подхватывает ветер. Только по этим стелющимся струям снега и угадываешь конницу.
Машина бы по такой дороге то и дело буксовала. А то бы и вовсе села. Ничего не оставалось Никонычу, как терпеть лошадок и малую их скорость.
На станции они встретились еще с четырьмя механиками из соседних районов и хозяйств, едущих на то же совещание, что и Никоныч. Все были знакомы с папой и, разумеется, с Никонычем.
...Елена Андреевна усмехнулась, вспомнив, как в ту пору стеснялась Еленка незнакомых людей. А тогда еще и своего городского вида застыдилась, обновленного барынина пальто. Но, убедившись, что механики, осторожно пожав ей руку при знакомстве, тут же как бы перестали ее видеть и слышать, успокоилась.
Сели они в одно купе общего вагона. Кажется, тогда иных и не было. Еленка сразу же бросила свою сумку на вторую полку и вышла к папе. Услышала, как он говорил двоим, стоявшим с ним: «Уж вместе держитесь. Не потеряйте дочку...» А высокий дяденька, в черном, как и у папы, полушубке, басил добродушно: «Будь спокоен, Андрей Витальич!»
Увидев ее, двое механиков пожали руку папе и полезли в вагон. Еленка стала прощаться с папой.
Какие неловкие эти последние минуты: о чем ни заговори, оборвется беседа в самом начале, да и начала не найдешь: мысли заняты одним — вот сейчас тронется поАх, какой стыд... Она и в самый момент ссоры уже чувствовала, как задавленный гневом стыд тихонько охал где-то в ней, не в силах пробиться: «Ох... О чем мы?.. Это же Митя... О чем он?.. С такой страстью... А я — о чем?!» Был, был стыд и тогда. За него, за себя. Но несли ее гнев и обида: требует денег, когда знает, как нам трудно! Ведь не двенадцать лет, ведь двадцать один годик! И она вскричала: «Вот когда будешь кормиться на свои деньги, платить за квартиру и прочий свет-телефон да при этом сможешь купить дубленку, вот тогда носи ее на здоровье! Тогда! Тогда! Понял меня?!» И ее трясло от бессильной ярости, потому что видела она: Митя и не старался вникнуть в ее слова. И тогда она добавила: «Да будь у меня в два раза больше денег, все равно не дала бы. Потому что — разврат. Потому что себя еще не кормишь». езд.
...Елена Андреевна даже поежилась на своем диване, ощутив бесприютность и какое-то отчаяние этих перронных минут: словно бы время раньше, чем расстояние, разводит расстающихся. Вот они еще рядом, еще могут коснуться друг друга, но уже, уже... Сейчас дрогнет состав, пойдет... Наверное, поэтому люди, разъединенные этими последними минутами, не зная, что сказать, дают друг другу всякие ненужные советы, вроде: в окно смотри не высовывайся! вещи не забудь! ты мне пиши! И так далее...
Папа-то у Еленки был умный и чуткий, он таких глупостей не говорил, просто смотрел и улыбался. Зато Еленка, как дурочка, в последнее мгновенье не выдержала и крикнула ему, а поезд как раз дернулся, и оттого испуганно дернулся, надломился ее голос: «Ты сейчас, как вернешься на квартиру, чаю напейся!» Папа кивнул и шире улыбнулся ей. И поплыло, поплыло его лицо, все ровно-красное от мороза, с резко обозначившимися, задубевшими на холоде складками вдоль худых щек и этими яркими глазами...
Еленка, чувствуя острое горе в сердце — всегда так, когда уезжает одна, — пошла в вагон, представляя себе, как папа вернется на совхозную квартиру в этом пристанционном поселке и будет сидеть за самоваром. Может, еще кто-нибудь приедет к вечеру...
Папе надо с утра решить на станции свои дела, насчет вагонов договориться, уж потом поедет домой. Ему часто приходится ездить на станцию по директорским хозяйственным делам. С вагонами всегда трудно...
...Елена Андреевна вспоминала ту поездку и все ее подробности со сладостью и болью, кажется, совсем переселившись в тот день и ту ночь, и все же не переставала чувствовать, видеть и слышать Митю, держа его в уме как то необходимое слагаемое, без которого не состоится решение или получится неправильный ответ. И, может, это как раз из-за него ей так хотелось и так было важно увидеть там все в подробностях. Как то замерзшее, залубеневшее и красное папино лицо. Услышать звуки и голоса. Словно то, что она вспомнит так: взором, слухом, всеми чувствами,— сможет увидеть, услышать, почувствовать и он, Митя.
...Вагон был освещен еле-еле. Светили лишь два плафона в разных его концах.
Забравшись на вторую полку и примостив под голову отмякшую в тепле дерматиновую сумку с домашний гостинцами, Еленка накрылась своим пальто — постелей тогда в общих вагонах не полагалось, да ехать им было всего часа четыре,— и внезапно уснула.
Проснулась от приглушенного смеха. Что-то такое интересное рассказывали друг другу ее спутники. Все пятеро, поняла она по голосам, сидели тут, внизу. Она узнала голоса Никоныча и того, в полушубке, с которым разговаривал папа. Его она и в лицо запомнила: мясистый нос и густые черные брови, сливающиеся с завитками черной мерлушковой шапки. Лица других не запомнила. Конечно, воротники подняты, шапки на глаза надвинуты. А вот голоса — разные.
— Что, со своим седлом пришли? — явно переспрашивал тонкий тенористый голос, прямо-таки переполненный смехом, словно это невозможно смешно — прийти со своим седлом.
— А-га-а... И взнуздал, и подседлал, и был таков...— охотно откликнулся уютно-хрипловатый, замедленный.
— Это что ж, тысяч сто накрылось? — снова тенорок.
— Кабы не больше,— пробасил тот, с бровями.— Чистопородный, английский. Всего и пробыл у них два года.
— Да,— вступил Никоныч,— я его, мужики, видел, этого гордеца... Ну, что и говорить — конь... Парад Победы принимать на нем, не меньше. Только что вороной, не белый.
«А-а,— поняла Еленка,— это конь Гордец, зовут его так». У них в совхозе главного жеребца звали Рослый.
— А по мне, нет для жеребца лучшей масти лучше вороной, — мечтательно вздохнул тенорок. — Что там — белый... Так, промокашка...
Все засмеялись, хрипловатый закашлял глухо, видно, шапку прижал ко рту. А тенорок, ободренный смехом, продолжал:
— Вот ежели скажут «конь», я только вороного вижу перед глазами.
— Цыгане, видать, тоже его одного держали перед глазами. Надо же, так досконально все организовать,— это Никоныч сказал.
И Еленка будто увидела, с каким удивлением качнул он своей лобастой головой. Она и сама удивилась: вон что — коня цыгане увели! Еленка думала, что у нас в стране цыгане давно забыли свое древнее ремесло и все работают в колхозах и совхозах. А на вокзалах бывают лишь проездом, как и все прочие люди. К ним в совхоз они никогда не приходили. И только она подумала, что коня украл какой-то несознательный отдельный цыган, как засмеялся и заговорил голос, которого она еще не слышала: такой обыкновенный, средний голос.
— Как, говоришь, пели-то? — и залился смехом, как маленький.— Ай, на-ни-на, нина-нина...
Снова все засмеялись.
— А что, слова задушевные,— не переставая смеяться, сказал хрипловатый,— я враз куплет запомнил, как мне Маркелов спел...
— Ну, нам скажи,— попросил тенорок улыбчиво.
Восток зарею светит, спит табор кочево-о-ой... Никто любви не знает цыганки молодо-о-ой! — проговорил нараспев хрипловатый.— А потом,— добавил он,— минут на пять это самое «на-ни-на» весь хор. Одну эту песню они, говорят, полчаса тянули с приплясом да притопом.
— Как раз табор-то не спал, не-ет! — с угрозой сказал басок.— А вот совхоз, он, точно,— уснул! Видал, какие стратеги?
— А тебе Маркелов сам говорил? — это Никоныча голос.
— Сам,— подтвердил хрипловатый.— Он сам и на концерте том был. И «строгача» схватил как член партбюро. Ага... За потерю бдительности. На совещании-то он будет. Сам спросишь.
— Ну, теперь в «Киме» заклянутся цыганскую самодеятельность в клуб пускать.
— Да-а, более ста тысяч! — опять восхитился басок.— Теперь, поди, дождись такого коня. Они там «строгачами» ие отделаются. Наверняка что-то будут выплачивать...
— А может, еще найдут Гордеца,— предположил тот, средний, голос.
— А я себе думаю,— мечтательно завел тенорок,— как он летел, тот цыган, на вороном... Красиво!
— Так, поди, летел, что от того Гордеца одно воспоминанье осталось. Ночь, зима... А конь нежный...— сказал хрипловатый.
Он сам, видно, был простужен. Сочувствовал коню.
Все примолкли, будто вглядывались, и Еленка с ними как в чистый теплый станок, где сладко пахнет сеном, овсом и самой лошадью, где все для нее привычно, все свое, украдкой входит чужой. Взнуздывает жесткой рукой, торопливо седлает и выводит на холод, на мороз, и гонит, гонит, впившись в бока злыми каблуками. И вот уже нет дыхания в груди, больно обрывается что-то внутри, и от этой боли подкашиваются крепкие ноги Гордеца.
Молчали внизу недолго.
— Запалит он его,— окончательно убедился за это время хрипловатый.
И тут между ними начался спор, жалеет или не жалеет цыган краденую лошадь. Басок уверял, что нет. Вместе с хрипловатым они утверждали, что если и найдется Гордец, то это будет уже не жеребец, а чистая кляча. А тенорок и средний голос говорили, что других, может, и не жалеют, но Гордец — это же клад. Уж если цыгане так старались, такое отвлечение народу бросили — целый концерт с песнями и плясками, с показыванием фокусов, что и дежурные конюхи в клуб прибежали на часок; уж если так они все продумали, устроили, неужто затем, чтоб Гордеца извести?
Но басок свое твердил. Доказывал, что с таким сокровищем все равно ворам сунуться некуда. Кто ж у них купит? За кордон разве погонят? Ну-ка, попробуй, сунься за кордон! И выходило по его рассуждению, что сама цель была у вора такая: довести жеребца до состояния клячи и потом продать хоть за сколь. То есть продать — цель попутная, а главное — именно такого дорогого красавца свести со двора. И — проскакать на нем. А может, у них даже спор был. А что? С соседним табором.
Потом с не меньшей горячностью заспорили, в кепке или в шапке был конокрад. Вроде бы наутро после кражи нашли за околицей никем из совхозных мужиков не опознанную не то кепку, не то шапку и решили, что она — того цыгана. Ветром, мол, при скачке снесло с него этот головной убор.
На этот раз басок и хрипловатый оказались противниками: басок стоял за шапку, хрипловатый за кепку. Доказать тут, ясное дело, никто ничего не мог, одно было доказательство: «мне говорили...»
Чудно было Еленке слушать их. Не будь голоса такими явно мужскими, ну, так и подумаешь, что это школьники-мальчишки. Еще бы им подбавить лихих междометий и всяких там «бах-бабах»: «А он ка-ак бабах! А они: тра-та-та! тра-та-та! В-з-з-з — бам!»
Когда пошло внизу: «Кепка, нет, шапка!» — Еленка чуть вслух не рассмеялась от удовольствия узнать, что они такие... ребята. А на вид разве скажешь? Большие, строгие, на нее, девчонку, и не глянут. Что она им, занятым мыслями о таких важных и ответственных делах, как техника. Знала по папиным рассказам, до чего трудно с этой техникой. Старая, латаная-перелатаная. После войны возвратили совхозам только часть того, что было мобилизовано в первые ее годы. Но демобилизованные трактора и грузовики, как и люди, возвратились израненными, изношенными. Сколько приходится Никонычу на своей полуторке ездить из района в район по «Сельхозтехникам», по соседним хозяйствам, чтобы выменять, выпросить, купить хоть что из запчастей. Понятно, что и другие, вот эти, сидящие внизу, так же существуют. А сели в поезд и, как мальчишки в ночном, травят свои истории, веселятся. Может, выпили малость? Но уж такую малость, что ни слухом — по голосам, ни нюхом не могла этого уловить Еленка. А нюх у нее был тонкий, недаром домашние звали ее в шутку «великий дегустатор».
Нет, видно просто было им хорошо выпасть на малое время из неотступных своих забот в этом шатучем, полутемном вагоне, тесно сблизившем всех в дружеской своей горсти.
...Митя, это же так просто, так хорошо, так дружно!..
За окном воссияли яркие огни большой станции. Поезд притормаживал. Голова Никоныча поднялась вровень с ее лицом.
— Андревна,— позвал,— вставай. Приехали.
Видно, забыл, как ее зовут, воспользовался папиным именем. Еленке понравилось зваться среди них Андревной.
— Сколько времени? — шепотом спросила.
— Пошел первый час,— ответил Никоныч.
На улице было морозно и по-прежнему ветрено. Раскачивались, поскрипывая, фонари под жестяными тарелками-козырьками.
Высадись Еленка здесь одна, как было бы одиноко только от этого жалобного морозного скрипа и мечущихся теней. А сейчас в чаще этих крупных, уверенных фигур даже и ветер не так задувал.
Они уже вошли в вокзал, а двое отправились в город поискать ночевку. Да уж, в этом зале ожидания ночевать было б несладко: ветер так и гуляет меж его противоположных дверей: на перрон и в город. Ветер гуляет, а сиротский запах какой-то кислятины, стылого махорочного дыма держится. Даже в горле горчит.
Еленка не усмотрела — знак был какой, что ли, от посланных за ночевкой: вдруг все двинулись к выходу в город. Там, на улице, стояли два их товарища и с ними еще один — странная фигура: крупное туловище на укороченных ножках и с короткими ручками в огромных рукавицах. Такой мужичоксноготок, а борода лопатой. Он протянул к ним свою короткую ручку и спросил тонким голосом: «Эти ваши?» Ему ответил хрипловатый: «Они и есть». «Ну, коли так, айдате!» —воскликнул мужичок и колобком покатился вперед.
Они шли вдоль трамвайных путей, и поземка, перемахивая через рельсы, повизгивала, и будто на мгновение прерывался ее ток, но ветер снова вздымал ее, гнал дальше. А город крепко, неподвижно спал. Ни одно окно не светилось.
Довольно скоро маленький вожатый свернул в какой-то двор. Справа — забор, слева — длинный двухэтажный дом, низ его кирпичный, верх — деревянный. Окна нижнего этажа в глубоких нишах над самой землей.
Через длинный коридор, черный, как могила, наполнив его тесноту жестким скрипучим топотом промерзших сапог о промерзшее дерево, вошли в холодные же, пропахшие керосином сени. Наконец заскрипела дверь, верно уж в жилое помещение, потому что сразу пахнуло теплом. Еленка отметила про себя, что мужичоксноготок ни одной двери не отпирал, просто распахивал.
Войдя в жилье, они остановились у входа, пока мужичок не засветил лампешку-семилинейку под давно не чищенным закоптелым стеклом. Выходит, у него не было электричества?
Подняв лампочку, хозяин квартиры слегка им поклонился и пригласил:
— Милости просим... Чем богаты...— и повел свободной рукой вокруг — представил им свое жилье и богатство.
— Раздевайтесь. Я самовар налажу.
Он оставил лампу на столе, приткнутом меж двух окон, утопленных в толстых стенах — подоконники в полметра шириной,— и ушел в сени, прихватив спички.
Механики осматривались осторожно, только глазами поводили, будто опасались повертывать голову. Правда, что тут и осматривать. Был их хозяин богат столом, на вид самодельным: столешница из двух широких и толстых, хорошо выскобленных досок на неровно обтесанных ножках; а кроме стола только широкая лавка да сундук смотрели друг на друга от противоположных стен, и табуретки табунились под столом.
Гости дружно глянули себе под ноги, но что там, на полу, разглядеть не удалось — темно.
— Ну, и на том спасибо! — сказал хрипловатый.— Андревну на сундук или на лавку, а нам и на полу ладно.
— Правильно,— сказал и Никоныч и кивнул Еленке: — Мостись-ка ты на сундук.
Она пошла и села там. Крышка сундука была прямая и, как стол, чисто выскоблена и как бы даже отполирована, матово поблескивала. Еленка кончиками пальцев провела тихонько по шелковистому дереву.
Прибежал хозяин, держа в охапке свернутый в трубу войлок. Бросил у лавки, опять убежал. Вернулся с подушками. Еще сбегал — принес тулуп, бросил его на сундук Еленке. Потом встал среди комнаты, расставив ноги, взмахнул короткими руками и объявил:
— Одеялов нету у меня, вот беда!
— А, ничего!
— И под шинелью...
— Не замерзнем...
— В избе у тебя тепло,— так, каждый по-своему, утешили его гости.
— Сам-то где ляжешь. На лавке? — спросил Никоныч.
— А на лавке! Это мое место. Высоко! Люблю... Как на облучке.
— Что, из конюхов? — Никоныч вел беседу.
— Мы — ямщики! — Хозяин гордо вскинул тяжелую голову, орлом глянул, хоть нос у него был вроде небольшой картошки, никак не орлиный.
— Ям-щи-ки?! Какие тебе сейчас ямщики? — презрительно сощурился на него басок.
— Сейчас, верно слово, вышли,— не обидевшись, согласился мужичок, коротко глянув на гостя через плечо. В тот момент он как раз уставлял стол стаканами для чая, вынимая их из ящика в столе. Оттуда же достал он и ложки, и нож, и солонку с солью и пачку чая.— А были, парень, были. И по городу возил,— говорил он, сноровисто действуя толстыми и будто обрубленными пальцами, так что боязно было глядеть: вот выскользнет стакан...— Да, и по городу... А больше по Волге-матушке зимой, на Казань.
«Песней ведь сказал»,— подумала Еленка, во все глаза глядя на удивительного мужичка.
— Ну, это ладно, это потом,— пробормотал он неизвестно о чем.— Сейчас самовар будет!
И снова выкатился клубочком в сени.
А механики доставали из своих маленьких, кургузеньких чемоданчиков — мода, что ли, у них такая: у всех одинаковые чемоданчики! — хлеб, сало, соленые огурцы, полураздавленные яйца вкрутую, кто-то выложил на стол половинку вареного гуся, а Еленка — мамину ватрушку с творогом, она помялась в сумке, но вкуса ведь не потеряла. Стол получился — красота.
Так как табуреток не хватало, пододвинули стол лавке, тесно-тесно уселись вокруг, и чаепитие началось.
Проголодались все по-настоящему. Первое время ели молча, только хруст стоял от жующих челюстей, только бульканье, всхлипы да кряканье: чай был обжигающе горяч, самовар продолжал кипеть-бурлить и на столе.
Немного спустя, видно, утолив первый голод, кто-то из механиков спросил:
— Что ж ты, отец, без свету живешь? Зимой и день-то темен.
Тот взмахнул ручкой картинно, лихо и бородой тряхнул.
— А! — сказал небрежно.— На что он мне! Мне живого света и зимой довольно. А тьма ляжет, и я спать. Не спится, на вокзал схожу, добрых людей погляжу. В гости, глядишь, кого встречу. Вас-то встретил, а?! То-то! — И засмеялся, вскинув голову, и борода лопатой выставилась вперед. Очень был доволен, что доказал, как им-то хорошо, что у него нет электричества.
После чая хотела Еленка помыть стаканы, но он ей не позволил:
— Нет, дочка, нет, золото! Я по-хозяйски... Сам я, сам!
И она забралась на сундук, по которому раскинула тулуп, а сверху опять оно — пальто с опушкой. Хорошо, что удлинила — спокойно укрывает с ногами.
Механики раскатали войлок и улеглись рядком, головами к окнам, а хозяин взгромоздился на лавку, задув перед тем лампешку.
Еленке сразу расхотелось спать. Она все про хозяина размышляла. Какой-то он был не такой, а сам по себе. Особенный. Не как все. Шесты у него какие... Размашистые, лихие. До сих пор в ямщика играл? А вообще — похож, решила она, хоть ни разу, конечно, не видала живого ямщика. Может, потому и похож, что укороченный, а спина широкая и длинная. Седоку ведь только спину ямщицкую и видно. Спину да затылок. Красный кушак по бедрам под длинной спиной, короткие ручки на весу держат вожжи...
Интересно, сколько же ему лет. Лицо над бородой тугое, скулы мясистые, лоб в толстых округлых морщинах, вовсе не дряхлых. Правда, лоб до макушки лыс, но борода лишь наполовину седа, глаза и вовсе молодые, блестят. Если был ямщиком, это, значит, еще до революции, соображала она...
...Вот как запомнила его Еленка,— подумала теперь Елена Андреевна.
Хотела вспомнить механиков и — не смогла. Не видела лиц. Только высокие, как на подбор, фигуры. Может, они и не были такими — одинаково высокими. Вот Никоныч, например, совсем небольшого роста. Его она помнит. Так он свой, давнишний знакомый. Еленка и всю его семью знала: тетю Зину, его жену, очень худую, всегда усталую и ласковую ко всем соседским ребятам, не только к своим. Детей у них с Никонычем пятеро, и почти у всех иностранные имена: Виль, Джек, Клара, Джон и Роза. Виль — это обыкновенный Вильгельм, а не В. И. Л.— то есть первые буквы имени Ленина, как часто расшифровывается такое имя. Зато Роза была не просто Роза, а Роза Люксембург, как разъяснил однажды Никоныч папе. Заодно вспомнила теперь Елена Андреевна, что в той деревне, откуда родом Никоныч и тетя Зина, было какое-то пристрастие к необычным именам, не обязательно иностранным. В их совхозной начальной школе учились из этой деревни Павлин Иванов и Евстолия Тихонова.
Вспомнив вдруг такие тонкости из своей жизни, Елена Андреевна посмеялась тихонько: вот что помнится... А лица спутников забыла... Она напрягла память: всплыли головы над столом, склоненные к еде... Волосы свалялись, прилипли ко лбам, словно бы мокрые волосы. Такие головы являются из-под шапок, когда их долго не снимали... Вроде бы одна голова светлая, белобрысая. И кажется, это тот, с тенорком. Больше ничего... Ну, и басок: его черные брови и крупный нос. Вот Никоныч... На его широком темноглазом лице всегда держалось сосредоточенное и грустное выражение: губы плотно сжаты, брови сведены, взгляд — в себя. Казалось, он постоянно размышляет, даже сам его лоб — просторный, выпуклый — напряжен от усилия мысли... Впрочем, разве проблемы запчастей, худосочной техники, мехмастерских не стоили такого лба и такой сосредоточенности? А дети его? О них тоже надо было думать. Дети были просто замечательные: умные, учились прекрасно и все, как один, как их мама,— добрые. Еленка их знала: Джек дружил с ее братишкой, Клара — с сестренкой.
И, может быть, Никонычу было грустно думать, как быстро растут его замечательные дети и всегда чего-нибудь им не хватает: то сапог для мальчишек, то пальтишек для девчонок... Но возможно, что об этом предмете — одежке для своих детей — вовсе и не задумывался совхозный механик. И это даже скорей всего.
...Кто-то из спавших на полу поднялся, пошел к двери. Ему вслед полетел звонкий, нисколько не сонный голос хозяина:
— Спички есть? А то в сенях угодишь не туда... Темно...
— Есть...
Так началась вторая часть этой ночи. Механики запотягивались, захрустели суставами, заворочались.
— Вот он, чаек твой, отец! — то ли с упреком, то ли с похвалой воскликнул тенорок.— Спать хотел — мочи нет, а теперь ни в одном глазу.
— А-а, чаек — это да! — охотно откликнулся хозяин.— Спасибо добрым людям. Вроде вас, тоже ночку гостили, оставили мне пачку. Свово-то у меня нет. Куды!
Притихли, вслушиваясь, как неуверенно — то громче, то тише — стучат шаги в коридоре... Потом в сенях... Вернулся со двора выходивший. И, словно его только и ждал, подал голос хрипловатый:
— Отец, вот ты говорил — ямщик. Выходит, еще до революции прихватил работы? Не семьдесят же лет тебе? Или совсем пацаненком ямщичил?
И подхватился мужичоксноготок! Круглым каким-то перекатом — по звукам, донесшимся из его угла, поняла Еленка — он пришел в сидячее положение на лавке и заговорил, радуясь и ликуя, словно наконец дождался он нужного вопроса!
— Право слово, почитай семьдесят! Шестьдесят девять — не хочешь? То-то! Мы — порода крепкая, волжская!
«Надо же, вроде и не понимает, что укороченный, еще и гордится своей породой»,— удивилась Еленка.
— А не скажешь, я бы не сказал,— вступил тенорок,— смотри-ка, никакого туману в тебе, отец, не видать. Молодец...
— Все-таки после семнадцатого года было тебе тридцать пять,— вычислил тем временем хрипловатый,— а остальные годы до пенсии, скажем, ты ж не в ямщиках ходил? Тогда чего до сих ямщиком себя величаешь?
— А того! — звонко и счастливо воскликнул хозяин.— Ямщик я, и все тут! Я тебе так скажу: более ничего не помню! Хотя, конечно, всю жизнь работал. И больше — с конями. Люблю коней. В извозы хаживал. Да трудно мне, видишь ли, ногами перебирать...— Он как-то всхлипнул, всплакнул, что ли, на минутку, невидно в темноте.— Потом уж в дворники пошел... Метлу взял вместо лошадки. Жить надо было где-то. Ничего, живу.
Еленка боялась, что сейчас кто-нибудь из тех, кто молчал, призовет к порядку говоривших, спать, мол, надо. Но ошиблась. Один за другим вступали в разговор механики.
— А так оно,— сказал задумчиво тот, обычный, средний голос,— что-то помнишь из жизни своей, а что так, пускаешь без памяти.
И набрал звону потускневший было голос хозяина, заиграл, залился:
— Ой, вспомню я свои красные денечки! Юношество свое! Полный день ты на поле: сенокос там, хлеб ли убирать,— наломаешься: ни спины, ни ног, ни рук... А поужинаешь, ночь падет свежая, росой тебя одышит, ветерком охватит, и нет в тебе опять же ни ног, ни рук — одна только легкость! И пошел в другое село к милашке! Туда десять верст, оттуда... Ворочаешься под ясной зарей. Уж и птицы голоса пробуют. Много — час подремлешь и сызнова за работу-костоломку. А вечер пал — опять я за свое. Вот оно что — молодые-то годы!
— Смотри, бедовый ты был, отец,— пробасил чернобровый будто даже с завистью.
— А рази ты не был таким, сынок?
— Да что-то такое было... Но ты вон как помнишь, а я будто поневоле: ты говоришь, а я вроде про себя слушаю. Сам же не помню...
— Погоди, парень! Достигнешь моих годов — сами расцветут все лазоревы Цветы. А пока что тебя жизнь одолевает... То да се. Я ить зна-аю!
— Мо-ожет быть,— задумчиво, не похоже на себя, протянул басок.
— Ты, выходит, крестьянствовал? — спросил средний голос. — А ямщичил после?
— По зимам, милок, по зимам. Как Волга станет. Лошадок батя берег, выхаживал, нежил до зимы. Мы — братья — больше свои спины ломали, а тройку берегли, холили! Меня купечество знало... Посадку имел. И голос был, мужики-и! Это, говорят бывало, про тебя в по заказам купечества: на катанья, на гулянки, чем по городу. А раз довелось мне одну честную девицу духовного звания на тайное венчание, в побег то есть, мчать.
— Вон как! — в один голос удивился тенорок и тот, средний, а с ними молча и Еленка.
— Себе, что ли? — насмешливо спросил басок.
Для задору, конечно, спросил, понятно было, что не для себя.
— Зачем бы мне! — охотно откликнулся необидчивый хозяин.— То один купеческий сынок, отец его первогильдейный был, по хлебному делу самый у нас большой в Симбирске! Ну, а сынок нежный, капризный. Вот жениться захотел. А папаша: женись, на ком велю. А выбранная сынком им ко двору никак не подходила: то ли Пономарева дочь, то ли дьячкова. Бедная, одно слово. Училась тут у нас в училище для девиц духовного звания. Держали их строго, куды! Так я ее, братцы, один принимал, с черного ходу. Вышла она как есть в одном платьице... Такое мне доверие было.
— Что ж ты ее в одном платьице и катал? — усмехнулся басок.
— Господь с тобой! — даже испугался ямщик.— Как можно! И шубу, и шаль пухову, и боты — все мне заране доставили. Со всем добром должен я был прибыть на хозяйственный двор. В два часа ночи, да чтоб минута в минуту. Дворник в училище должно куплен был тоже: ворота на двор не заперты. Меня так и учили: толкни, говорят, ворота, они сами откроются. Все так и было. А она, девушка, как вышла, так и без чувств! Так у них водилось. Я ее в охапку, да в кибитку! Улицы за три впервой обернулся к ней: она в шубе уже и шалью укуталась, а все зубки у ней стучат: как коней-то придержал, так и услышал. «Не горюй,— шепчу ей,— скоро тебя доставлю». На Волге дорожка, как по маслу... Вот летели, вот мы летели!
— Эй,— позвал озабоченно Никоныч,— а купчик-то где был?
— А он в селе, при церкви дожидался. Поп у нег был сговорен, все на мази.
— Ну, а потом что? — голос Никоныча стал строгим.— Жили они семьей?
Легко вздохнул в ответ хозяин:
— Чего не знаю, не скажу... Было то в шестнадцатом году. Здесь я боле не встречал их. Нет, не встречал нигде! А узнал бы,— даром, что при ясном свете видал ее на один погляд. Помню!
И принялся он расписывать ту девицу: и голубые глаза, и золотая коса, и легкая, как голубица. На руки принял, и будто в ней веса нет...
Про вес, может, и так,— согласилась про себя Еленка,— раз на руки принимал.
Но механики его не прерывали, не задавали насмешливых вопросов, слушали доверчиво, как дети. Только басок поинтересовался:
— А что, наградил тебя купчик?
— Не обидел, мил человек! Куды! Сто золотых рублей в кожаном кисете,— вот как!
...И то, что сто, и золотых, и в кожаном кисете — все было к месту, ладно и складно, как голубые глаза и золотая коса, потому, наверное, и слушали его с доверием и благодарностью,— так судила сейчас Елена Андреевна. Тогда же другое было у нее состояние: будто все правда, что говорит ямщик. И мало того, что правда: они и сами попали в то время, пройдя по безлюдному ночному городу, по черному туннелю коридора, сквозь кромешную темень сеней в комнату, где недаром же и электричества нет... Вот рассветет, выйдут они на улицу, по которой разъезжают тройки с девицами — голубые глаза, золотая коса,— завернутыми в шубы... И в то же время знала она твердо и решительно, что нет этого и быть никак не может...
...Как похоже,— думала Елена Андреевна.— Ведь и сейчас в ней, как в тогдашней Еленке, сходилось прошлое, миновавшее, и нынешнее ее время со взрослым Митей, равным по годам той Еленке.
— И вот, ребяты, едучи дальше на Казань, это чтоб следы-то замести, да порожняком — по той же причине: пусть никто не докажет, в каком селе я остановку делал; да еще при золоте,— вот дал я душе волю, вот пел! Никогда так не пел. Сейчас так и радиво не поет... Так-то.
— Ты и теперь, я думаю, неплохо поешь,— заметил тенорок. — Голос у тебя такой звонкий.
— Э! То, парень, в разговоре... В разговоре эта звонкость. А заведу-зальюсь и... Сведет горлышко-то. А ведь, глядишь, вот-вот вытяну, пойду дальше. Нет,— приуныл ямщик,— ссушило мне горло. Ссушило, парень...
— А ты не лезь больно-то в верха,— посоветовал тенорок.— Ты так только веди, а мы тебе подсобим, а? Подсобим, мужики? — спросил он своих.
— Хм...— усмехнулся хрипловатый.— И подсобим, а что?!
— А не шутите над стариком? — замирающим голосом спросил ямщик.
И наперебой ответили ему голоса механиков:
— Что ты, отец! А вот споем, да и все!
Ямщик-хозяин засмущался:
— Ну, право... Ну, да уж, раз желаете... Пока темно, стыда не видать. Вдруг да и пойдет, хором...
Он откашлялся осторожно. Все притихли. Тишина оказалась столь же плотной, полной, давящей, как и темь в холодных сенях. Но, видимо, старик не слышал тишины: он уже вслушивался в песню, начавшуюся в нем. И вот заколебался, как тихое первое пламя костерка вибрирующий неуверенный голос:
— Вот мчится тройка удала-а-ая...
И не в лад друг с другом, словно бы толкаясь, не сразу прилаживаясь в ногу,— глухо, низко подсобили ему голоса гостей:
— ...по Волге-матушке зимой...
Потом они выровнялись, пошли дружней, и голос хозяина тоже окреп, исчезло дрожание:
— Ямщик, уныло напева-а-ая-а-а, качает буйной головой...
...Как и тогда, в ту ночь, у Еленки, слезы неожиданно выступили на глазах Елены Андреевны от какой-то непонятной тоски, вдруг сдавившей грудь, отнявшей дыхание... Что это? Откуда взялась сокрушающая душу жалость ко всем: ямщику, механикам, себе?
«Митя, Митя! — воскликнула Елена Андреевна.— Ты слышишь, слышишь, как они поют... Теперь-то я знаю, откуда тоска и жалость. А тогда я не понимала... Вот сейчас знаю: оттого, что сказалось в песне, как все обречены под этой тьмой. Конечно! Ямщик стар, и скоро окончатся его воспоминания вместе с ним... И механики состарятся, и я — что, что мне было двадцать лет? Я тоже в свое время, тоже умру. И оттого, Митя, почувствовала это Еленка — ей песня подсказала. Живая песня всех переживет, всех, кто поет ее сейчас. Как пережила тех, кто пел ее когда-то. До ямщика, до нас...
Еленка вслушивалась, глотая слезы, понимая, что одна эта песня жила в тот зимний ночной час среди тьмы, сна и неподвижности. Лишь снежным, едва различимым светом светлели окна, разделенные на квадратики переплетом рам. Над этими окнами громоздился толстостенный тяжелый дом, над ним — снег, ночь, черное небо. Лишь мятущиеся от фонарей тени, как духи ночи, ширяли туда и сюда, притворяясь живыми. По-настоящему живой была их песня. Не механическая радиозапись — ее одухотворяли теплые уста живущих ныне. Только так и жива песня, и бессмертна.
Сама Еленка тоже несла, берегла песню, но не вслух, вместе со всеми, а про себя, потому что стеснялась запеть вслух, не смела, только чувствовала, что она — такая же, как они, еще вчера незнакомые люди. А они не знали, что это так, потому что Еленка не запела с ними. И, может, думали, что она — не с ними, другая, чем они. Если думали о ней хоть секунду...
Ну и пусть,— она-то знает... И было Еленке от странных ее мыслей еще горше и еще слаще...
...Сейчас, переживая за Еленку, Елена Андреевна объясняла Мите: «Правда, Митя, я до тех пор думала, что они другие — эти взрослые бывалые люди, ровесники папы или чуть помоложе. Что думают они и разговаривают между собой только о делах, планах, запчастях и автомашинах, а если говорят о личном, так в крайнем случае о семейных делах или уж о войне... И ведь знаешь что, Митя, они про меня так же думали, сейчас я это наверняка знаю! Они думали, что мне с ними неинтересно. Вот ведь как...»
… А песня все набирала стройности. Механики гудели в унисон, низко стлали голоса. Ямщик, распевшись, пошел на риск, хотел, видно, взять свои былые верхи как раз на ответственном: «Так тройкой тешился детина...» И, правда, полетел его голос жаворонком, выше забираясь, выше! — на этом самом «те-е-е»... И вдруг — обрыв! Грубый, ужас! Будто кляп всадили в поющее горло... Закашлялся, застонал ямщик. И медики оборвались разом.
— Нет, Ваня, нет, отпел ты свое... Куды полез...— прошептал, откашлявшись, ямщик.
— Отец, ну ты, право, какой азартный,— тоже шепотом сказал хрипловатый.— Уговаривались, чтоб потихоньку... А ты...
— Потихоньку, говоришь... Да разве то пеньё... Все равно что рысака понужать борону тянуть... А-ах... Только сердце растравил...
Даже голос у ямщика изменился, не узнать: вялый, тихий.
— Полно-ко тебе, отец...— вполголоса сказал тенорок,— все ж спели мы с тобой. Веришь, только на гулянках, при выпивке, пел. А чтоб так... Ты что-о... Никогда...
— Верно,— коротко откликнулся Никоныч.
А больше никто ничего не добавил.
— Эхма! — вздохнул, всхлипнул ямщик, хоть и горестно еще, но уже и легко.— Добрых людей бог послал, Христос с вами...
— Спокойно спи, отец,— пробормотал кто-то сонным уже голосом.
Тишина на этот раз пала легкая, бережная, без всяких ожиданий, такая, чтоб в ней спокойно уснуть. Последние слова говоривших враз уняли и Еленкины переживания за сорвавшегося ямщика. Стало ей, как бывает в детстве после горьких слез, когда утешат тебя, приголубят; и сердце, измученное горем, вздрагивая, затихает, и сладко ему и спокойно в тишине после бури.
Их поезд уходил в час дня. С утра, напившись чаю с хлебом и сахаром, простились они с хозяином. И Еленкину руку он подержал, не пожимая, в своей огромной ладони и сказал:
— Тихая ты девушка, дай тебе бог доброго человека.
— Спасибо,— сказала ему Еленка,— будьте здоровы, дедушка.
Почему-то ей не стало неловко от его старинных слов. Механики подхватили свои одинаковые чемоданчики — как только не путают?! — а Еленка — сумку чтобы уж не возвращаться на квартиру, не тревожить хозяина. Решили по городу походить и непременно побывать в доме-музее Ленина. Еленка обрадовалась такому желанию механиков, хоть уже бывала у Ленина еще в прошлом году, летом.
Хозяин проводил их до ворот, кричал вслед по-прежнему звонко:
— Теперь знаете дорогу ко двору! Если что — прямо ко мне!
Они пооглядывались, кивая ему: мол, знаем, придем... Он стоял у ворот, маленький, широкий в незастегнутой телогрейке, расставив укороченные ноги в теплых шерстяных носках и калошах. Шапка на его большой голове казалась детской — борода шире шапки.
Сколько раз потом Еленка проезжала Ульяновск, заглядывала в пристанционные улицы, но так и не могла найти ту улицу и тот двор. Это ведь так: когда тебя ведут по незнакомому месту, а не сама ты торишь дорогу, после, когда отправишься одна, все кажется не так, незнакомым, словно и не бывала — А он в селе, при церкви дожидался. Поп у нег был сговорен, все на мази. — А он в селе, при церкви дожидался. Поп у нег был сговорен, все на мази. тут. Все, как впервой.
Улица, на которой стоит дом Ульяновых... Пристально вглядывалась в не— А он в селе, при церкви дожидался. Поп у нег был сговорен, все на мази. е сейчас Елена Андреевна, поняв, что эта самая улица и привиделась ей сразу после ссоры с Митей, после того, как ушел он, крепко стукнув дверью...
Старинный, тихий вид у деревянных и кирпичных домов; насупленные над окнами снежные фестончатые козырьки придают сонливость и уют улице; жиденькая поземка несется по мостовой, курится на округлых сугробах между нею и тротуарами... Группа из шести человек: пять крупных мужских фигур и одна девичья в голубом пальто с черной оторочкой. Больше никого на всей улице. Они идут, а их перегоняет поземка...
В музее, однако, люди были. Немного, тоже не более пяти-шести человек. Наверное, потому к ним не вышел экскурсовод. Спрашивали у старушек служительниц, а больше читали объяснения на табличках.
Осторожно двигались по узким коридорчикам громоздкие механики, стараясь не поскользнуться в музейных суконных лаптях, длинными тесемками поденных к сапогам и чесанкам. Внимательно, подолгу вглядывались в фотографии матери и отца, сестер и братьев. В дверях столовой сначала постояли, окидывая взглядом всю комнату, самую большую в доме, с просторным устойчивым столом, окруженном стульями. Первым остановился там Никоныч и тот, у которого был средний голос. За ними и другие.
Потом, проходя мимо стола, кто-то из них украдкой, как школьник, не умея справиться с искушением, - провел
рукой по спинке стула.
— Хорошо у них,— кивнул одобрительно басок.
— Большая семья — хорошо...— отозвался ему голос хрипловатого.
— Когда дружная,— сказал Никоныч. Уж ему-то это было известно досконально,— Конечно,— добавил он,— когда никто не живет, порядок так и стоит... Думаю, сколько ребятишек здесь бегало. Поживей было...
И, услышав это, Еленка в который раз поразилась, что думают они о пустяках даже здесь! Думают о житейском, частном, а не о всемирном значении этого дома и семьи.
Еленка поразилась, а Елена Андреевна усмехнулась над ней: в двадцать лет была такая замороженная... Но тут же припомнила, что для себя она и тогда допускала такой житейский интерес, а удивлялась ему именно во взрослых, занятых ответственной и тяжелой работой мужчинах.
«А вспомни-ка,— сказала Елена Андреевна той Еленке,— вспомни, хоть и был в тебе такой интерес, по-новому начала ты смотреть вокруг после тех слов...»
И правда: именно после сказанного механиками увидела Еленка как въяве отодвигаемые от стола стулья; сломался их строгий ранжир; увидела чуть сдвинутую скатерть; услышала топоток детских ног в коридорчике...
В маленькие комнаты детей и отца с матерью не входили, осматривали их, стоя в дверях. Вот тут жил Александр... Тут Анна... Сам Володя... Жили... Узкие, покрытые белыми пикейными одеялами кровати. Такие же в спальнях родителей. Маленькие комнатки. Зато у каждого своя. Закрыл дверь — и ты сам с собой. В гости друг к другу ходить можно...
Еленка, проходя по узкому коридору, невольно услышала разговор своих спутников, стоящих в дверях комнаты отца.
— Смотри-ка,— понизив голос гудел басок,— и у отца, и у матери кроватки — один едва уместишься, а детей сколько...
— Наверное, музейщики постарались, сменили кровати — серьезно ответил ему тенорок,— чтоб людей на грешные мысли не наводить.
— Это что ж за грех, когда дети,— отозвался третий, Никоныч,— узнала Еленка, спешащая пройти в смущении и смятении как мимо опасного места. Знала, нехорошо говорить о таком, грубо, но при этом чувствовала уже и понимала: не было ни грубого, ни скабрезного в мыслях говоривших. Одно человеческое недоумение. Оттого и подхватило Еленку смятение: столкнулись внушенные приличным воспитанием табу и согласие с услышанным. Ощущение правды в сказанном механиками. Просто они думали о них как о себе. Как о живых людях.
...Теперь Елена Андреевна понимала, что если б Еленка уже не знала, какие они — эти мужчины, думающие здесь о таком, то конечно же возмутилась бы и оскорбилась. И — ничего бы не поняла. Эх, как важно хоть как-то, хоть немного знать людей, чтобы судить о них, понимать их нечаянные мысли!
«Митя, Митя! — призвала сына Елена Андреевна.— Видишь, как бывает между людьми... Ты видишь...»
На сердце у нее потеплело. Словно побывала дома среди своих родных: с папой, мамой, сестрами, братом... Было ли так и тогда? — спросила себя.— Да, было, было! Сверкающий холодной чистотой музей каким-то образом согрелся, смягчился, наполнившись живым дыханием этих, вчера ей не знакомых мужчин.
...Когда они в прихожей музея разувались, отвязывая суконные лапти, у Еленки вдруг открылись уста, сами собой, без ее ведома, и она сказала, обводя взглядом своих спутников:
— А жалко, что сейчас зима. Летом тут как хорошо. Сад есть. О н и любили собираться в саду... Дети играли...
Она тут же и покраснела, удивившись себе, но дело было сделано, и они заговорили с ней.
Елена Андреевна услышала, как заскреб ключ в замке, глянула на светящийся циферблат часов: нет, это не Майка, ей рано. Значит, уже Митя. Она вышла из комнаты, щурясь после темноты под яркой лампой в прихожей, радостно чувствуя сына с собой, безраздельно, будто и вправду то, что пережила в воспоминаниях, держа его в уме,— пережила вместе с ним, и ничего не нужно объяснять. Глупыми, мелкими казались все ее недавние обиды...
— Ты пришел? — спросила его, счастливо улыбаясь, и протянула руку, чтобы дотронуться до него. Митя резко и враждебно отстранился, холодно посмотрел:
— И что ты за человек? — спросил, кривя крупные, как у отца, у королевича, губы.— Сама оскорбляешь, потом сама же подходишь... Улыбаешься, будто ничего не случилось. Хоть себя бы уважала...
Он резко повернулся и пошел в свою комнату. Елена Андреевна почувствовала силу удара, но в ней была еще сильна и инерция принятого решения и только что пережитого чувства родства со всеми.
— Да ты погоди! — крикнула ему вдогонку.— Я хорошо подумала и поняла, что, правда, лучше купить эту дубленку!
Митину комнату как бы поразило оцепенением. Мертвая тишина. Стынь... Елена Андреевна внятно слышала: холод, стынь, но продолжала, торопясь сказать главное, что, ей казалось, оправдывало новое ее решение:
— Знаешь, потом, когда износишь, мы ее Майке переделаем. Здорово, да? Сейчас я дам тебе деньги. Подожди!
Она кинулась к своей сумочке, где держала деньги. Взяла и, повернувшись к двери, увидела Митю. Он стоял в дверях, и лицо его словно корчилось: отчаяние, гнев, презрение и еще что-то детски-жалкое, обиженное, горькое,— все эти чувства метались в глазах, губы подергивались; лицо дрожало в усилии удержать какое-то одно из смятенных чувств. Верх взяла детская обида:
— Ты... Ты знаешь ли, куда я ходил? Я отказался от дубленки. Ее тут же взял Сашка Матвеев. Тут же! Поняла? — Выговорив это, он перевел дух, видимо, обрел силы и вызвал к жизни презрение: — Ты опоздала со своим решением... И я тебе этого никогда не прощу... Так и знай.— И как и не было Мити.
В той комнате что-то звякнуло, щелкнуло и понеслась лавина оглушительных звуков. Бесстрастный ритм барабана оттенял их глуховатым: тум... тум... тум... Неслась лавина, камнепад, все сминая на своем пути, не оставляя ни одного потаенного уголка для собственной мысли, ощущения... Перемалывая кости только что звучавшим мелодиям... Где там ямщик... Где голубое пальто... Где та Еленка... Сам Митя, ее сын... Ее друг...
Елена Андреевна как уронила себя на край дивана. Сидела сгорбившись, сжав плечи, в позе человека, терпеливо пережидающего ненастье. Дала себя тащить лавине. До нее плохо доходил смысл выкрикнутого Митей. Ей смешно стало: он не простит ей никогда! Что? Дубленку? Деньги? Бедный, бедный мальчик! Такие страсти!.. Из-за чего... Он просто не понял, что она уже поняла: никаких денег не стоит их жизнь... То, что они друг для друга... И она ведь сказала ему. А он все равно не понял... Все-таки, почему он так зло, так мстительно кричал? Почему? Неужели только дубленка... Может, это просто повод?.. Так ведь она поняла и сказала... Или он только к ней так, к матери... А к другим — с пониманием... Говорят, к матерям всегда так. С ними можно — они все равно простят... Никуда не денутся. Но ведь и ты была дочкой, девчонкой,— возразила она себе.— А такое и представить себе... Да никак, никогда... Наберется ли Митя добрых воспоминаний в своей молодой жизни? Что было чем жить душе. Потом. Когда еще труднее будет. Как ей сейчас.
Пожалуй, о добрых-то воспоминаниях самому бы надо заботиться. Помаленьку, понемножку... Например: «Как меня обидела мама, не дала вовремя денег на дубленку, а я ее простил... Несчастную...» Елена Андреевна усмехнулась, но как-то вяло, одной мыслью. Усмехнулась, даже лицом не дрогнув. Ей было легко следить за своими мыслями, вопросами. Словно кто-то посторонний гнал перед нею череду их, а она лишь успевала замечать, не в силах отозваться чувством. Грохот музыки вымывал из нее боль, гнев, обиду, даже и жалость к сыну.
— А-а... Вот оно что...— догадалась Елена Андреевна, прислушиваясь к пустоте внутри себя. — Анестезия — вот что... Оглушить себя. Забыться...
Она потраяла головой, чтобы очнуться.
— А ведь ты эгоистка, — подумалось отчетливо. — Ты подготовилась к встрече с Митей. А он? Это деньги он может заработать. А где ему взять сил для любви? Иди, иди к нему, Еленка...
Елена Андреевна поднялась. Когда она открыла дверь к Мите, волна музыки так хлестнула по ней, словно хотела вышибить вон.
А-а... Это чистое Митино время — эта его музыка... Как громко... Может, и все дело-то в другой музыке?
1985, ноябрь
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





