ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
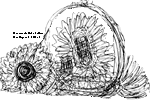

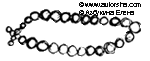
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Полякова Надежда 1971
Поспел самовар и, водруженный на стол, тоненько запел, длинно и криво отражая сидящих вокруг.
Приезжие развернули полукопченую колбасу, сыр. Крупные ломти хлеба резали потоньше, намазывали маслом, покрывали лепестком колбасы.
Трое — пожилой лысый мужчина с глазами в красных прожилках, женщина лет тридцати пяти с ямочками на щеках и молодой, ясноглазый, по-мальчишески нескладный — ели вместе. Четвертый — пожилой шофер с сухим темным лицом, ни на кого не глядя, примостился на краешке стола и жевал свое из отдельной бумажки.
Женщина, незаметно для других, рассматривала себя в самоваре, склоняя голову то к правому, то к левому плечу. Она раскраснелась от чая и, наигравшись со своим отражением, вдруг встретилась глазами с хозяйкой, которая украдкой следила за ней, сдерживая улыбку.
— Как вас зовут? — спросила женщина.
— Анна Егоровна.
— Хорошо у вас, Анна Егоровна. Раньше я много ездила, а теперь все реже и реже. Уставать стала в дорогах.
— Рано еще уставать-то, молодая, — ответила Анна Егоровна, и было видно, что недавнее раздражение из-за неожиданных ночлежников у нее прошло. — Приезжим у нас хорошо. Самоварчик поставить или картошечки сварить — это пожалуйста. Внучонок не мешает, он все больше на улице, как только тепло наступит, так и домой не загнать, только есть да спать домой бежит. Невестка тоже не мешает, не прекословит, а сын...
— Дом у вас хороший, большой... Да и вся деревня как будто только что отстроена, — перебил лысый.
— Дома у нас у всех хорошие, — польщенно ответил хозяин, сквозь рыжие волосы у него дружно пробивалась седина, и от этого волосы, казалось, постепенно догорали, покрываясь пеплом. — Дома у нас у всех хорошие. Построились после войны. До войны-то хуже были, а в войну деревни не было совсем, сожгли деревню-то, партизаны тут были, в лесах-то, вот фашисты и сожгли...
— А вы где были? — спросила женщина.
— А кто где. Я на фронте. Мать вот с двумя ребятишками в Германию была угнана, старший сын в армии, дочка... Дочка-то поначалу пропала...
Лысый встал из-за стола.
— Душно в доме. Пойдем, Коля, покурим на крыльце.
Высокий парень, неожиданно вспыхнув, как девушка, встал из-за стола, сказал хозяевам спасибо и вышел вслед за лысым.
Шофер завернул остатки еды в газетку, аккуратно сложил в чемоданчик, отсел от стола под тяжелые листья фикуса и уткнулся в вытащенный из кармана замахрившийся на сгибе журнал «Здоровье».
— Вы сказали, что дочка сначала пропала... Сколько же ей лет было? Куда пропала? Как? — спросила женщина.
— Неинтересно вам это, — вздохнул хозяин.
— Да что вы! Еще как интересно!
— Ну вот, значит, дочка-то пропала. А я в армию ушел. И растерялись мы все. Я ничего о семье не знал, да и они ничего обо мне не знали... Мать вот с ребятишками в Германию...
— Старшенькому-то, Сашеньке, было семь лет, а младшенькому, Ленечке, всего три годочка, — вставила Анна Егоровна.
— Да... семь и три... Пишу это я домой... Пишу, когда тут все освободили, никто не отвечает. Беру это я отпуск, уж война-то почти кончилась. Приезжаю сюда... А тут... Одни камни от фундамента, пожарище, одним словом. Посидел на камне, поплакал. Да, поплакал. Мужик, солдат, а поплакал... И обратно поехал в часть. А приехал в часть, говорю своим — никого, мол, нет, не нашел. От такой семьи ни одного человека. А у меня спрашивают: в сельсовет-то зашел? Нет, говорю, не заходил. Чего ж ты не зашел? Может, кто и знает о твоих-то что-нибудь? Напиши, говорят, в сельсовет письмо с просьбой. Должны ответить. Ну вот, значит, написал я. Так и так, мол, солдат я из деревни Брусницыно, по фамилии Коренев, Иван Федотыч. Дети, дескать, у меня, жена, и все такое. Было, дескать, все... А теперь вот приехал — и никого, и ничего... Помогите, если можете...
Иван Федотович умолк, как бы вглядываясь в то далекое прошлое.
— Да... так вот... и написал...
— Ну и что же? — поторопила женщина.
— Ответили.
— Кто ответил-то, Ваня, скажи, — вмешалась Анна Егоровна. Чувствовалось, что именно тут и будет самое интересное, самое неожиданное, и перед этим самым интересным и неожиданным Иван Федотович, как хороший рассказчик, сделал паузу.
— Кто же ответил?
— Кто? Думать не мог — кто. Дочка моя. Так и написала. Папа, мол, дорогой, я была в партизанах, а теперь стала председателем сельсовета. О маме да о младших братьях ничего не знаю, живы, нет ли. Угнали в Германию, а где теперь — не знаю. Сережа, это старший наш, убит. Извещение, пишет, получено, через военкомат добилась ясности.
— Вы слышите, какая история, Петров? — обратилась женщина к сидящему под фикусом шоферу.
— Чего ж не слышать? Во время войны всем досталось.
— Всем-то всем, но надо же, на одну семью столько свалилось.
— Не на одну, а на всех свалилось.
— Ах, Петров, вы так всегда говорите, как будто больше всех знаете.
— Мое дело баранку крутить. Моего мнения никто не спрашивает. Сколько мне надо, столько я знаю.
Женщина стремительно встала и вышла. Дверь за ней осталась приоткрытой, и с крыльца был хорошо слышен ее голос.
— Коля, включите магнитофон, можно записать интересный рассказ нашего хозяина, Ивана Федотовича... Яков Маркович, вы бы послушали, может, нам пригодится...
Хрипловатый голос лысого ответил недовольно:
— Не к чему нам все записывать. У нас тематическая поездка. Завтра вот поговорим с председателем колхоза. Нам нельзя разбрасываться. Все интересное записывать — жизни не хватит. А что вам показалось в его рассказе?
— Ну... как он в войну семью потерял... Потом как нашел...
— Это все сто раз было. Сейчас у нас другие задачи. Растущее благосостояние... А между прочим, Петрова не трогайте... У него в блокаду жена и двое детей... от голода… Вместе мы с ним... на Пискаревку...
Женщина вернулась в комнату и смутилась, поняв по лицам, что ее разговор на крыльце был услышан. Как бы оправдываясь, она тихо сказала:
— Думала записать ваш рассказ... интересно ведь...
— Кому интересно, а кому и нет, — возразил Иван Федотович. — Вашего товарища что интересует из колхозной жизни?
— Скотный двор, коровы, растущее благосостояние...
— И то, и другое есть. И благосостояние растет. Растет, ничего не скажешь. Раньше велосипед в деревне был в диковинку... А теперь телевизоры покупаем... А наша прошлая жизнь ему ни к чему. Зря вы беспокоились. Как вас по имени-отчеству?
— Нина Николаевна.
— Так вот, Нина Николаевна, вы молодая, жизни не знаете. А может, знаете?
— Да как сказать? Может быть, и не знаю. А иногда кажется, что тоже кое-что знаю.
— В войну-то где были?
— На фронте. То есть не совсем на фронте, а в санитарном поезде, в эвакогоспитале.
— Сколько ж вам лет-то было?
— Когда?
— Когда шинельку-то надели?
— Четырнадцать.
— Совсем девчушечкой была, — вздохнула Анна Егоровна. — Нашей Аньке хоть восемнадцать было. Тоже не ахти как много, но все-таки человек. А что четырнадцать? Ни то ни се.
— Как же в четырнадцать попала в госпиталь?
И вдруг Нина Николаевна стала рассказывать, неожиданно для себя с почти позабытыми подробностями, как бы в благодарность Ивану Федотовичу за его доверие и его рассказ и как бы желая сгладить неловкость от невнимания Якова Марковича.
— Мать у меня в армию призвали... Меня некуда было деть. Повела она меня к знакомому начальнику госпиталя и упросила. Сначала он ругался: «Не детский сад у меня! У меня работать надо, а вы мне детей подсовываете!» Ну, мама, конечно, в слезы. Куда, говорит, я ее дену? В детский дом — жалко. А она вам стирать будет. Ну вот и стирала. — Нина Николаевна замолчала, как будто пропуская что-то тяжелое, о чем не хотелось вспоминать.
В комнату вошел мальчик в резиновых сапожках и в курточке и ткнулся в колени Анне Егоровне. Вслед за ним, чуть помешкав в дверях, вошла молодая женщина, то ли с испуганным, то ли растерянным лицом, бледным и усталым.
— Это — наша невестка, Маргарита. А это наши ночлежники, постояльцы-журналисты, из Ленинграда по благосостоянию приехали, — с какой-то непонятной для Нины Николаевны поспешностью объяснила Анна Егоровна. Маргарита быстро скользнула взглядом по лицам приезжих и слабо кивнула. Петров посмотрел на часы, сначала на стенные, потом на свои, на руке, встал и отправился спать в свой газик.
— Устала я сегодня, мама, — сказала Маргарита. — Сколько добивались елочки, а теперь то одно, то другое. Всё не могут наладить как следует.
— А вы — доярка? — спросила Нина Николаевна.
— Доярка.
— Тяжелая у вас работа?
— Теперь уже не тяжелая. Вот была тяжелая, когда руками. Просто пальцы сплющивались, плоские становились. Теперь-то ничего, теперь, можно сказать, легко.
Нина Николаевна непроизвольно взглянула на свои белые пальцы с аккуратным маникюром, на сильные, крепкие, разработанные стиркой кисти.
— Мы ехали мимо, видели ваш новый скотный двор. Дворец прямо.
— Дворец-то дворец, а воду на себе таскаем. Все руки ведрами оттянем. Спина болит.
— Может быть, вы расскажете Якову Марковичу об этом?
— Ему председатель все расскажет на высшем уровне, — сказал Иван Федотович, кровно обиженный невниманием корреспондента.
Маргарита умыла ребенка, накормила его, молча поела сама, ела медленно, как бы раздумывая над каждым куском и забывая о людях, которые сидели тут же. «Вся в себе, сразу не разберешь — хороший человек или нет», — подумала о ней Нина Николаевна.
Анна Егоровна на цыпочках, словно боясь побеспокоить Маргариту каким-нибудь неосторожным звуком или движением, собрала со стола посуду. Аккуратно перемыла чашки, вытерла новеньким полотняным с каемочками полотенцем, поставила в буфетик. И только когда Маргарита ушла в маленькую комнату-боковушку, спросила:
— Ну, кому с кем стелить? Спать пора.
— Всем отдельно, всем отдельно, пожалуйста, — встрепенулась Нина Николаевна. — Почему вы подумали, что с кем-то?
— Мне что? Я и вместе могу вас положить. Приезжали тут зоотехник и агрономша. Тоже у меня остановились. Стала я им стелить отдельно, а она, агрономша-то, и говорит: стелите нам вместе, зачем вам постели-то по полу катать зря? Мне что? Я постелила им...
— Муж и жена, наверно?
— Какое там — муж и жена! И не скрывали, что чужие. Так уж вместе ездят... привыкли... А может, любят... их дело. Не мне их судить.
Она уступила гостье свою кровать в большой комнате, где ужинали, кровать была широкая, с мягкими тюфяками, пуховыми подушками и новеньким, еще пахнущим магазином одеялом.
— Я с невесткой лягу, с невесткой, — успокоила она Нину Николаевну, заметив ее недоумение. — А мужчинам вот там. Там еще комната есть. Диванчик там стоит, а раскладушечку я принесу.
Когда все улеглись спать и Яков Маркович, по его словам постоянно изнывающий от бессонницы, с присвистом и с переливами захрапел за стеной, задремала и Нина Николаевна.
Первый сон ее был прерван чьими-то всхлипываниями, приглушенными подушкой, потом через всю комнату прошлепали босые ноги — вероятно, пробежала Маргарита, вслед за ней, тяжело ступая, прошла Анна Егоровна, прошла быстро, стараясь не разбудить спящих. Плотно прикрыла за собой дверь на кухню. Но Нина Николаевна хорошо слышала пришепетывание плачущей и воркование утешающей.
— Что я ему сделала? Что? Не буду у вас жить! Уеду! Убегу. Куда глаза глядят! Убегу... и вы, мама, меня не уговаривайте.
— Полно, полно, Ритушка, успокойся... Никуда ты не убежишь... Никуда я тебя не пущу... Да мыслимое ли дело из дому бежать... Да куда побежишь-то, горячая головушка? Кто у тебя есть, кроме меня?
•
Перед глазами Нины Николаевны всплыла гулкая сухая дорога, освещенная лунным светом. Дорога на станцию. По дороге бежит молодая женщина с солдатским вещевым мешком. Только это не Маргарита, это она, Нина Николаевна, Нина, она бежит от мужа... За спиной еще долго слышится приглушенный скрип калитки, но вот в руках билет, поезд нетерпеливо дергается и увозит ее, увозит, неизвестно куда...
•
— Кто у тебя есть, кроме меня?
— А вы-то мне кто? Никто! Чужая! Чужая! Помните, как приняли-то меня? Много радовались?
•
Поезд шел с запада на восток. В нем ехали демобилизованные. Нина лежала на третьей полке, подложив вещмешок под голову, и мечтала о большой дружной семье, куда она ехала со своим мужем. После смерти матери у Нины никого не осталось. Только Витя, муж, и его семья.
Витенька внизу потряхивал чубом и растягивал трофейный аккордеон. Ей повезло, она вышла замуж за веселого парня, аккордеониста, шутника и балагура. О будущем не много говорили. Все было ясно без слов.
Нина спрыгнула вслед за мужем с подножки вагона и вмиг наткнулась на острие свекровиного взгляда:
— А ты зачем сюда приехала?
— Я с Витей.
— А то Витя без тебя дороги домой не нашел бы!
— Ладно, мать, — сказал Витя, — чего там. Пойдем.
И они пошли. Впереди Витя. За ним мать. За матерью — Нина.
•
— Ну, Ритушка, что было, то было. Давно все прошло, рано было Леньке жениться, вот и приняли не так, как... Да что об этом... успокойся, доченька... Да, может, еще все образуется... обойдется...
— Ничего не обойдется... чужая я вам... и ему чужая... и всей деревне чужая... Смеются надо мной...
— Никто над тобой не смеется. Не придумывай себе беды. А с Ленькой отец поговорит. Я-то говорила, да он упирается, не сознается...
— Не сознается? А где он по ночам? Что я старуха, что ли? Никакой жизни не видела... Уж лучше бы меня тогда штыком прикололи. Не мучилась бы я теперь...
— Полно, полно, доченька... На-ко попей водицы холодненькой, не растравляй себя, тебе на работу надо утром, чего себя мучить, в семье живешь, у отца с матерью...
— Нет у меня ни отца, ни матери... никого нет! Не знаю, кто я, зачем живу, зачем я к вам приехала... О-о!!
— Людей разбудишь, доченька, ну, что бы ни было, успокойся, что бы ни было, никуда не уйдешь от нас, ни я, ни отец не отпустим. Если Леньке надо, пусть он уходит, ну перестань плакать, думаешь, у меня сердце не разрывается, на тебя глядючи... Да что я могу?.. Что могу? Только тебя приласкать да утешить.
А Нине Николаевне вспомнились другие слова:
— Невесток много, это сыновей у меня мало, всего четверо... Не нравится — не держим. Катись! Скатертью дорожка! На твое место пятнадцать других придут! И чего пристала к мужику: где был, да где был? Если хочешь знать, поставь ему счетчик в одно место! Поняла! Поставь счетчик! Привез невесть откуда, невесть кого! С таких-то лет по мужикам! Хорошие девушки в армию не шли, с родителями жили. А ты... Тьфу! С четырнадцати лет!
•
Маргарита застонала.
Нина Николаевна тщетно натягивала на левое ухо одеяло, крепко прижав правое к подушке. Каждый шепот, каждое движение на кухне ей было хорошо слышны. Маргарита, вероятно, сидела в одной рубашке, вероятно, озябла. А Анна Егоровна обнимала ее за плечи, гладила по голове. Нине Николаевне было неловко от того, что она услышала чужой разговор, но она не в силах была ничего ни изменить, ни исправить.
На кухне затихли.
•
Нина Николаевна задремала снова.
Вот ее муж, Витя, его братья и отец пьют самогонку, дерутся из-за единственных хромовых сапог, лузгают семечки, поют непристойные частушки. Вот деверь, вернувшийся из заключения, подмигивает Нине. Своя девка. В армии служила. Чего ее стесняться. И она шепчет в большое розовое ухо: «Витенька, Витенька, не могу больше, работать пойду, учиться пойду в вечернюю школу...» И его полусонный басок: «Оставь блажь. Баба ты теперь. Сиди дома. Сынов мне рожай. Арбузы соли. Вот отстроимся, своего поросеночка заведем».
Нина Николаевна открыла глаза, уставилась в черный крест рамы, четко отпечатанный лунным светом на стене. Хату лепили, а жизнь не слепили. Крест на всем прошлом. Крест. Не получилась из Нины хорошая баба. Не научилась она арбузы солить. Научилась на счетах считать, алекать в телефонную трубку в конторе. На уроках в вечерней школе не спать. А потом потянуло на кислое. Сын родился. В честь свекра Степаном назвали, окрестили мальчика. И голос свекрови: «Не будет ладу с женой, которая умнее мужа... Говорю тебе, не будет... Бабу надо в кулаке держать, а то избалуешь на свою шею... Норов-то сбивать вовремя надо...»
И вот бегство. Потом — университет, возвращение за Степушкой.
— Наконец-то, кукушка, вспомнила. Глаза в станице стыдно показать из-за тебя.
Отдали Степушку сразу, потому что Виктор женился второй раз.
— Витькина женка не тебе чета. Настоящая хозяйка. Хозяйство ведет, сыновей рожает. В моем доме женились, а не где-то под кустом...
— Ладно, ладно, — произнесла Нина Николаевна. — Я только Степушку возьму, больше мне от вас ничего не надо... Ничего не надо...
И забылась сном.
•
Проснулась она рано утром. Маргариты дома уже не было.
Собираясь завтракать, Яков Маркович и Коля не могли решить, где им раскинуть скатерть-самобранку: здесь или на вольном воздухе. Анна Егоровна ничего не хотела слышать про вольный воздух. Нажарила картошки со шпиком, картошка так и скворчала на сковородке, того гляди выпрыгнет, наварила яиц всмятку, прикрыла полотенцем, чтобы не остыли. Поставила на стол глиняный горшочек молока с толстой коричневой пенкой.
— Нина Николаевна, зовите своих товарищей, милости прошу. Садитесь, покушайте. Чем богаты, тем и рады.
— Коля, Яков Маркович! Садитесь, такая вкуснотища! — Нина Николаевна первой уселась за стол и была готова захлопать в ладоши, перед Яковом Марковичем она всегда чувствовала себя девчонкой — он на двадцать лет был старше ее, а присутствие Коли заставляло ее помнить о возрасте: Коля был моложе ее.
Яков Маркович осуждающе посмотрел на Нину Николаевну, с напускной суровостью сказал:
— Ресторан устраиваете из частного дома... У нас же есть с собой еда.
— Ну, о чем говорить, о чем говорить, — засуетилась Анна Егоровна. — Не стесняйтесь. У нас семья большая. Мы гостей не боимся. Одна бы жила — другое дело. А у нас всегда народу много. Моя дочка ораву райкомовцев привозит с тобой. И с Сашенькой товарищи из института приезжают с женами и ребятишками. Всем хватает.
После завтрака отправились по деревне, разыскали председателя, делового, занятого человека, в высоких сапогах и в кургузом пиджачке.
Заговорили о погоде, о природе, об охоте, о рыбной ловле.
Яков Маркович, за всю свою жизнь не выловивший ни одной уклейки и не подстреливший даже из рогатки в детстве ни одного воробья, проявил глубокое знание рыбной ловли и охоты.
Председатель оживился, размахивал руками, показывая, какие щуки водятся в местной речонке и какие утки плавают по лесным озерам.
— Но я, знаете, братцы, как приду вечером домой, поем, протяну ноги, так сразу сплю без памяти. Щуки хоть в окно хвостом стучи, все равно не проснусь. Так до утра и не повернусь ни разу. Встаю с солнышком и опять целый день на ногах.
— А жена? — спросила Нина Николаевна.
— Что жена?
— Как она относится к такому образу жизни?
— Вполне положительно! Она считает, что мы долго проживем! Здоровый образ жизни.
Яков Маркович, не любивший репетиций, решил, что теперь в самый раз записывать председателя.
— Мы зададим вам несколько вопросов. Ответьте на них, пожалуйста, — попросил Яков Маркович, и лицо его стало сосредоточенным. — Коля, готов?
Коля кивнул.
— Только, братцы, вы меня не очень мучайте — дел выше головы. — Председатель стал вдруг похож на студента, которому не хватает всего двух часов для подготовки к экзамену.
— Не задержим. Ответите на наши вопросы. В микрофон. И вы свободны... до следующего нашего приезда.
— Эх, как устроен человек! Говорить — пожалуйста, сколько угодно. Увидит, что его слова в блокнот записывают, теряет дар речи. А вот перед этой самой штуковиной, звукозаписью, просто на цыпочки хочется встать.
— Почему на цыпочки? — спросила Нина Николаевна, невольно вспомнив, как она тоже в первые дни дрожала перед микрофоном.
— Чтобы докричаться до всех, кто далеко.
— Ну, попробуйте встать на цыпочки, только не кричите, говорите спокойно, — ободряюще улыбнулся Яков Маркович. — Говорите спокойно. Очень хотелось бы — в нормальной разговорной интонации. Без напряжения. Итак...
Коля включил магнитофон.
— Едва взошло солнце, как председатель колхоза был уже на ногах. Мы встретили его в одной из отдаленных бригад и сразу приступили к беседе. Председатель дорожит каждой минутой. Очень торопится, ведь надо проследить за всеми работами, за выполнением всех распоряжений. Мы просим его ответить на несколько наших вопросов, — хорошо поставленным голосом сказал Яков Маркович в микрофон.
Коля тут же поднес микрофон к лицу председателя.
— И председатель с удовольствием согласился, — в тон Якову Марковичу сказал председатель.
— Снова, — это уже попросил Коля.
— С удовольствием отвечу! — довольно громко воскликнул председатель.
— Давно вы работаете председателем?
— Второй год.
— Кем и где вы работали до этого?
— Я вашей даме уже рассказывал.
— Расскажите в микрофон, — сказал Коля.
— Я работал в институте растениеводства. Писал диссертацию.
— Вам хочет задать вопрос наш корреспондент Нина Николаевна.
Коля сунул микрофон под нос Нине Николаевне. И пока она говорила, стоял, опустив глаза, будто стеснялся ее высокого переливчатого голоса.
Нина Николаевна спросила, глядя на Колю:
— Вы работали над диссертацией и все оставили ради колхоза? Вы довольны?
С особым нажимом она произнесла — «все оставили» и «вы довольны».
Теперь председатель взял микрофон и уверенно сказал:
— Я ничего не оставил. Став председателем колхоза, я получил базу для своих практических занятий. Кроме того, в этом колхозе я могу заняться и экономическими вопросами, которыми раньше не занимался.
Разговор вошел в серьезное русло и пошел бы по этому руслу дальше, но это было не в интересах корреспондентов. На тему об экономических вопросах в колхозном производстве можно было заказать специальную статью.
Вернулись к прежней легкой беседе.
— Ваша жена приехала с вами или осталась в городе? — это спросила Нина Николаевна. Ей, как женщине, подобало интересоваться личными делами.
Видно было, что председатель мучается, что он готов отмахнуться от корреспондентов, как от мух, но желание славы, вероятно, не было ему чуждо, и он терпеливо отвечал:
— Да, жена со мной. И не только жена, но и теща. Нет, моя теща не деревенская, она горожанка, причем с высшим образованием. Да, теперь занимается огородом. Да, теперь моя жена доит корову. И занимается в заочной аспирантуре сельскохозяйственного института. Конечно трудно. Не знаю, сколько проживем здесь. Сколько понадобится, столько и проживем. Да, сдвиги видны. Но не за счет моего пребывания, а в результате общей политики партии и правительства...
Иногда он по нескольку раз повторял ответы, чтобы лучше получилось, естественней. Как говорил Коля, естественность и непосредственность приобретаются долгой практикой.
Потом удачно записали, как мычат сытые коровы, как поют птицы, как кукарекает петух. Все пригодится в корреспонденциях, все должно произвести впечатление.
Коля — великий мастер своего дела. Яков Маркович предпочитает его всем другим звукооператорам.
В обед опять сидели вокруг самовара. И опять Иван Федотович рассказывал о своей жизни.
— До войны у нас сад был большой. Я его берег, ухаживал за ним. А теперь от сада одно воспоминание.
— Может быть, запишем, Коля, а? — спросила на всякий случай Нина Николаевна.
— Это им не интересно, — ответил Иван Федотович, уже не стесняясь корреспондентов. Он рассказывал только для Нины Николаевны.
— У меня вот в саду, в моем личном, яблоньки растут хорошие. Мог бы саженцы дать, снова колхозный сад восстановить, но это пока в перспективе далекого будущего, пока это не статья дохода для колхоза. Вот когда поднимем животноводство на должную высоту, тогда примемся за сады. Пойдемте-ка, я вам что-то покажу.
Иван Федотович встал, Нина Николаевна последовала за ним. В садике розово дымились яблоньки и курчавились кусты смородины. Иван Федотович подвел Нину Николаевну к одной из яблонек, Нина Николаевна, к своему изумлению, увидела, что яблонька внизу раздвоена, как рогатка.
— Ой, что это?
— А это зайцы повадились в сад ходить, стали яблони подгрызать. Вот подгрызли эту. Можно было бы подрубить ее, или сама бы упала, лишить ее жизни, так сказать. А я нет — не лишил. Взял черенок, прирастил, сделал ножку, вот она и стоит. Нынче яблоки на ней будут...
Иван Федотович присел перед яблонькой, ласково погладил ствол и снизу взглянул ясными голубыми глазами на Нину Николаевну. А ей сверху он показался этаким дедом-волшебником — седенький, рыженький, как будто немножко заржавленный и шершавенький.
— Ой, никак Ленька? — встрепенулся Иван Федотович, услышав то, чего не слышала Нина Николаевна, быстро поднялся, положил правую руку на поясницу, помог себе распрямиться, рванулся к калитке.
— Леня, погоди, не ходи в дом, мне с тобой поговорить надо.
— Чего еще? — грубо спросил высокий парень в надвинутой на глаза кепчонке, в промасленной телогрейке. Недружелюбно посмотрел на подходившую Нину Николаевну. Нина Николаевна прошла в дом, чтобы не мешать разговору.
— Что, небось яблоньку показывал? — спросила Анна Егоровна.
— Яблоньку.
— Гордится он этой яблонькой. С того, говорит, света вернул. А что? И верно. Ведь погибла бы. Много у нас яблонь. Хватило бы, да эту больно жалко. Интерес возник. Удастся сохранить или нет? Как с малым ребенком возился. И вот — спас.
Яков Маркович и Коля вышли покурить на крылечко. Нина Николаевна хотела их предупредить, чтобы не мешали Ивану Федотовичу с сыном разговаривать, но ничего не сказала. Сами поймут, что им делать.
И они поняли. Коля вернулся, взял магнитофон, и они пошли мимо окон, по деревне — сутулый Яков Маркович, весь погруженный в свои дела, в свои замыслы и ничего вокруг не замечающий, и Коля, милый, нескладный, долговязый Коля. Раз и навсегда удивившийся миру ребенок, Коля...
— Суровый человек ваш Яков Маркович.
— Что вы, Анна Егоровна! Он золотой человек! Если бы вы знали, сколько он сделал для меня.
— Я вижу, для вас и Коля готов все сделать...
— Ну, что вы! Коля — совсем другое. Яков Маркович мне как родной...
— Хватит, хватит мне! Хоть домой не ходи! — закричал Ленька, с силой рванув на себя дверь.
— Ты и так не ходишь, — переступив порог, возразил ему Иван Федотович.
— И ходить не буду — доведете!
— Тише, тише, — замахала руками Анна Егоровна, не удивившись Ленькиному крику. — Люди у нас чужие. Чего кричать-то? Отец тебе тихонько, а ты, как поросенок заверещал...
— Сядь-ка посиди. Поговорим, как люди. Давно ль понимать друг друга перестали. Вспомни-ка, хотели мы тебе чего-нибудь, кроме добра?
— Устал я от ваших воспоминаний. Она тоже все вспоминает... До того доведет, что хоть вой... Вот и бегу... Да! Бегу! Бегу туда, где тихо и спокойно. Никто жить не учит, принимают такого, как есть.
— Да еще и водочки поставят... Глупая ты голова. Бес тебя попутал, другая бабенка приглянулась... Эка невидаль! — почти шутливо произнес Иван Федотович. — Женился слишком молодым, вот и приглянулась. Говорили тебе, глупой голове. Предупреждали. Надо было вовремя остановиться. — И вдруг голос у Ивана Федотовича изменился. Из шутливого стал серьезным, даже злым. — А теперь, друг, решай: или здесь, или там. Риту не мучай. Нас не позорь. Хватит.
Ленька понял перемену в настроении Ивана Федотовича. Он посмотрел на отца, на мать, пошевелил губами, как будто разжевал не успевшее упасть с языка неуместное слово.
— Так и знай. Рита останется здесь. И мальчик будет здесь. Что бы ни случилось, Рита останется с нами. Кроме нас, у нее никого на белом на свете. А если у тебя есть — иди, не держим. Мать, собери ему белье или чего там, я не знаю, как из дома от отца-матери, от жены да сына уходят...
Анна Егоровна, не спускавшая глаз с Леньки, вытерла лицо передником и пошла собирать вещи. Иван Федотович только теперь повернулся к Нине Николаевне:
— А... вы здесь? Все слыхали? На фронт провожать тяжело. Но знаешь — это надо. Хоронить сына тяжело. Но знаешь — его убил враг. А вот так, Нина Николаевна, из дома свое дите гнать еще тяжелее. Но где ему, оболтусу, понять это? Вот когда голова станет сивая, как у меня, да годы будут спину гнуть в дугу, вот тогда вспомнит дом родной. Чего сидишь, иди к матери, она тебе собирает в дорогу.
Ленька поднялся, махнул рукой — эх! — выскочил из избы.
— Я стала случайной свидетельницей вашего семейного разлада. Извините, я не хотела.
— Сама-то замужем?
— Была. Разошлась.
— Что так?
— Вам, Иван Федотович, мне стыдно рассказывать свою историю. Вы можете не понять, потому что... потому что... в общем, не поладила с его родителями.
— Небось и сама не права была?
— Может быть.
— Жалеешь теперь?
— Нет, не жалею. И если бы не ушла тогда, все равно бы ушла теперь или через год.
— Дети есть?
— Есть. Один сын. Шестой класс кончает.
Первый раз Нине Николаевне захотелось рассказать о себе чужому человеку. Но рассказывать было нелепо. Она чувствовала, что Иван Федотович не сможет понять ее.
Живут они со Степушкой вдвоем. «Мама, — говорит Степушка, — ты не бойся меня одного оставлять. Поезжай в свою командировку, я один справлюсь».
— Уезжаю, а он один остается. Душа у меня болит все время.
— Один сын, значит. Со свекровью не поладила, — сказал Иван Федотович. — Уважать надо старых людей. Молодыми не будем, а старыми все будем. Старые люди молодым добра хотят, на плохое не наставят.
А Нине Николаевне вспомнилось: «Не будет ладу с женой, которая умнее мужа... Сжечь бы эти книжки все, делом надо заниматься! Ишь чего! От мужа по вечерам в школу бегать стала!»
— На плохое не наставят.
— Наверно, так, — не стала спорить Нина Николаевна. — Но что теперь об этом говорить. Что с возу упало, то пропало.
— Ну, вы-то не пропали. — Нина Николаевна опять отдалилась. Иван Федотович называл ее снова на «вы». — Вы-то не пропали. Работаете, вижу, хорошо. Небось и зарабатываете неплохо?
— Всяко бывает — и хорошо, и плохо. Но свою работу люблю. Все время с людьми.
— Люди — это хорошо. Без людей нельзя жить человеку. На миру и смерть красна.
С пакетиком под мышкой вышла заплаканная Анна Егоровна, осмотрелась: Леньки не было.
— Собрала его... А может, мы, отец, зря это?
— Сам хотел... Вон он, на крыльце ждет... На отца обиделся, дверью хлопнул. Пусть дуется. Губы толще — в брюхе тоньше.
Анна Егоровна вышла к Леньке на крыльцо.
Понуро поплелся Ленька по деревне, прижимая локтем собранный матерью пакетик.
— Пошел, пошел, далеко ли уйдешь, — глядя в окно, тихо сказал Иван Федотович.
Наступила неловкая тишина.
Нина Николаевна поднялась, помедлила, ожидая какого-нибудь вопроса от Ивана Федотовича, не дождалась и сдержала невольный вздох.
•
Она просто так пошла по деревне и думала о своем. Вот она стала журналисткой. А началось все с письма в радиокомитет по поводу передачи, которую вел Яков Маркович. Передача была о людях, переживших блокаду. Яков Маркович не только ответил, но и прочитал Нинино письмо по радио. Она писала о гибели своей матери, о своей военной службе, о ленинградской школе, где она училась до войны.
— Герои, герои! — кричала свекровь. — Все теперь в герои лезут. Стыдно на улицу глаза показать...
Яков Маркович попытался разыскать Нининых родных. Но лучше бы он не делал этого. Они отмахнулись от Нины. Замужем? Пусть живет самостоятельно, мы ей ничем не поможем. У нас маленькая жилплощадь. И в Ленинграде невозможно с пропиской. Яков Маркович пригласил Нину в гости. Она приехала. Приехала совсем... Убежав из дому. Возвращаться она не могла.
Комната Якова Марковича была украшена портретами жены и детей... Он никогда не говорил о них. Это было слишком больно. Узнав, что Нина приехала совсем, он удивился, но оставил ее в своей комнате, ушел к приятелю. Не к Петрову ли? Нина не знает.
— Я не мешаю вам? — спросила Нина у соседей по квартире.
— Мы привыкли. У Якова Марковича всегда постоялый двор.
Потом были экзамены. Учеба в университете. Общежитие. И, наконец, своя комнатка...
•
Мимо Нины Николаевны плыли палисадники, дома с яркими наличниками, незаметно она оказалась у скотного двора, где Коля и Яков Маркович брали последние интервью. Говорили доярки, передовые люди колхоза.
Говорили хорошо, складно.
Хотели записать Маргариту, но она отказалась.
— Я не умею говорить и не буду. И так много поназаписывали.
— Вы сейчас не собираетесь домой? — спросила у нее Нина Николаевна.
— Сейчас нет. Через полчасика пойду. Поем и снова сюда.
— Я подожду вас.
— Как хотите. Можете ждать. А чего меня ждать? Идите со своими.
— Я все-таки подожду, — сказала Нина Николаевна и улыбнулась. Маргарита улыбнулась тоже. Первый раз увидела Нина Николаевна на ее лице улыбку.
— Я не по службе к вам, — начала Нина Николаевна, когда они вместе вышли, — по службе мы уже все закончили. Я так, по-человечески. Помимо своей воли я стала свидетельницей вашей... ваших... ну, в общем, всего, что было. Извините меня.
— Ленька пришел?
— Приходил. Анна Егоровна и Иван Федотович собрали его и попросили уйти... при мне. Мне неудобно, но что поделаешь.
— Вы ни при чем. Надо было мне уйти.
— Куда?
— Куда глаза глядят. У меня ведь никого нет.
— Сколько вам лет, Маргарита?
— Я родилась в сорок втором году, как заключила медицинская комиссия.
— Медицинская комиссия?
— Да. Меня нашли в Германии в начале сорок пятого. В приюте для русских детей. Так и выросла в детском доме. Ничего не знаю ни об отце, ни о матери. Даже своей фамилии не знаю. Нам солдаты свои фамилии записали. Может быть, я совсем и не Маргарита. Вот, говорят, теперь все ищут своих, а мне искать некого. Нас, ребятишек-заморышей, было там много. А кто из нас чей, кого как зовут — никто толком не знал... С Леней познакомилась в Белоруссии, когда он в армии там служил... Я на ткацком производстве училась... Леня с Анной Егоровной ведь тоже поскитались по Германии. Немцы угнали. Леня знает, что такое лагеря немецкие. Ну, познакомились, разговорились, посочувствовали друг другу. А потом вот... Написал он своим, что вернется с невестой. Ему ответили: рано тебе жениться. Он мне не сказал об этом. А просто предложил: чего ты тут сидишь одна, поедем к моим старикам, они у меня добрые. Я и поехала. Приехала. Они и при мне не стеснялись говорить: сам едва на ноги встал, а уж жену привез. А потом узнали, кто я, и все хорошо стало. Но у меня, знаете, нехорошо с нервами. Психую я... Как чего вспомню... Или приснится что... Сама не своя. Анна Егоровна мне теперь за мать. Она хорошая. Иван Федотович тоже. А вот Леня... Надоело, говорит мне, что ты все свое детство несчастное вспоминаешь. Живи сегодняшним днем. Кто знает, что завтра будет. А я не могу. Как же иначе жить? Не скотина же? Человек. А теперь вот он завел себе... Пусть бы завел, да сразу сказал. И ушел бы. А зачем меня мучить? Мне бабы нет-нет и скажут: а чего ты хочешь от Леньки? Почему он должен с тобой нянчиться. А я тоже иногда думаю, может он прав?..
— Не думайте вы об этом, — сказала как можно мягче Нина Николаевна. — Разве это главное? Главное, что у вас сейчас и отец, и мать, и сын есть. Я в вашу семью случайно попала, а как будто век всех знаю. Вам повезло. Мне уезжать надо, а жалко расставаться со всеми.
— Вы об этом писать будете? — спросила Маргарита и впервые взглянула в лицо Нине Николаевне. Все, что она говорила до этого, говорила как будто для себя, глядя прямо перед собой. Может быть, она так часто рассуждала, возвращаясь домой с работы, не замечая, что говорит вслух.
— О чем?
— О нашей семье?
— Нет, писать не буду. А если когда-нибудь, может быть... Но не теперь. Теперь у нас совсем другое задание. А вы не хотите, чтобы о вас написали?
— Нет, почему же не хочу? Обо мне-то писать не надо. Я что? А вот об Иване Федотовиче надо бы написать... Вы счастливая!
— Почему же я счастливая?
— У вас такая работа!
— Какая — такая?
— Ну, такая, интересная. Ездите везде.
— А у вас?
— Что у меня? Коровьи хвосты по физиономии хлоп да хлоп.
— Ну, знаете, — засмеялась Нина Николаевна, — у вас ведь вся жизнь впереди. Вы молодая. Вам ведь едва перевалило за двадцать.
— Нет, я уже старуха. Слишком много у меня за спиной...
— У меня тоже за спиной много... Стряхните с себя этот груз. Идите учиться. Старики вам помогут.
— Я тоже думаю иногда. Хорошо бы мне знаете куда? В педагоги. Люблю я ребятишек. Помню, у нас воспитательница была в детском доме, она говорила: люблю из маленьких человечков людей делать.
Несколько минут молчали.
— А Леня вернется... Я знаю... Вернется.
Нина Николаевна взглянула на Маргариту и поняла, что Маргарита снова думает вслух. И не стала ей мешать.
Перед домом водитель проверял мотор газика.
— Что, Петров, в дорогу пора?
— Хватит, погуляли, — отозвался Петров. — Пора и домой.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





