ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна
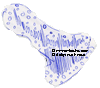


рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Дальцева Магдалина 1968
— «…Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне!» И тебе это нравится? — спросил Лухманов. — Мы никогда не покончим с идиотизмом деревенской жизни, если будем любоваться лапотной тягомотиной. Тракторы выйдут на поля, и у тракторов остановятся моторы.
— Ты сухарь, Коля, — сказал Прокофьев, — сухарь-неврастеник. Впрочем, сухие неврастеники лучше мокрых. С мокрыми хлопот не оберешься.
Мы целый месяц сидели втроем за одним столиком на веранде издательской дачи. Ответственный секретарь Лухманов, угловатый, с квадратными глазами и остроконечной бородой, аккуратнейший техред Прокофьев, в клетчатом френчике, при галстуке, и я, студентка-практикантка из университета. Сестра-хозяйка никого не подсаживала к нам, и мы предавались безудержному трепу. Говорили о Мейерхольде, о новой технике, о головокружении от успехов, о гавайской гитаре, но разговор с неизбежностью скатывался к издательским делам. И сейчас Лухманов, слегка польщенный упреком в сухости, опять вернулся к этой теме.
— Я спокойный человек, — сказал он, — но поневоле кипятишься, когда изо дня в день приходится доказывать очевидные вещи. Издательство превращается в музей. Мы выпускаем историю русского театра. Для чего нам история? Какая бы то ни было позорная русская история? Скорей, что ли, выполним пятилетку? А ведь на этой бумаге можно было бы издать шестьдесят пьес для сельской самодеятельности!
— Сельской самодеятельности? — хихикнул Прокофьев. — «Шепчет солнце, шепчет лес: МТС ты МТС?» Медведь тебе на ухо наступил, Коля. Ты сухарь!
И хотя я почти всегда соглашалась с техредом, сейчас он был неправ. Лухманов не сухарь. Он влюблен. Это так заметно. То срывается из-за стола и бежит в дождь на почту звонить по телефону в Москву, то читает нам свои стихи. Я даже запомнила одну строфу:
Будто вдруг запел с чужого голоса,
Кто б сказал, что стану я таким?
На твои накрашенные волосы
Променял кумачные платки.
Прокофьев сболтнул однажды, что в Москве есть у Коли одна знакомая. Недоступная женщина, снежная королева...
Нет, Лухманов не сухарь. Только спорить бесполезно. Болтливые мои приятели не дадут и рта раскрыть.
— Ну хорошо. Я — сухарь, — самодовольно повторил Лухманов. — А кто ты? Карманный Мефистофель? За иронией скрывается банальнейший тип! Тебя радуют березки, эта девчонка, — он показал на меня, — ты называешь ее «розовый террор» — цитата из Поля Морана, обожаешь сверхмодное оформление старомодных книг. Без заглавных литер с заголовками вдоль страницы!
Меня забавляло, что друзья-враги под видом яростных нападок говорили друг другу комплименты. Прокофьеву так же нравилось быть Мефистофелем, как Лухманову — сухарем. Немолодой человек, уже седой и лысый, он считал себя неудачником, отводил душу в ядовитых наблюдениях, радовался, когда их ценили. Чтобы скрыть свое удовольствие, он заговорил о другом:
— Покуда мы занимаемся взаимными характеристиками и любуемся березками, в издательстве работает комиссия по чистке. Копают наши личные дела, может, запрашивают соседей по квартире.
— Людей надо судить по работе, — мрачно сказал Лухманов.
— Свежая и оригинальная мысль. Давай сообщим председателю комиссии по чистке? Пошлем телеграмму...
— Прописи надо повторять.
— Но не применять. А то придется разогнать все издательство. Это же сборище маньяков! Главный помешался на том, что все должны писать пьесы. Все! Кинооператоры, театроведы, издательские курьеры. Дело, говорит, нехитрое: слева пишется, кто говорит, справа — что говорит...
— А бухгалтер зажимает гонорар, — вставила наконец слово и я. — Каждую субботу у кассы выстраивается очередь, а он: «Приходите через неделю...»
— Садист, — вздохнул Прокофьев.
— А может, просто хозяйственник? — сказал Лухманов. — Стоит на государственной точке зрения. За неделю издательские деньги лишний раз обернутся.
— Очень ты ортодоксален, Коля, — пробормотал Прокофьев, — не пойму, почему не в партии.
— Биография не позволяет.
— Есть темные пятна?
— Нет светлых поступков.
— Рыцарский ответ. Постойте-ка, постойте... — Прокофьев даже приподнялся со стула. — Кажется, к нашему столу подсаживают Лыневу. Видите, Анна Алексеевна показывает ей место...
— А кто она, эта Лынева? — спросила я.
Прокофьев всегда знал все.
— Выдвиженка из типографии. Больше месяца работает в отделе писем. Теперь ее выбрали членом комиссии по чистке.
Лынева уселась за наш столик с видом счастливого ожидания, с каким только очень маленькие дети смотрят на театральный занавес. Белобрысая, дюжая, от плечей до пяток ровная, как колода, в вязаной кофте и рябеньких длинных мужских носках, некрасивая до уныния.
Казалось, она ждет от нас чуда. Стало неловко, мы замолчали. Она по-своему поняла наше смущение, протянула дощечкой руку над тарелками с супом, поздоровалась со всеми по очереди и сказала:
— Тоня.
Когда замешательство рассеялось, Лухманов круто повернул разговор, стал рассказывать о Мясокомбинате, где недавно побывал:
— Все там устроено по последнему слову техники. Коров убивают на пятом этаже. Оглушают сразу, и черная кровь аккуратно льется в ведра. Свиней приканчивают ударом механического ножа в сердце. Умирая, они долго визжат. Чистота на заводе необыкновенная. В самом грязном кишечном цехе никакого запаха. Струи воды. Стены заклеены плакатами и лозунгами, но ни одного слова не разобрать. Все смыто.
Такие рассказы мы с Прокофьевым слушали с почтительным вниманием. Шел тридцатый год. Еще не был построен Сталинградский тракторный, еще незыблемо стоял у Пречистенских ворот грузный золотоглавый храм Христа Спасителя, еще кино было немое, Москва — в хибарах и особнячках, и Коля Дементьев писал про трехэтажное здание Оргметалла на Каланчевской площади:
На всю эту бестолочь, скуку и грохот
Домов не его поколенья
Оно загляделось и думает: «Плохо!» —
И ждет коренных изменений.
Мы верили тогда, что коренные изменения произойдут в два счета, верили в «русский размах и американскую деловитость», верили, что индустриализация может решить все вопросы.
Тоня застенчиво морщилась, слушая Лухманова, и, когда он замолчал, сказала:
— Как же они мучаются там по последнему слову техники! А ведь у свиней глаза голубые...
— Не может быть! — удивился Прокофьев.
— Небесно-голубые. У нашего соседа было пять свиней, и у всех голубые глаза.
Принесли котлеты. Разговор снова оборвался. Тоня сидела в углу, я передала ей тарелку. Она недоверчиво посмотрела на меня и спросила:
— Какая разница между этикой и этикетом?
Лухманов не дал мне ответить.
— Недавно познакомился с одним шахматистом, — сказал он, — представьте, всю жизнь был человек глухонемым, а потом сделали ему какую-то операцию, и теперь он заговорил и всех донимает вопросами. Пристал ко мне: что такое синтетический театр, что такое «каков», что такое «впросак»...
Тоня была неуязвима.
— Какое счастье! — воскликнула она.
— Какое счастье? — переспросил Прокофьев.
— Что этот шахматист научился говорить.
Лухмановская притча разозлила меня.
— Это хамство — твои параллели, — тихо сказала я.
Он огрызнулся:
— Хамство — понятие отжившее.
— Значит, если дам тебе по уху, сочтешь за любезность?
— Ну что ты бузишь, деточка? — сказал Прокофьев. — Все было так хорошо, уютно. Так надо же...
Я поняла, что Тоня раздражает моих приятелей. Еще тогда, в ранней молодости, мне приходилось замечать, что именно передовые, пытающиеся обогнать время люди терпеть не могут неожиданностей. Они всегда под властью своих концепций, стройных, красивых, но редко выдерживающих столкновения с неупорядоченной действительностью. Кому же приятно быть застигнутым врасплох, поставленным в тупик, теряться в догадках? Конечно, Лухманов и Прокофьев приняли Тоню за несгибаемую фабрично-заводскую активистку. И вдруг такое сочувствие свиньям и шахматистам! Ошибка не вызвала любознательности у моих приятелей, а только ожесточила их. После обеда мы сразу разошлись по комнатам, даже не покурив за столом, как обычно.
Под вечер я возвращалась из леса по широкой меже среди ржи и снова увидела Тоню. Она шла навстречу тяжелыми медленными шагами, в руках — букетик васильков и маленькая книжка. Взяла меня под руку, как старую знакомую, и повернула обратно.
— Читали когда-нибудь? — спросила она, показывая томик Анри де Ренье «Каникулы скромного молодого человека».
— Читала.
— Правда, хорошо написано? Так оригинально! Тут есть одно необыкновенное выражение. Постойте... Сейчас найду.
Мы остановились. Тоня полистала книжку и прочла:
— «Но судьба жестоко посмеялась над ним...» Правда, хорошо?
Пораженная ее наивностью, я пролепетала:
— Не такое уж свежее это выражение. Если вы откроете «Бедную Лизу»...
— Как вы сказали? «Бедная Лиза»? Какое хорошее название! Простое, а хорошее.
Такой разговор было трудно поддерживать. Молча мы пошли дальше. Вечер был почти безветренный, но рожь колыхалась. Волны ходили по ней спокойными, ровными вздохами, и зеленоватое небо вдали над зубчатой кромкой леса было чисто и тоже удивительно покойно.
— Мы с мамой в Елабуге жили, — сказала Тоня. — Там тихо. Аптекарская ромашка на мостовой, палисадники.
— Нравится вам в отделе писем?
— Не очень. Думаю поступить в Институт красной профессуры.
Такого ответа я не ожидала.
— А не трудно будет?
— Не знаю. Маркс говорит, что труд наслаждение, вызываемое игрой умственных или физических сил.
Она улыбнулась мечтательной счастливой улыбкой и так и шла, позабыв ее на лице. И расплывчатое это, серое, как тесто из плохой муки, лицо больше не казалось некрасивым.
У самой калитки на нас налетел Прокофьев. Он задыхался, лысина вспотела.
— Я тебя искал! — крикнул он. — С Лухмановым плохо. Вынул из петли. Бегу к врачу — хоть валерьянки, хоть снотворного... А ты пока посиди с ним.
— Но как же так? — Я крепко уцепилась за Тонину руку. — Ведь за обедом непохоже было...
— За обедом непохоже, а к чаю получил телеграмму от своей... От этой... Снежной королевы. Разошлась с мужем и рванула в Сочи с каким-то ответственным типом из ВСНХ. Банальнейшая история... Я сейчас принесу валерьянку. Говорят, заменяет снотворное.
Не слушая, я побежала к флигелю, где жил Лухманов, и неуклюжая медлительная Тоня обогнала меня.
Лухманов лежал на кровати, укрывшись с головой серым байковым одеялом. Его била дрожь. На столе перед стеклянной банкой с ромашками стояла мыльница с ярко-розовым обмылком, валялась скомканная телеграмма.
Как помочь ему? О чем он сейчас думает? Как прикинуться, что ничего не понимаешь? Я не знала, что делать, и глупо спросила:
— Коля, хочешь чаю? Я сейчас принесу.
Он приоткрыл одеяло, увидел Тоню и сказал:
— Уберите эту тетю.
— Не сердитесь, — Тоня подошла к кровати. — Сердечная рана — это не позор. Об этом и в песнях поется. Помните? «Маруся отравилась...»
Мне стало смешно.
— У-бе-ри-те эту тетю, — раздельно повторил Лухманов.
Я махнула Тоне рукой, и она вышла.
Лухманов повернулся лицом к стенке и снова накрылся с головой. Я выдернула из банки ромашку, присела к столу и стала ощипывать лепестки. Непонятно почему — я перестала жалеть Лухманова. Мне было только смешно. Смешно и стыдно за себя, что мне смешно. Я пыталась оправдаться перед собой. Ведь он не полезет второй раз в петлю? Да и вообще, как можно умирать впопыхах? Получил телеграмму и стал намыливать веревку! Как это сказал Прокофьев — сухарь-неврастеник? А ведь он оказался мокрый. Мокрый, мокрый, и хлопот не оберешься... Все верно! Я давилась от смеха, а тут еще за окном низким, приятным голосом запела Тоня:
Ах, зачем эта ночь так была хороша...
И Лухманов бурно заворочался под одеялом.
Я выглянула в окно. На садовой скамейке в кустах шиповника, подобрав ноги, уютно устроилась Тоня. Она пела с большим чувством, глядя на облака, раскинувши руки по спинке скамейки, не замечая ничего вокруг. Прямые светлые пряди выбились из-под круглой гребенки, падали ей на глаза, рябенькие носочки скрутились в гармошку, но было понятно, что в эту минуту она кажется себе другой — очаровательной, женственной, совсем как дама, из-за которой вешался Лухманов. Вот тут-то наконец мне и стало грустно. Чуть не до слез грустно. К счастью, в комнату вошел Прокофьев.
— Ну как? — спросил он тихо.
— Ничего. Только дрожит все время.
— Это пройдет. Шок. Ты, Коля, успокойся...
— Я боюсь... — пробормотал под одеялом Лухманов.
— Нервы, все нервы, — приговаривал Прокофьев, капая в стакан валерьянку, — импульсивные поступки тоже нервы. Непонятно, чего можно бояться?
— Может, потому я и сижу целый месяц на даче, — глухо говорил под одеялом Лухманов. — Я боюсь...
— Говорят, что любви не надо бояться, а несчастной тем более. Говорят, что она обогащает, — резонерствовал Прокофьев. — Вертер был мальчишка, ну и гробанулся. А тебе, по-моему, двадцать шесть...
Разговор завязывался не очень деликатный.
— Коля, верно, хочет побыть в одиночестве, — сказала я.
— Ты и уходи, а он тут уснет в два счета.
В саду меня остановила Тоня. Ей было необходимо поделиться своими мыслями.
— Конечно, он поступил неправильно, Самоубийца — дезертир. Так и надо будет ему сказать. Потом, когда отойдет. А как вы думаете, — она умоляюще посмотрела на меня, — он пел ей, этой снежной королеве?
Терпение мое кончилось.
— Каждый раз, — грубо сказала я. — При каждом свидании. Надевал черную крылатку, брал гитару и пел: «Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края...»
— Сын эфира? А вы все слова помните? Продиктуйте, я запишу...
На другой день кончился срок моей путевки, я вернулась на работу, а дня через два приехали и Лухманов с Прокофьевым.
В издательстве было неспокойно в эти дни. Уже месяца полтора работала комиссия по чистке аппарата. В коридорах и кабинетах сотрудники собирались кучками, шепотом передавали слухи и сплетни, работали вяло, бестолково. Только секретарь издательства не поддавался общей панике. На всех этажах мелькала его тощая фигура в вышитой косоворотке, подпоясанной шнуром ниже талии, над всеми столами склонялась узкая голова с треугольной бородкой. Лухманов составлял издательские планы, воевал с халтурщиками малоформистами, вырывал гонорары из сейфов главбуха Миллера, вел кружок начинающих драматургов. «Глушит тоску работой», — таинственно шептал мне на ухо Прокофьев.
Комиссия по чистке состояла из двух наборщиков, редактора профсоюзной газеты, Тони Лыневой и некоего Смекалова из Хлеботорга. Он-то и ворочал всеми делами: проверял анкеты, запрашивал загсы и прочие учреждения, вызывал сотрудников для доверительных бесед. Лысый, круглоголовый, в сапогах и синем полувоенном костюме, он постоянно скалил редкие острые зубы и чувствовал себя неотразимо обаятельным. В те времена мне еще не приходилось встречать людей более убежденно-невежественных, более уверенных, что справятся с любой работой, раз их на эту работу назначили. Сомнения никогда не мучили его, и в этом он видел особую доблесть. Все опасались его тупости, а он принимал этот страх за выражение почтительности и еще больше утверждался в самодовольстве.
Лица, казавшиеся комиссии сомнительными, должны были проверяться публично, на общих собраниях. Первое собрание шло в издательском саду, где помещалась наша столовая. Народу собралось много, сидели и на садовых скамейках, составленных рядами перед небольшим помостом, и за столиками. Можно было подумать, что нас ожидает эстрадное представление.
Вечер был ветреный, шары фонарей раскачивались на тонкой проволоке, желтые пятна прыгали по песку, по коленям и лицам, и от этого мелькания и шума листвы становилось тревожно, бестолково, будто кто-то придумал странную игру и никак не может ее начать.
Ко мне подсел Прокофьев.
— Коле будет худо. Лынева приехала. Примет участие.
— А разве его должны обсуждать? Ведь на нем все издательство держится!
— Эх, деточка, деточка... Анфанчик, несмысленыш ты мой...
— А что о нем может сказать Лынева? — тупо допытывалась я. — Личная жизнь никого не касается.
— И чему вас только в университетах учат, — вздохнул Прокофьев. — Помнишь, он тогда повторял: «Я боюсь...» Снежная королева — пустяк. Только толчок.
Он замолчал, к нам подошла Лынева. В строгом английском костюме, полосатой блузке с галстуком, очень торжественная и аккуратная.
— Красиво, — сказала я, показывая на костюм.
— Мама, как увидела, говорит: ну прямо народная судья! — и Тоня улыбнулась мечтательной улыбкой.
Она пошла к столу президиума, а мне и не хотелось ее удерживать. Прокофьев задал мне загадку. Чего же боялся Лухманов? Биография чистая — сирота, воспитывался в приюте, потом в детском доме, учился в архитектурном, бросил, стал журналистом...
— Читали сегодня наше меню? — прогудел кто-то мне в ухо.
Рядом со мной, попыхивая короткой трубочкой, уселся заведующий театральным отделом Сельцов. Он лет двадцать прожил в Швеции, куда бежал еще с царской каторги, а теперь, вернувшись в Советскую Россию, не переставал удивляться всему, что видел.
— Написано: «пежон с горошком», — продолжал он. — Пленительная орфография!
Какая чушь занимает людей! Я отвернулась.
Народу в саду все прибывало. Движимый общественным темпераментом, появился комсомольский секретарь Федя Золотов, который уже расстался с издательством и собирался уехать на Магнитку в областную газету. Пришла Серафима Мейлина из отдела писем, женщина с аскетическим лицом и огромным задом. Она издали улыбалась Смекалову тонкой, недоброй улыбкой.
Мне было обидно, что, кроме Прокофьева, никого не волнует судьба Лухманова. Вот и Сельцов... Все знают, что он хороший человек, старый большевик, заново открывает для себя Россию, удивляется, что народ горит на работе, хотя на полках в продмагах ничего нет, кроме горчицы. А того, кто горит рядом, не видит, а может, и не хочет его отстоять?
Я и не заметила, как началось собрание, в пол-уха слушала, как дружно поносили бухгалтера Миллера, а он умоляюще протягивал вперед короткие ручки, отталкивая от себя слова, и кто-то крикнул:
— Шахтинец!
И Миллер исчез с помоста, будто провалился в люк. На его месте появился курьер Тихомиров — бравый, рыжеусый, в коричневой толстовке, настоящий таракан-прусак. Оказывается, он утаил, что служил в царской армии, да еще в гвардейском полку, да еще денщиком у Гучкова, который впоследствии стал министром Временного правительства. Мужик толковый, грамотный, он явно придуривался, смотрел на Смекалова ясными честными глазами и на все вопросы отвечал одно:
— Рази угадаешь...
Наконец вызвали Лухманова. Почему-то он не решился подняться на помост, а остался внизу, прислонившись спиной к дереву. Небритый, с полузакрытыми квадратными глазами, в расстегнутой косоворотке, мятых парусиновых брюках, он с каким-то покорным отчаянием слушал, как чеканит слова Смекалов.
— Желая проникнуть на ответственный пост в орган печати, он не постеснялся скрыть свое позорное происхождение, чтобы протаскивать идеологически вредные и классово чуждые произведения... — торжествуя, читал по бумажке Смекалов.
— Понятно теперь? — шепнул мне, нагнувшись с задней скамейки, Прокофьев.
Куда яснее! Лухманов скрыл свое социальное происхождение. Написал в анкете — подкидыш, воспитанник сиротского приюта. На самом деле он был сыном пермского лабазника, что легко и установил Смекалов, заглянув в его дело в архитектурном институте. Какая бессмыслица! В те годы сыну купца было гораздо труднее попасть в вуз, чем в наше издательство.
— Зачем вы это сделали, Николай Васильевич? — огорченно сказал Сельцов.
Лухманов покачнулся, закинул руки назад, обнял ствол липы и с жалкой улыбкой ответил:
— Не хотел выходить из образа.
Уж этого никто не ожидал! Народ зашумел.
А ведь Лухманов сказал правду. Я вспомнила, как часто он повторял чеховское — по капле выдавливать из себя раба, как ратовал за новую архитектуру — функциональную, без украшений, как ненавидел галстуки и шляпы. Не было в этом подлоге корысти — чистая эстетика. Бедный Коля! Так старался, а выдавливал из себя капли пота — не крови. Наврал в анкете, а теперь, когда от него ждут раскаяния, пусть неискреннего, говорит правду, и она всем кажется шутовством.
Смекалов еще стоял, держа бумажку, когда Тоня вышла из-за стола и отстранила его здоровенной своей ручищей.
— Почему вам так не понравился Лухманов? — спросила она. — Это же очень противно — быть сыном купца. Я бы не хотела. И он не хотел. Он-то сам не торгаш, так зачем же это клеймо?
Я глянула на Лухманова. Он все еще держался за дерево позади себя, но сам весь подался вперед и не сводил глаз с Тони. Верно, так смотрят на огоньки самолета зимовщики на льдине, веря, что нет расстояния, что там наверху заметят, поймут, спасут...
А Тоня и не видела его, она говорила, глядя на людей, говорила много и под конец вовсе удивила нас.
— Если верить бумажке — обманул, — сказала она, — если совести — сказал правду. Ты, товарищ Смекалов, веришь бумажке. Человека не знал, не знаешь и не хочешь знать. Только пугаешь.
Ей дружно захлопали.
— Баба-верста! — громко сказал Прокофьев.
— Молодчина Лынева, — радовался Сельцов, — аргументы сомнительные, но все равно молодчина!
— А ты знаешь, что такое партийная дисциплина, Лынева? — крикнул Смекалов.
— Знаю, знаю, — с места отозвалась Тоня, — она сплачивает партию в борьбе за правое дело. Постарайся запомнить.
— Баптистка! Начетчица! — заорал Смекалов, окончательно сбившись с толку.
Тут вовремя врезался в эту перепалку Сельцов. Не вступая в полемику, он отвел все обвинения Смекалова: не выпускал Лухманов чуждых пьес, не пробирался на высокий пост, работал самоотверженно, может быть, лучше всех, а с анкетой допустил опасное мальчишество, даже какое-то нелепое актерство.
Лухманова взяли под защиту и другие, но про Тоню говорили, что она слишком глубоко копнула. Так копнула, что и правду землей засыпала.
Лухманову объявили выговор и оставили на работе.
Я нашла его за кухней, в глубине сада. Он сидел на скамейке вместе с Прокофьевым, между ними стояли бутылки с нарзаном, стаканы. Видно, сжалилась буфетчица, выдала в неположенный час.
— Досочинялся? — пилил его Прокофьев. — Сочинил снежную королеву, сочинил самого себя. Ты бы лучше романы сочинял — полистная оплата. Впрочем, литература требует знания жизни, схемы нынче не в цене.
— Прекрати! — простонал Лухманов. — Лучше скажи, как я людям буду в глаза смотреть?
— Люди — народ тактичный. Вопросов задавать не станут. Вот ты лучше скажи, как дальше будешь жить? Сочинять?
— Не знаю.
И такая искренняя беспомощность была в его голосе, что Прокофьев сжалился.
— Хватит! — сказал он. — Это дело надо обмыть. Обмыть вместе с Лыневой. Силища в бабе какая! Жанна д’Арк! Боярыня Морозова!
Обмывали на другой день в ресторане «Медведь» на Тверской. В глубоком подвале, выкрашенном в ядовито-голубую краску, с белыми лепными медальонами на стенах, собралась наша странная компания. Прокофьев проявил в подборе гостей чуткость и такт. Звать кого-нибудь из издательства, возвращаться к обсуждению вчерашнего собрания, — расстраивать Колю. Пригласить одну Лыневу — неудобно. И он позвал земляка Лухманова — начальника пожарной охраны города, своего приятеля-фининспектора и какую-то красивую даму в закрытом черном платье. Знакомясь с нами, она не назвала своего имени и отрекомендовалась:
— Друг Виталия Лазаренко.
— А кто такой Виталий Лазаренко? — шепотом спросила меня Тоня.
— Клоун.
Дама сверкнула глазами, но промолчала.
Водка в сероватых стеклянных графинчиках, мальчик в белой черкеске с кинжалом в зубах, метавшийся в лезгинке по всем залам, розовые горки салата с крабами, женщины в вечерних платьях с расчесанными на косой пробор волосами, волнами падающими на плечи, официанты с серебристо-белыми салфетками под мышкой — все одинаково удивляло и радовало Тоню.
— Как интересно! — тихо призналась она мне.
Общий разговор не получался. Надо всем столом, густо напирая на «о», гудел бас пожарника. Он оказался любителем-пчеловодом.
— Пчола, она честна — она кусат и умират. А оса подла — кусат, но не умират...
— Если бы я знал, что у него такое произношение! — хватался за голову Прокофьев. — Если бы я знал...
— В пятнадцатом году он прыгнул через восемь лошадей, а уже в двадцать первом... — рассказывала дама в черном молчаливому фининспектору, по-видимому, о подвигах Виталия Лазаренко.
Лухманов сидел рядом с Тоней, непривычно вялый, молчаливый, какой-то выутюженный, в новом темном костюме. Прокофьев толкнул его в бок.
— Поцелуй ей ручку, дикарь, она ж тебя из огня вынесла. Доставь удовольствие. Человек в первый раз в ресторане...
Послушно, с некоторым усилием Лухманов нагнулся и поцеловал кирпичную Тонину руку. Она отдернула ее, как от огня, и спросила:
— Вы это искренне?
— От всей души, — скучно сказал Лухманов и вдруг, оживившись, спросил: — А вы вчера искренне?
— Еще бы! Только я вчера не все сказала.
— Скажите сегодня.
Тоня задумалась, опрокинула, не чокнувшись, рюмку водки и расхрабрилась:
— Зачем бумажки исправлять? Надо самому. Бумажки исправлять — это по-детски.
— По-детски? — повторил Лухманов. — А меня никогда не считали ребенком. Даже в три года. Ужасная, тяжелая была семья...
— Вот вы и остались навсегда ребенком. С бородой.
Она улыбнулась и с такой нежностью смотрела на Лухманова, что я отвела глаза. А пожарник гнул свое:
— Сетка, она помогат. А накомарник пусто дело. Пчола на него чихат.
Мальчик в белой черкеске с шафранным лицом вбежал в зал, остановился посредине и, не выпуская кинжала из зубов, стал дергать мышцами шеи так отчетливо и ритмично, как будто у него началась беззвучная икота.
— Какой смелый! — удивлялась Тоня. — Ведь ножом можно подавиться!
Лухманов вежливо кивал головой, но похоже было — ничего не слышал.
— Каменное сердце, — негодовал Прокофьев. — Иногда мне кажется, что Смекалов прав. Гнать этих интеллигентов к чертовой матери. Ничему цены не знают!
Куда девалась его ирония? Суетится, подливает Тоне, заказывает еще закуски. Настоящий провинциальный дядюшка. А Лухманов опять разговорился. Вполголоса, нагнувшись к Тоне:
— Жизнь — всегда усилие. Головой из утробы матери — усилие. Принять вертикальное положение — усилие. По капле выдавливать из себя раба...
— Усилие, насилие... — говорила Тоня. — А если попроще? Как подсказывает сердце?
Далось ей это сердце! Всегда свернет на сентиментальщину. Даже обидно.
— Выпьем, Боря, — сказала я Прокофьеву.
Мы выпили. А Тоня, раскрасневшаяся и почти хорошенькая от возбуждения, торопливо рассказывала про свое детство:
— Когда я была маленькая, за моей мамой ухаживал один сапожник. Она его не любила. Подарил бирюзовые сережки — не стала носить. Тогда он снялся в простыне. Одно плечо голое, через другое — угол простыни. Как римлянин. Это его телеграфист в Елабуге научил... — И, как всегда неожиданно, добавила: — Когда Маркса спросили, что он больше всего ценит в женщине, он сказал: «Слабость...»
Она откинулась к спинке стула, положила перед собой на стол большие красные руки и задумчиво рассматривала их.
— Вполне возможно, — невпопад откликнулся Лухманов.
— Гребем — бом-бом и не гребем — бом-бом... — вдруг провозгласил молчаливый фининспектор.
— Виталий Лазаренко был не клоун, а сатирик! — запальчиво крикнула дама в черном, хотя с ней никто не спорил.
— Как она предана своему другу, — умилилась Тоня.
— А я говорю: гребем — бом-бом и не гребем — бом-бом. Так на так, — настойчиво и громко повторил фининспектор.
Лухманов передернулся. Углы губ поползли книзу, лицо стало брюзгливое и старое. Он взял Тоню за локоть.
— Нехорошо тут. Уйдемте. Это же не люди. Это... исчадие нэпа.
Но Тоню не легко было сбить с толку.
— А мне здесь нравится, — сказала она. — Помните, как у Ленина написано? Социализм нельзя построить только чистыми руками. Придется строить теми руками, какие есть.
Лухманов отпрянул и тупо посмотрел на Тоню.
— А может, ей в самый раз в ИКП? — шепнул мне Прокофьев и громко сказал: — Диалектика — это не для Коли. Юмора у него тоже не хватает. Прямолинейный, как гвоздь. Так что не удивляйтесь, Тонечка.
— Прямой — это хорошо, — заступилась Тоня. — Прямой, — значит, честный.
— И слабый, — подхватил фининспектор. — Запас прочности на изогнутой плоскости...
— Молчи, недоучка, — остановил его Прокофьев.
— Пошли! — сказал Лухманов и встал с места.
На этот раз все гуськом потянулись за ним. Прокофьев остался расплачиваться.
В соседнем зале за длинным банкетным столом среди каких-то почтенных бородачей сидела Серафима Мейлина. Вот уж не к месту! Все в ней не к месту в этом ресторане: и смиренно-осуждающий взгляд глубоко запавших глаз, и потрепанный портфельчик на коленях, и темное платье с белым воротничком. Она увидела нас, оживилась, подошла к Тоне.
— Не ожидала! Вас уж никак не ожидала здесь встретить. Я-то случайно, друзья затащили.
— А я не случайно! — весело отозвалась Тоня. — Мы еще вчера сговорились.
— После чистки? Естественно, но...
— Но что? — грубо спросил Лухманов.
— Неосторожно, — тонко улыбнулась Мейлина. — Впрочем, можете рассчитывать на меня. Мы с вами друг друга не видели.
— Не люблю секретов, — сказала Тоня.
— Воля ваша, — обиделась Мейлина и поплыла на место, колыхая необъятным задом.
Мы вышли на улицу. Шел дождь. Было еще не поздно. Горели фонари, на мокрой мостовой подмигивала зеленая реклама кинотеатра «Ша нуар», атласным блеском светились зонтики прохожих, моссельпромовские лоточницы в высоких картузах и клеенчатых накидках торговали папиросами. Только теперь, когда мы разместились на трех извозчиках, я почувствовала, что пьяна, да и остальные, кажется, не трезвее. Фининспектор совсем разошелся, придумал веселую игру. Около каждого шестиэтажного дома мы останавливались и пели: «Спите, орлы боевые...» Постояли на Тверском бульваре у бывшего дома Рябушинского с вычурными чугунными решетками вокруг всех этажей, постояли в Калашном возле нового дома Моссельпрома, похожего на батарею белых с синим макаронных коробок, да и поехали через Каменный на Серпуховку провожать Тоню.
У деревянной завалюшки с мезонином она остановила извозчика.
— Теперь пойду гулять!
Дождь сыпал по-осеннему густой мелкой сеткой, Лухманов послушно спрыгнул на тротуар и взял Тоню под руку.
С этого и пошло. Теперь после работы Лухманов и Лынева уходили вместе. Ему часто приходилось задерживаться, и тогда Тоня появлялась в его кабинете, спрашивала низким воркующим голосом:
— Вкалываем?
Тихо усаживалась в темный угол и озабоченно любовалась Лухмановым. Она разглядывала издали его длинные волосатые пальцы, освещенные зеленой настольной лампой, острую русую бородку, скрывающую уходящий назад безвольный подбородок, прекрасные серые глаза в тяжелых квадратных веках. В этом откровенном восхищении было что-то материнское и детское. Не то она выдумала его, не то смастерила своими руками и теперь не нарадуется.
Однажды я встретила их в биллиардной Дома печати. Лухманов играл с каким-то журналистом в тюбетейке. Партия решалась в последнем шаре. Тоня сидела на диванчике, опершись обеими руками на клеенчатое сиденье, и глаз не могла отвести от зеленого сукна. Щеки ее пошли красными пятнами.
— Зачем же так близко к сердцу? — спросила я.
— Мне кажется, он загадывает. В каждой партии загадывает. На будущее.
— А ты волнуешься?
— Хочу ему счастья. — И она покраснела еще больше.
В другой раз я увидела их вечером в читальне Ленинской библиотеки. Лухманов, обложенный комплектами «Театра и искусства», делал какие-то выписки из журнала, Тоня читала «Государство и революцию». Читала медленно, часто возвращаясь к прочитанному. Видно, никак не могла сосредоточиться. Когда я позвала ее покурить, обрадовалась. Лухманов с нами не пошел. Я давно стала замечать, что он тяготится посторонними.
В маленькой, очень высокой, похожей больше на трубу, чем на комнату, библиотечной курилке, где под потолком еле светила в дыму сорокасвечовая лампа, все казались бледными, вялыми, одурманенными. А у Тони горели глаза, пылали щеки, движения ее стали резкими и отрывистыми. Она теперь была постоянно возбуждена и не пыталась это скрывать. Как всегда неожиданно, в углу над трехногой урной с окурками стала рассказывать, какой красавицей была ее мать. Черная, как цыганка, фигуристая. Тоня-то вся в отца. Отец — столяр — золотые руки — переехал из деревни в Елабугу, да и умер через год. Мать поступила в прачечную, Тоня — в городское училище, а кончить не пришлось. Появился на свет брат Алешка от неизвестного Тоне отца, и надо было тоже стирать, помогать матери. Потом удалось попасть на рабфак. Ненадолго. Свалилась в погреб — три года лежала в постели. И все читала, читала, читала... Ребята с рабфака приносили, что под руку попадется: Флобера, Клавдию Лукашевич, Фламмариона, «Поваренную книгу», Ленина, «Задушевное слово». И как раз, когда сняли с Тони гипсовый корсет, приехал Алешкин отец. Он тогда заведовал в Москве дровяным складом. Перевез всех к себе, хотел было жениться на матери, да сделал большую растрату и оказался на Медвежьей горе. А Тоня поступила в типографию и опять везла всю семью. И так тяжело было иногда с больным позвоночником работать на линотипе, что трехлетнее лежание в постели вспоминалось, как лучшие времена. Сколько можно было читать!
— Да, книги, книги, — повторила Тоня, — книги научили меня верить в людей.
— А жизнь чему тебя научила?
— Жизнь? Тоже верить! Ты подумай, как мне повезло! — Она показала подбородком вверх, туда, где остался в читальном зале Лухманов. — Такой человек! У него тяжелое детство, у меня тяжелая жизнь, но дальше-то лучше будет!
Схватила меня за плечи, потрясла и спросила, сияя глазами:
— Ведь лучше?
— Конечно, лучше.
Мы все твердо верили тогда, что дальше будет лучше.
Редко мы теперь болтали с Лухмановым. У него прибавилось работы. После чистки пошел в гору: сделали его членом правления, и, как ни странно, идея эта принадлежала Смекалову. Он остался работать у нас в отделе кадров, по-прежнему ходил по коридорам бодрой чиновничьей походкой, по-прежнему улыбался загадочной улыбкой хорошо информированного человека. Подружился с Мейлиной и повсюду расхваливал Лухманова. Как говорил простодушный Сельцов, прислушался к голосу критики.
— Жалко Тоню, — сказал мне однажды Прокофьев.
— Кажется, она счастлива.
— До поры до времени.
— А потом?
— Коля начнет ее совершенствовать. Активная натура. Параноидальный тип.
— Это страшно?
— Это всегда страшно, а тут особенно.
— Не понимаю.
— Проще простого. У нее ничего не было. Ей все надо. Она и на конфетную коробку радуется, а он Рембрандта готов на костре сжечь. Аскетизм. Аскетизм еще никого не вырастил.
— Тоня сильнее его.
— А любовь? Любовь размагничивает. Это нам давно объяснили.
Резонерствующий друг мой и на этот раз оказался неправ. В солнечный октябрьский день, удивительно веселый, обнадеживающий день, какие бывают только поздней осенью, ко мне в комнату зашла Мейлина.
— Вы, кажется, хороши с Лыневой? Хоть бы сказали ей — нельзя в каждом письме к начинающему автору твердить: «Писать стихи дело не легкое, а трудное». Прямо хоть клише заказывай! Всем советует читать Пушкина и Тютчева, будто там и зарыт ключ к актуальности. Да еще вопрос, читала ли она Тютчева?
— Почему же вы сами ей это не скажете?
— Такая упрямая, недоверчивая. Вам скорее поверит. И потом... Так афишировать свои привязанности, не считаться с общественностью.
— Какие привязанности?
— А Лухманов! Об этом все издательство гудит. Помните, как она витийствовала на собрании?
— Ненавижу сплетни и чтение в сердцах!
— Это по молодости. Станете старше, поймете, какой вред нашему обществу могут принести семейственность и кумовство.
Вот и ярлычок наклеили на Тонину любовь... Скучно стало в комнате, и солнце пробивалось сквозь белые шторы будто для того, чтобы осветить ободранные канцелярские столы в чернильных пятнах. Зачем же все-таки говорила со мной Мейлина?
Я поняла это только спустя неделю, когда Тоню уволили с позорной формулировкой: «Как несправившуюся с работой и не оправдавшую доверия общественности на выборной должности члена комиссии по чистке».
Смекалов сводил свои счеты обдуманно и точно. Серафима Мейлина готовила общественное мнение. Лухманову покровительствовали, чтобы создать видимость объективности. Чтоб на склоку не было похоже.
Никто теперь не мог помочь Тоне. Она сама сделала так, что никто не мог ей помочь.
Мы с Прокофьевым ждали решения ее судьбы в полутемном коридоре возле кабинета Смекалова. За двухстворчатыми дверями, обитыми войлоком и клеенкой, голосов не было слышно, но мы знали, что сейчас Сельцов и Лухманов воюют с темными силами, отстаивают Тоню.
Она выскочила из кабинета красная и растрепанная, как будто там шла настоящая драка. Показалась странно помолодевшей. И я впервые подумала, что она на самом деле еще очень молода, что только громоздкость ее и медлительность заставляют забывать об этом.
Тоня быстро пошла по коридору. Клеенчатая дверь снова открылась, вышел Лухманов.
— Тоня! Куда же ты? — крикнул он.
Тоня остановилась.
— Тоня, пойми, ведь они там правы! Что ты наговорила! Это ужас, что ты наговорила! «Всегда мечтала работать рядом с любимым. Любовь окрыляет!» — передразнивал Лухманов. — Какой-то бульварный роман! При чем тут советское учреждение?
— А сколько людей становилось лучше от бульварных романов, — тихо сказала Тоня. — Горький, мадам Бовари...
— С ума можно сойти от этой школярской эрудиции! Мадам Бовари не было на свете! — крикнул Лухманов. — Смекалов рассуждает совершенно правильно. Может, ты и бескорыстно вступилась за меня, но в принципе это недопустимо. Каждый может подумать, что ты необъективна.
Прокофьев толкнул меня.
— Что я говорил? Начинается. Теперь ему объективность понадобилась. Никак не может обойтись без объективности.
— Тебе надо учиться, Тоня, — уговаривал Лухманов. — Если ты приведешь в систему свои знания...
— Я не могу жить на стипендию. У меня мать и брат.
— Завтра же устрою тебя корректором в журнал. Будешь учиться и работать. Я буду работать. Проживем.
— Зачем же на меня работать? Живи, как раньше. Покупай книжки, играй на биллиарде, ужинай в ресторанах. Я не хочу, чтоб из-за меня...
— Но тебе будет трудно!
— Мне всегда легко.
Она повернулась и пошла.
— Это неправда! — крикнул вслед Лухманов.
Не останавливаясь, с несвойственной ей насмешкой, Тоня бросила через плечо:
— Правда у Смекалова.
— Да! Да! — неистовствовал Лухманов. — Правда — это то, что нам нужно! Мы заставим правду служить себе... И откуда у нее этот гнилой гуманизм? — Он обращался теперь к нам с Прокофьевым, Тони уж и след простыл. — Хорошая, чистая кровь...
— Может, хватит? — перебил его Прокофьев. — Может, пойдешь освежишься кефиром? Смекалов в нашем буфете пьет только кефир.
Ночью мы гуляли с Тоней по Замоскворечью. С недостроенной кровли Дома правительства светили прожектора, крестили пыльными лучами дома на набережной, булыжные мостовые, красные коробочки трамваев. Мы свернули на Ордынку. Окраинная жизнь замирала рано, было пусто и темно, только чуть белели круглые кроны лип, высаженных вдоль улицы. На них оседал первый снег. Тоня рассказывала, что уедет теперь в Каргопольский район, на север. В райкоме комсомола предложили место избачки. Зима там долгая, люди темные, нехитрые, железная дорога далеко. Тихо и скучно. И хорошо будет вспоминать об этой московской осени, о Лухманове, учиться делать свое маленькое дело. В избе-читальне — книги. Будет очень много книг и много снега. Белого, не московского снега...
Неужели она и вправду мечтает о поездке? Может, только утешает себя? Мне хотелось понять самое главное. Я спросила:
— Не страшно тебе расставаться с Колей?
— Нет.
— Я бы не могла отказаться от самого дорогого.
— Лучше отказаться, чем видеть, как все идет ко дну.
— Значит, по-твоему, нельзя любить и по-разному думать?
— Можно. Только я не хочу.
Мы подошли к трамвайной остановке. Мокрый снег хлюпал под ногами, таял на груди, на плечах. Тоня села в трамвай, обернулась ко мне с площадки, помахала рукой. Капельки блестели у нее на волосах, на бровях, на ресницах, и лицо ее в этом сиянии было удивительно милым и строгим. Трамвай тронулся, я подумала: уплывают от Коли королевы, уплывают...
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





