ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна


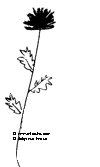
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Дальцева Магдалина 1968
Хотите — верьте, хотите — нет, а я по ночам спать совсем перестала. Ворочаюсь с боку на бок, и сон нейдет, и мысли мучают, а если и задремлю, вдруг меня как набатный колокол пробуждает. Где горит? Куда бежать? Все тихо, только сердце колотится. Петр Нилыч ворчит:
— Чужая беда с ума свела, по своей тужить некому.
А того в толк не возьмет, что свое с чужим так перемешалось, что и концов не видно. Заглянула я в церковь и слышу...
Плачут младенцы.
Жиденько колокол звонит, и плачут младенцы, холодно им. В притворе сумрачно, поп бормочет, дьякон кадилом машет, и плачут младенцы, в голос закатываются. Смотрю на них, морщусь и сама чуть не в слезы. А рядом сватья Гусарова, Анна, в черном полушалке стоит столбом, на руках держит Лешу. Ну, думаю, не будет этого! Поглядела туда-сюда, хвать у нее из рук внука — и бежать. Выскочила на паперть — день ясный, весенний! Перед церковью толпа военных: курсанты осматривают памятник старины. Курсовод объясняет и сам удивляется:
— Звонница стоит с Ивана Грозного!
А позади пристроился к курсантам Комолов Вася. Любознательный такой старичок, из паровозного цеха, старинный мой знакомый. Вот уж — на тихого бог наведет, прыткий сам набежит. Сунула ему Лешу:
— Прячься!
Спасибо, сразу понял. Шмыг за колонну — и нету его.
И вовремя. Сватья Гусарова бежит, за ней прихожанки — верующие старушки. Окружили меня. Гусарова схватила меня за плечо.
— Где внук? Куда схоронила? Младенец недоношенный, того гляди преставится некрещеный.
— В купели вашей ледяной он преставится!
Тут и поп выбежал, пальто натягивает на ходу.
— Стыдно, — говорит, — старый человек, а учинили бесчинство во храме.
— А малютку недоношенного в холодную воду — не бесчинство? — И к курсантам: — Спасайте младенчика!
Горой за меня встали. Струхнул батюшка:
— Если младенец недужен, придется отложить. Поскольку общественность настаивает.
А Вася Комолов встал за колонной и, что делать с младенцем, не знает.
— Не плачь, — говорит, — нечего плакать.
Тут к нему сержант милиции.
— Данный ребенок является вашим сыном? — спрашивает. И — под козырек.
— Внуком моим является!
— Похоже, — признал сержант. — Габариты фамильные.
И вот побежали мы с Василием Васильевичем. Безоглядно. Ребенок слабенький, часы кормления пропущены. Поглядеть со стороны — смешно. Меня-то вы знаете: птичка-невеличка, лицо — как печеное яблочко. Волосы, правда, мало поседели, да коса уж не та, на затылке вроде орешек пришпилен, и переднего зуба нет. Старший сын меня, бывало, утешает:
— У тебя улыбка добрая стала.
— А по-моему, просто глупая, — отвечаю.
Вася Комолов тоже пенсионный возраст давно переступил. Прижал белый сверточек к груди, острой бородкой щекотит детское личико да подмигивает мне голубыми глазками. Ему весело...
А поселок наш заводской, при верфях, — больше большого города. Не то мы бежим, не то на нас улица набегает. Девчонки названивают в телефонах-автоматах. Лоточницы с пирожками на перекрестках. Пьяные у забегаловок. Грузовые такси шифоньеры развозят из мебельного. За углом посуду сдают в ларек, торгуются...
— Сержант признал, — на ходу говорит Вася.
— Что признал?
— Сходство родственное. Это чей же у тебя?
— Нинку мою помнишь? Ее сынок.
Он на меня поглядел искоса да и брякнул:
— Мог у нас с тобой, Ксюша, быть внук общий.
— Как это общий?
— Твой да мой... Были бы дети — был бы и внук.
— Вспомнила бабушка, — говорю, — девичьи посиделки! Кепку поправь! Лихой какой...
Старая у него эта песня. Знакомы мы с ним лет сорок, сватался ко мне еще прежде Петра Нилыча. Он и сейчас кепку поправил и снова:
— Кабы ты мне тогда не отказала...
Мне и слушать-то смешно. Подбежала к табачному киоску. «Прибой» курю с сорок третьего, как «похоронку» получили на Катю. И пока прикуривала, хочется мне подразнить Васю.
— Опоздал ты тогда, Вася: дорого не время, дорога́ пора, — говорю. — У меня с Петей уже любовь была. Да и какое же сравнение! Петр Нилыч и в старости представительный — рост богатырский, волосы седые, вьющие, брови черные, карие глаза цвету не потеряли. А ты уж слишком вертлявый.
И снова спешим, как на пожар.
— Счастлива ты, Ксюша? — спрашивает Вася.
— Счастлива, — вздыхаю, — на старости лет одни остаемся — бобылями. Последний птенец из гнезда вон...
— Внучка, что ли?
— Наденька. Уходит с нашими быстроходными катерами на дальние реки... А старшие давным-давно разбежались...
— Не сумел около себя удержать Нилыч. А я бы все твои желания исполнял...
И вижу: нравится ему бежать со мной и что ребеночек на руках. Он-то сам бобыль, Василий Васильевич, жену давно схоронил, сын без вести на войне пропал.
— Желания мои... — говорю я Васе, — чтобы внучата под ногами барахтались, а Нилыч с кровати им указания давал. А взрослые мои дети сели бы за родительский щербатый стол рядышком... Да разве соберешь?
— А сколько их, детей да внуков?
Буду я для него считать-пересчитывать, сколько их по всей России развеяло.
— Жизнь моя долгая, незаметная, — говорю, — вроде много делов, да все мелочи. А все ж таки была кому-то нужна.
Так за разговором добежали мы до нашей заводской дамбы. Смеркается. Фары у машин зажглись, бегут навстречу. Тут у нас речушка, вроде фольговой ленточки, а в ней лиловая туча отражается. И зажженные фонари. И трамвай бежит, издали позванивает...
— Зайди, — говорю, — к Нилычу, чтоб не ждал меня. А я Нинке младенца отнесу.
Вася поглядел на меня долго-долго.
— Не люблю твоего Нилыча. Дутая репутация.
— Не болтай, чего не понимаешь. Зайдешь?
— А я бы все твои желания исполнял, — и туманно так вверх смотрит.
И что ж, заглянул. Исполнил мое желание.
— А у вас ворота скрипучи... — с ходу замечание сделал Нилычу.
— Тебя не ждал, а то б сала кусок подложил...
Нилыч у нас не очень-то ласков.
Это удивительно, как люди стареют по-разному. Соседка наша Ольга Ипатьева в старческий размазм впала, так и сказали доктора. Размазывается, прямо как манная каша, и одно твердит:
— Меня покоить должны.
А старик мой — по-другому. Как вышел на пенсию, поставил около кровати тумбочку, покрыл белой салфеткой, слева — немецкое лекарство дрись-ирпин, справа — индейское трам-бам-мил, посередине — кувшин с морским грибом, ближе к изголовью — книжечка Бебеля «Женщина и социализм»...
Вася задиристый, все подмечает. Прошел по двору, подразнил в конуре собачку.
— У тебя, — говорит, — собачка лиха...
Это опять из песенки. Вася у нас в хоре ветеранов по субботам солист, проще сказать — запевала.
Петр Нилыч молча провел его через галдарейку в парадную комнату. А там на столе — толстая папка с золотыми буквами, в ней Нилыч держит всякие грамоты, письма заграничные и простые, вырезки из газет — все, что про него касалось, пока гремел.
— Скучаешь? — спрашивает Вася.
— Не скучаю, — говорит Нилыч, — а устал от безделья.
— Ты бы на общезаводской вечер пришел, побыл с людьми, все легче...
— Шумно. Утомляют меня собрания.
— Или к нам заглянул бы. В Совет ветеранов труда.
— Что мне там — в шашки играть? «Комарика» петь в хору, как он муху полюбил да и сдох?
Тоже ведь знает, чем уязвить. Оба ядовитые.
— А это что такое? — показывает Вася на стену за фикусом.
— Вымпел.
— Ага, вымпел? Нравишься ты себе, Петр Нилыч, вот что тебе скажу. Нужна была показуха, нужен был герой, по ком заводу равняться, вот и выдумали тебя.
Петр Нилыч рассердился.
— Ну вот что, — говорит, — ты меня не волнуй, мне лекарства срок принимать.
Да осторожненько подталкивает Васю к двери. А тот упирается.
— Погоди выпроваживать, — говорит, — я к тебе с хорошим пришел. Покажи семейный альбом.
И вот стали они смотреть, а у нас альбом, как у царской династии, за полвека набралось карточек — не сосчитать!
— Сколько же их, сыновей, у тебя?
— Пять сыновей, три дочки.
— Да еще с вами взрослая внучка?
— Она покамест не в счет...
— Это как же?
— Не заслужила еще.
— А ты только заслуженных считаешь? А они ведь все кровные твои. Позвал бы всех в гости, старуху порадовал... Сели бы они за родительский стол...
— Ты к чему ведешь? — Нилыч не любит загадок.
— К тому самому... Подумай, сколько тебе годков, Нилыч?
И со всеми этими намеками да экивоками подался Вася со двора. Оставил моего в расстройстве чувств.
Да еще у калитки повстречал Наденьку с чемоданом. Мать ее, Катя, на фронте погибла, врачом была в медсанбате. Мы с Нилычем сироту воспитали. Работает на верфях в монтажной бригаде, вечером в техникум бегает.
Комолов схватил ее за руку.
— До чего ж на бабку похожа! Тоже Аксинья?
— Надя. А вас как зовут?
— Меня — Вася.
Наденька фыркнула.
— Слыхала про вас. Бабушка рассказывала, что Василек к ней раньше деда сватался. Это вы, значит? Зря отступились. Может, в доме веселее было бы. Дед у нас очень скучный. Прямо истукан.
— А чего ж бабку бросаешь?
— Тише, — говорит Надя, — дед услышит. Это пока от него тайна. — И опять свое: — Правда, правда, зря отступились. Мало что отказала! Любимую женщину надо завоевывать.
— Завоевывать?
— Обязательно!
Совет ветеранов у нас при заводоуправлении. Комната просторная, а все тесно: стариков набирается в иной день с полсотни. Кто в культкомиссию насчет экскурсии, кто в бытовую — про квартиру или путевку, кто по делам подшефной школы, вроде Комолова. Тут же пионеры готовят выставку: расставили свои модели. И, конечно, Василий Васильевич — ко всякой бочке гвоздь — помогает им оснастить космический корабль. Нилыч как вошел, в комнате еще тесней стало.
— Это что ж такое тут уставили? — говорит на ходу, а сам мимо космического корабля пробирается.
— Тебя, Петр Нилыч, снаряжаем на Луну, там конференция назначена, —подбрасывает Вася.
Все смеются, обращают внимание: сам Лобов пожаловал, с чего бы? Пробрался Нилыч ближе к окну. Там председатель совета Афонин со всем своим пленумом. Увидел редкого гостя, подставляет шашечницу — расставляет шашки. Это у них — в минуту, чисто дети.
— Давненько тебя не видели. Сразимся? Не забыл, как на пересменках играли?
— Я не забыл. Вот меня, это верно, забыли, — отвечает Нилыч и ход делает. — Намедни явился репортер, ну, думаю, вспомнили: семьдесят лет решили отметить. А он, видишь ли, ищет мою внучку — с Сибирью по радио разговаривать. Енисейские речники нашими катерами интересуются.
— Стало быть, выходит на широкий простор твоя внучка. Радуйся.
— Улита едет — когда-то будет. Не об ней речь.
— Значит, пришла пора тебя сызнова отмечать?
— Чем награждают-то нынче? — интересуется Нилыч.
— Кого как. Комплект теплого белья, к примеру, черную сорочку для дома, а сюда, на завод ходить, — белую. А как уборщице Сениной дали квартиру, то поднесли скатерть и занавески.
— Ты не болтай про Сенину, — отвечает Нилыч, — а вот как на соседнем заводе чествовали знатного моего друга, депутата от трудящихся Колесня, — что бы так и меня! Лучше не надо, а чтобы и хуже не было.
Старики слушают, не молчат:
— Привык диктовать!
— Сделали из тебя икону, Лобов!
Один выскочил да за всех кричит ему в ухо:
— Я тебе всю правду скажу, Нилыч! Тащили тебя в гору, а на вожжах и лошадь умна!..
Все смеются, беда! Только Вася Комолов внимательно слушает, — видно, на свою мысль напал.
Петр Нилыч смешал шашки на доске:
— Все вы тут спелись!
Хлопнул дверью, зашагал по коридору. А из зала — там спевка идет — голоса:
Как дед бабку завернул в тряпку,
Поливал ее водой, чтобы стала молодой...
И в тот же вечер — об этом мне потом Наденька рассказала — зажглась в Васиной комнате настольная лампочка. Лежит на столе перед Комоловым длинный список: адреса разные — фамилии одинаковые, наши фамилии, Лобовы. Комолов диктует, а Наденька чистым почерком на конвертах выводит, заклеивает язычком, на щегла в клетке поглядывает.
— Барнаул, Свердловск, Кушка... — читает вслух Наденька. — А скоро и мне напишут: Красноярск, речной затон, Надежде Лобовой.
— Надолго в Красноярск?
— А кто знает. Мы всю Сибирь должны объездить. На какой реке наши катера монтируют — туда и мы...
— Не страшно тебе? По общежитиям, без своего угла. Молодежь нынче грубая. А ты еще жизни не видела.
— Я храбрая...
И вот уже побежали письмоносцы. К Сенечке с Клавой на Урале, в их дома гарнизонные.
В зеленом городе Краснодаре — к Александре в гостиницу, где она живет второй год.
К Митьке по талому снегу в Воркуте...
Приглашения.
А как пришло приглашение к Лёне и Зиночке, мне об этом рассказал их водитель Боря. Они от нас близко, в городе, если трамваем — сорок пять минут с пересадкой.
Утром позвонила к ним в дверь курносая девчонка с сумкой, отворил Боря — он свой человек в семье.
— Пускай получатель распишется, — говорит письмоноска.
— Давай уж я подмахну, им не до этого.
Девка любопытная.
— Мне, — говорит, — уже намекнула лифтерша. — Разводятся?
— Много будешь знать, скоро состаришься.
Боря не сплетник, этого нет. Принял письмо да бочком из прихожей на кухню, чтобы не помешать разговору. Только глянул в двери, а они в комнате сидят на чемодане оба: Леня и Зиночка. Со стороны посмотреть — будто голуби. А это они чемодан уминают, чтобы прихлопнуть. Давно у них полный разлад. Последние два месяца Леня и дома-то почти не ночует. А теперь надумал в Крым — в отпуск. Зиночка крепилась, молчала, а перед дорогой-то все и разошлось — поняла, что будет этот отпуск на всю его остатнюю жизнь.
Илюша в соседней комнате упражняется на рояле. Слышит Леня — что-то притихло там, подошел к двери. Илюша головку склонил на клавиши, черные завитки на затылочке подрагивают. Леня закрыл дверь, закурил.
— Поедем вместе? Поживем — увидим...
Зиночка не встала с чемодана, только голову подняла.
— Это всерьез?
Уж куда серьезнее: на Лене лица нет. Курит-дымит.
— Поедем, говорю, вместе. Хочешь?
Качнула головой: нет.
— Я ведь люблю тебя, — говорит Леня.
— Неправда.
— Нет, правда. Помоги. Мне бы только вырваться, забыть. Поедем, попробуем. Может, склеится...
— Не могу я уехать — на кого оставим Илюшу?
Тут она в голос заплакала. И вот лежит она лицом в подушку. Леня подошел, нагнулся погладить и видит в черных кудрях белый снег.
— Борю попросим, — говорит он, — пусть у нас поживет.
— Глупый ты, глупый...
Как сказала она эти слова, что-то в ней отпустило. Ослабела и уж не тем — каменным — голосом заговорила:
— Мне перед бабкой стыдно, как я тебя не удержала. Помнишь, как нам жилось у бабки?
— Когда Нинка училась на баяне... Помнишь? — подхватил Леня. — Приедем из города, а там музыка изо всех окон!
— Зачем мы оттуда уехали... — шепчет Зиночка.
— Постой, я, кажется, придумал, — говорит Леня.
Повеселел. И на кухню. Зовет шофера.
— Боря, за мной! Поехали к старикам в поселок.
Надо вам сказать, местожительством нашим я издавна довольна. Покойный свекор, как пришел из деревни на завод, срубил в слободе дом о пяти окнах, Петька ему помогал. И сад тогда разбили. Проулок тихий, и все в горку, в горку, над рекой. Одно слово — рабочая слобода. Между каменных плит весной пробьется травка. Дворняга дремлет у крыльца с навесом. Липы свешиваются над заборами. А на самом пригорке — каланча пожарной команды, там нынче картофельный склад. И редко кто проедет мимо. Да и ходят одни наши соседи, все уже больше пенсионеры. Молодые — давно кто куда...
А тут подкатила «Волга». Прямо к калитке. И Боря к нам во двор. На крыльце Наденька. С купальником через руку. Боря так и застыл. Давно она ему нравится. Только встречаются редко.
— Навытяжку? — спрашивает Наденька. — Вам бы в армии служить.
— Разве ж вам только военные честь отдают? Я думаю, даже уличное движение должно останавливаться.
Застеснялась от удовольствия, а не подает виду. Крикнула:
— Бабушка, это к тебе! — и сама в щель — у нас в заборе потайной ход к речке. Вижу — шофер за нею.
Леня меня дожидается в «Волге». Вышла я к нему с кухонным полотенцем, руки мокрые. Он открыл дверку, усадил рядом.
— Что ж в дом не зашел?
— Разговор, — говорит, — не при отце. Как его здоровье?
— Он теперь, — говорю, — тран-бам-мил пьет. И еще — дрись-ирпин. А с тобой что, Ленечка? — спрашиваю.
— Плохо, мама. Плохо.
— Что плохо-то?
— А то плохо, мама, что жить нам с Зиночкой больше незачем. И невозможно расстаться — Илюша.
— Не будет этого, — тихо говорю.
— Вот приехал с тобой посоветоваться. Одна ты у меня. Говори.
— Разойтись хотите?
— Похоже, — говорит, — на то.
— Как же так, пятнадцать лет прожили — и разлюбил? Такую сердечную женщину разлюбил?
— Понимаю, все понимаю.
— Ведь жена у тебя просто красавица, — это я ему тихо, вполголоса. — И самостоятельная женщина, доктор. И когда Катя, покойница, болела, она мне помогла больше родных детей...
Он вздыхает тяжко, чуть что не стонет. А ведь какой всегда веселый, быстрый. Больно глядеть на него.
— Влюбился, — говорит.
— В кого же, можно узнать?
— В молоденькую. Стыдно сказать — в манекенщицу. Глупо это, сам понимаю, глупо...
— А я этих глупостей не могу понимать. Манекенщица твоя, видно, — дрянь-баба, кому хочешь на шею повиснет, лишь бы генеральские погоны. И ты об ней забудь, я тебе приказываю, слышишь?
Сижу рядом с ним, внушаю, в глаза гляжу. И знаю: видит он не меня, старушку затрапезную, а ту свою мать, какую помнит с детства. Все-то она знает и все может. И хочет он сейчас, чтобы я разбередила его совесть, затем и приехал.
— Я, мама, думаю с Зиночкой поехать в отпуск, — говорит. — На последнюю проверку: сможем ли дальше жить...
— Это хорошо. Сразу езжайте. Помочь тебе? Деньжата нужны?
Ленечка засмеялся — рассмешила я его — и сразу вроде оттаял, расположился. Люблю его, что он никогда в беде не киснет.
— Что ты! Какие там деньжата! А вот кто за Илюшей присмотрит?
— А ты, говорю, сигналь шоферу, сигналь, чего время терять. Ты не беспокойся, я все сделаю. Я с детьми и по хозяйству привычная. Ты сигналь, сигналь шоферу. Я только соберу узелок, я — в секунд...
И вот сигналит Леня шоферу, а я дверку никак не открою, он помогает, смеется, а уж из калитки к нам шагает Петр Нилыч.
— Куда собралась, вертихвостка? — Нилыч всегда при детях строго со мной говорит.
— Увожу мать к себе погостить, уж ты прости.
— Не жалеете. Себя только помните. Стара мать — жить в сторожах. Руки ее отработались, ноги отходились...
Я вернулась от калитки.
— Обо мне и собаки не брешут. Я согласная. Тебя мне только жалко, да уж тут обстоятельства... Слышь, об-сто-ятель-ства...
Как скажу с расстановкой, да еще иной раз добавлю: «И концы!» — это он понимает. Он хоть и Петр, что по святцам значит камень, да я тоже ничего камешек, как до главного дойдет.
Поглядел Петр Нилыч на Ленечку, потом на меня. Повернулся и пошел.
Возвращаюсь к машине со своим узелком — вмиг собралась, — а из щели в заборе вылезает обратно Наденька. И Боря за ней с веточкой сирени.
— Значит, уезжаете? — спрашивает. — Цыганской жизни хотите? Стоит ли?
Наденька смеется:
— А бригадир как раз «Цыганами» и соблазняет: «Как вольность, весел их ночлег и мирный сон под небесами...»
— «...между колесами телег...» Это и мы в школе учили.
Вот и занесло меня в город. Вот и не спится на новом месте. Вскочишь на рассвете, глянешь в окно — все крыши, крыши. Мелькнет изредка верхушка тополя, и опять, как сквозь туман, крыши. В городе чистого неба не бывает. Мгла какая-то, как вата нащипана. И вдаль неясно видно. Поговорить тут не с кем. Домработницу в деревню отпустила — лишний расход сняла. Только с Борей и перекинешься другой раз словом. Идем из комнаты в комнату — просторно, а нам вроде неловко. Привыкли к тесноте.
— Вот, — говорю, — свела нас судьба. Квартиранты.
Открыла я шкаф — ахнула:
— Ты только глянь!
Носки с простынями перемешаны, дамские лифчики — с новыми гардинами. И все — комком, комком!
Боря и глазом не повел.
— Чего вы удивляетесь? Обычное явление.
— Ах, если обычное явление, пусть и она не удивляется, что разлюбил!
Подошла я к часам — они между окнами в решетчатом футляре стоят, — дверцу открыла, вынула заводной ключик, как меня Леня учил, завела. Боря стоит с полотенцем, интересуется: как, мол, старуха с техникой справится. Звонок в прихожей зазвонил — это молочница. Я принесла из кухни кастрюлю.
— Дусю рассчитали? — спрашивает с любопытством. — Вы теперь здесь домработницей будете?
— Я, матушка... Наливай-ка полтора литра.
Боря приглядывается ко мне, и чего-то смешно ему, а чего — не пойму.
— Недорого вы себя цените.
На два дома жить — хлопотно, а все-таки веселее. Пока до автобуса добежишь, чего не насмотришься...
Вышла я из дому, к Нилычу собралась. В почтовый ящик бросила конверт. А вот уж и автобусная остановка. Гляжу: Вася Комолов. Откуда в такой час в городе? Как пить дать, меня дожидается.
— Здравствуй, Ксюша, вот встреча неожиданная! В слободу? — И в машину подсаживает.
Едем, качаемся на поручнях. Народ вокруг нас теснится. А Вася мне докладывает громким голосом:
— Краска у вас в дому пооблезла. Дерево прогнило. Ворота скрипят. Полный ремонт нужен. Я бригаду маляров пригнал.
— Ты-то при чем?
Отвечает важно:
— Я председатель юбилейной комиссии. — Да как гаркнет: — И твой беззаветный друг!
Вижу: кое-кто посмеивается. Васе только была бы публика, он свой номер исполнит.
— Ждали комиссий, а пришел один лысый! — Так он чудит и поглядывает на людей, все ли слушают. — Мужчина в твоем доме есть? Заработки — слава богу. Как же до такой ветхости допустили? Где же хозяйский глаз?
— Здоровье у него... — нехотя отговариваюсь, чтоб только помолчал.
— У меня тоже здоровье! Каверна! Однако дом — полная чаша. Даром что бобылем остался.
— У всякого свой интерес...
— Вот о том и толкую, что интереса у него к тебе нету. К дому нет интереса, — значит, и к тебе.
— Да что ты, батюшка, привязался! Мой старик Бебеля изучает — «Женщина и социализм»!
Как у меня с языка сорвалось — весь автобус покатился со смеху.
— Я тебя, Ксюша, крепче бы любил, — жутким шепотом шепчет.
И уж не пойму — для людей или от души.
— Старая любовь, — сухо говорю, — долго помнится. Давай к выходу, хватит народ смешить...
Он плечом пробивается, на меня глядит и басовито напевает:
Колечко мое позлащенное,
А я девушка обрученная...
— Помнишь? — спрашивает.
— Давно это было, — говорю, — когда бабка внучкой слыла...
Вышли из автобуса. Водитель рукой помахал да посигналил.
— Хулиган ты, хулиган, Вася. Кепку поправь! — так говорю, а сердиться не могу.
Вот и наш домик с резными ставнями, палисадник в смородиновых кустах и сирени. Вот и комнатки с частыми окошками. Нилыч стоит в позиции: пьет квас из морского гриба. Увидел Комолова — сразу в штыки:
— Что ж, так и будем в одну краску? И парадную залу, и нужник во дворе?
— И собачью конуру тоже! — дерзко ему отвечает Вася.
Началось! Теперь задерутся. Я тихонько прошла к себе в комнатку, стала перед зеркалом и волосы приглаживаю, какие выбились из прически. Что тут особенного? Стою и слушаю. В зале разговор крепчает.
— Ты мне спасибо скажи: на весь дом краски достал! — кричит Комолов. — А если голубая, так другой и нету в хозчасти, ясно? Нынче и склад, и директорскую квартиру — все в голубую краску выводят. Завхоз так и называет: знак почета!
— В один цвет не пойдет, — твердит себе Нилыч.
— Сам доставай! — кричит Комолов.
— Мое дело — сторона. Я юбиляр, запомни!
— А я кто ж, по-твоему, снабженец? Сам иди проси!
— В жизни не унижался, чтобы просить...
— Было время, все на блюдечке тебе подносили, а теперь походи...
— Не пойду!
— И я не пойду! Надоел ты мне!
Слышу: хлопнул Вася дверью. Хлопнул и калиткой.
Вышла я в залу, а Нилыч на меня не глядит.
— Ехала бы ты к себе в город. Живи там... в ночных сторожах.
И верно, в сторожа нанялась: в большой квартире пусто и гулко по вечерам. Я Илюшке сменила простынку и наволочку — спит, за день намаявшись. В кабинете шофер засел над толстым учебником — конспектирует...
По улицам я быстро бегаю, а под вечер в квартире еле плетусь. И шум в ушах. И вроде как будто что-то надо вспомнить. Заглянула в кабинет с чайником — цветы на окнах полить — и смеюсь потихоньку: ногу свело.
Боря поднял голову, говорит:
— Что это вы, Аксинья Ильинична, себя не жалеете? Спать надо.
— Глаза не спят. Бессонница, милый, бессонница. Вот и ногу свело...
— А вы смеетесь...
— Надо бы, — говорю, — в поликлинику сбегать, да все некогда.
— Стоит ли? Врачи известно, что скажут.
— А что?
— «Домой пора, бабушка...»
И сам смеется.
— Ты вот что, — говорю ему, — два света не жги, довольно с тебя и настольной лампочки.
Погасила верхний свет, ушла на кухню. Рабочую куртку Боря изгваздал — надо простирнуть. Стираю, а в мыслях Петр Нилыч со своим юбилеем — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. И Нинкины беды с ее темным царством: думаю — уйти ей от мужа, отдаст ли ребенка? Как же, отдаст — на том свете угольками... И про Леню с Зиночкой мысли: как они там в Крыму поладили, вернули себе любовь?.. А горше всего — про Наденьку... Увезут на край света, а она еще махонькая. Чем жизнь порадует?
Утром опять душа не на месте. Что там дед, — может, и без хлеба сидит? Теми же ногами — домой в слободу. Подхожу к дому с булками — узнать не могу! Кирпич штабельком в палисаднике. Известь и песок. Кровельщики задрали крышу, а сами сидят, свесили ноги — перекур. Плотники на галдарейке олифят стену. Вася на ворота сел верхом, столб обушком укрепляет, Нилыч ему гвозди подает. Меня будто не заметили. А я думаю: «С чего это Вася взялся помогать? Какая их связала веревочка?» Вслушалась — разговор крепчает. Соперники!
— Газет не читаешь, Василий Васильевич, вот и ветер у тебя в голове! — кричит Нилыч. — Двадцать второй съезд ставку на таланты сделал. Таланты и грамота! И хотя мы, рабочий класс, гегемоны, а все равно обушком до коммунизма не достучишься...
Вася как раз обушком орудует. Кепку сдвинул на затылок, сам с ворот свесился.
— Значит, сам от себя — от рабочего класса отказываешься? Кем всю жизнь прожил? Эх, ты, а еще ги-ги-мон!
— Мы с тобой были гегемоны, — отвечает Нилыч, — а нынче пускай наши дети дипломами обзаводятся. Нынче, брат, автоматика, кибернетика... — Повернулся ко мне и как рявкнет: — Из школы позвонили! Наша Надька двойку по письменной схлопотала! В аттестат пойдет, ясно? Не пришлось бы ей за коровьими хвостами походить. На целине. С комсомольской путевкой...
— Может, ей только того и хочется? — вставляет Вася. — Может, ей белый свет повидать интерес?
Я схватилась за щеки: сейчас выдаст Наденьку!
— Говори, да не проговаривайся! — Так ему кинула и, чтобы разговор перевести, спрашиваю Нилыча: — А о чем было сочинение?
— Про «Мать» Горького.
— Эка разговор — мать! — фыркает на воротах Вася, на меня показывает: — Своих-то матерей в грош не ставим!.. За нее бы тебе, Нилыч, пятерку иметь, а на двойку сдал...
— Сравнил... — усмехается Нилыч. — «Мать» Горького целую эпоху в себе воплотила... И со знаменем. И по тюрьмам. И вообще. А Аксинья Ильинична — женщина темная, неграмотная, отсталая. Она этого ничего не понимает...
Я авоську с хлебом повесила на калитку да и пошла.
Неграмотная...
Нилыч меня обидеть не может — никому он покоя не дает, кошку и ту готов поучать, как ей мышей ловить... Иду я, людей не замечаю, а в мыслях Наденька. Иду, спотыкаюсь.
Темная...
Я считала — выращу детей, на ноги поставлю, а там живите, как хотите, стали умней матери. А выходит, помощь нужна и умному. К Наденькиной школе подошла, стою, людей вокруг не замечаю.
Отсталая...
Гляжу, Наденька с подружками глянула в открытое окно, с пятого этажа, сверху. Рюкзаки из окна показывают: дескать, собрались в отъезд, а ты, бабка, потерпи, смирись.
Я пошла дальше. Иду.
Темная. Неграмотная. Отсталая.
Вечером в большой квартире тоска — ох, как хочется словом перекинуться, отвести душу. Боря понятливый, войдет ко мне в кухню, учебник под мышкой, встанет у окна — вроде слушает. Я замесила тесто, раскатываю на доске.
— Тоже не спится? — спрашиваю.
— Наоборот! Умираю — спать хочу.
— Что же не ложишься?
— Заниматься надо.
— Ну, давай кофейку сварю. Кофей сон разгоняет.
— Вот характер какой у вас беспокойный. Я и сам могу...
А с места не трогается: уставился в окно, будто дожидается кого-то. Я вытерла руки, поставила кофейник на плиту.
— Беспокойный характер — это ты правду сказал. И когда только угомон возьмет... Смолоду я спокойная была. Думала: проживу, как люди живут, как все. А пошли дети — куда что девалось? Дети-то не должны жить, как все, должны лучше всех...
Вдруг звонок в прихожей. Я, конечно, открывать, руки обтираю. Только Боря меня опередил.
— Я сам, — говорит, — не беспокойтесь.
— Мне, милый, это не в труд...
— Вам незачем, — меня отстраняет, — вдруг из милиции или управдом, а вы не прописанная.
Уговорил. Сам открыл. Я не вдруг сообразила, чего он меня от двери оттиснул. А это он проводил Наденьку в кабинет. Я даже рассердилась, заглянула в дверь.
— А ты сам-то прописан? — спрашиваю.
Он смеется. Ему весело. А Наденька — та немного смутилась и говорит:
— Там у нас дома, бабушка, полный сабантуй! Дядя Вася с малярами чудит. Дед тебя дожидается... Мрачный! Я, видишь ли, хлеб не тот купила. Ты бы поехала.
— Ладно, — говорю, а с Бори глаз не спускаю. — Был бы хлеб, а мыши будут...
Боря смеется. Ох, хитер!
Вдруг зазвонил телефон. Часто-часто.
— Это, — говорит Боря, — междугородный. Вас вызывают.
И верно: Зиночка.
— Ты пореже говори, — кричу, — я все пойму! Илюшка наш здоров, от рояля зубами не оторвать. Вот послушай...
Отняла трубку от уха. Хоть и за двумя дверями, а все равно слышно. Пусть материнское сердце радуется.
Повесила трубку. Боря за спиной стоит.
— Как там у них? Загорают?
— Ничего, — говорю, — все в полном порядке...
Пошла к Илюшке. Стала в дверях. Он не видит меня. Играет. Пальчики бегают по клавишам.
Так они бегают с утра до вечера... И второй день. И третий...
Над старой не смейтесь. Пока сыновья небо штурмуют, у нас, матерей, на плите молоко бежит.
День ясный. Солнце играет. Я взяла Илюшкин велосипед за рога, у него карданную передачу заело, качу по улице — в ремонт. Только замечаю: народ скопляется кучками у рупоров. Левитан говорит. Что бы это? Вдруг поняла: в космос летят!
И верно: у фотовитрины толпа, выставлены портреты. Подполковники, майоры, кто их разберет, а шлемы знакомые.
— Молодые, видать?
— Говорят, третий виток делают.
Я бегу по улице, спицы сверкают на солнце. Из окон, из рупоров — веселая музыка. И у меня сердце поет петухом. Илья, думаю, тоже полетит в свой срок. А мой махонький, некрещеный — Лешенька? Дай, думаю, в ихний мрачный дом загляну. Так потянуло к Нинке.
Надо выйти к берегу и по мосткам к воде сбежать. Зять Валерьян заведует на торговой пристани погрузкой-выгрузкой, и квартира у них на брандвахте.
Ввалилась...
Помещение порядочное, а темно и душно. Оконца круглые, свет пучком пробивается, в углах мрачно. Там по углам всего вперемешку: рижский гарнитур и кованые сундуки, киот с лампадой и телевизор.
Зять Валерьян сидит за столом. Стаканчик и бутылка с высотным зданием. Подает ему сватья Гусарова. Нина кормит у окна ребенка.
— Слыхали? — спрашиваю. — Наши орлы опять в космос летают!
— Выключи, — говорит матери Валерьян.
Это, значит, без меня слушали, а при мне не желают. Сватья за шнурок — дерг, а ко мне задом.
— Космонавтка! — шипит, как змея. — Лети, лети! Где-то сядешь.
Прислонила я велосипед к стенке, подошла к Нине, обняла. Она щекой к моей руке прижалась. Все понимаю.
— И ноздря у него, — говорю, — как у деда, и бровки, как у Наденьки, и ушки — в Лобовых. А не спит он, потому что душно, окна глухие. Хоть бы дверь отворили. День-то какой веселый.
Пошла дверь открывать, а Гусарова — туда же. Развела руки, загородила, черный полушалок с локтей свисает — не старуха, а ворон зловещий.
— Простынет — опять крестить не дадите?
Тут меня взорвало.
— Космонавты небо штурмуют, а вас когда разум проймет?
— Когда черт помрет. А он еще не хворал, — отвечает зять.
Надо сказать, этим зятем у нас все недовольные. Первое — без образования, а этого Петр Нилыч не любит. Второе — из плохой семьи. Отец его — взяточник и ворюга, в тюрьме его держали, но выпустили и дали справку «минус шесть» — что он человек опасный для шести губерний. Сына это не коснулось, а все думается: с яблони — яблочко, с елки — шишка. И нашей семье такое родство обидно.
Подошла я к столу, не спросясь присела, посуду отодвинула от себя и спрашиваю:
— Отвечай, Валерьян: зачем ребенка крестить при советской власти?
— Советская власть, — говорит, — сама по себе, мы — сами по себе.
— Чем же тебе советская власть не по носу, что себя от нее отдаляешь?
Молчит. Ковыряет в зубах. На слепого очков не подберешь.
— Чего привязались? — говорит. — Мой ребенок: хочу — крещу, хочу — рыбкой на дно пущу. Ясно?
Поглядела я на Нину. Она опустила голову, мнет уголок пеленки, слезы показать стыдится.
— Дочь ты моя, дочь! За каким же невзрачным человеком хочешь жизнь прожить! Ты поверь мне, грамоте я плохо знаю, а людей разбирать могу. Уходи ты отсюда и дорогу забудь.
Подбежала к ней, целую в темечко, плачу. А она руки мои ловит, шепчет:
— Давно все понимаю, мама, но не могу. Не могу.
Господи, до чего женское сердце слабое! И чем укрепить, не знаю.
— Нина, доченька, — говорю, — жизнь-то, она не в постели, она с человеком, жизнь. Ты о сыне подумай: чего наберется от такого отца — как перед советской властью двурушничать, как легче прожить? А легкая жизнь — неверная! Ты не бойся, ты же работаешь. Пока мы с отцом живы — все ваше...
— Трудно, мама, люблю.
Тут зять ободрился, закричал:
— Не командуйте! Не обзывайте! Старая баба, а семью разрушаете! Тоже мне партком и завком на квартире! В какую дверь пришли, в ту и катитесь!
И поверите — взял меня за плечи и повернул к двери. Верно говорят: сын в отца, отец во пса, а оба в бешеную собаку. Тут Нина не выдержала. Откуда голос взялся у бессловесной? Как крикнет:
— Не смей мою мать трогать! Хватит с меня! Хватит... хватит...
Укутывает в одеяло Лешеньку. Руки дрожат, ходуном ходят.
— Только не серчай, — говорю спокойно, — только не серчай, молоко пропадет. Решай сама. Твердо. И приходи.
Уж и не помню, как я выскочила, взбежала по мосткам. Велосипедные рога впереди меня летят. Солнце и музыка из рупоров. А на душе — тьма. Вдруг машина подкатывает. Это наш Боря.
— Аксинья Ильинична, откуда вы? Подвезу.
Велосипед подхватил — и на заднее место в машину. А меня с собой усадил. Едет, посматривает, улыбается. От быстрой езды и я подобрела.
— Ты вперед гляди, на аварию наедешь. Который виток-то наши сделали?
— На четвертый пошли. Ради такого случая покатать вас по городу? Вы ж его и не знаете.
— Вот те на! Целую жизнь прожила и не знаю?
— И не знаете.
— Это ты Наденьке расскажи. Не застал ее, что ли?
Молчит, улыбается.
Ведь, оказывается, и правда, кое-чего я не видела в нашем городе.
Новый стадион — а я не хожу смотреть футбол.
Водная станция — а я не купаюсь.
Кафе «Фестиваль» — а я дома пью бразильский.
Подвез меня к высокому берегу. Река — ширь необъятная. И сверкают на стапелях быстроходные катера. У них крылья под водой, а скорости неимоверные; семьдесят километров в час, это по речной-то воде! Все на заводе гордятся нашими быстроходками! Гляжу: не видать ли нашей Наденьки на стапелях?
Да хватит расстраиваться...
Автострада — ну, стрела! Боря разогнался, только машины да цветы мелькают, машины да цветы... Когда подъехали к нашему заводу, я его придержала за руку.
— Подверни-ка, милый, к этому танку.
Он рулем выкрутил. Встали.
— Город ты лучше моего знаешь, Боря, и все его удовольствия. А это что?
— Танк.
— А к чему тут поставлен? Вспомни-ка...
— Сто́ит ли? — улыбается.
По глазам вижу: не знает. В первый раз задумался. Танк боевой, проржавленный. На граните стоит. По углам пирамидки, цепями соединенные. На фасаде надпись медными буквами: обозначены годы войны.
— К тому, что в войну мы танки выпускали, — говорю. — Сколько танков вышло из наших ворот! Нынче ровный асфальт, а тогда танки глубокую колею прорыли, так что мы доски бросали, чтоб через борозды перейти. И шла та колея от нашей слободы до Берлина. Спроси Наденьку — расскажет, где ее мать схоронили. В немецкой Пруссии. Далеко. Не доедешь...
Уже космонавты пошли на седьмой виток, когда мы с Борей возвратились домой. Не успели войти — звонок. Распахнула я дверь, семь девок стоят. И все с чемоданами. А позади всех Смирнов, их бригадир.
— Милости просим, — говорю. —Только Наденьки нету.
Знаю всех. Вместе с моей в куклы играли, вместе работали, вместе учатся, вместе в дальний путь собрались. Отцов нету — научить уму-разуму. А матери по бо́льшей части робкие. Беда.
— Мы, тетя Ксюша, к вам, а не к Наденьке!
— Чемоданы негде сложить? — спрашиваю. — От матерей прячетесь?
Пропускаю их в комнаты, а сама командую Боре:
— Разыщи нашу.
— Я враз слетаю. — Поглядел на Смирнова с усмешечкой. — Ну и молодежь нынче — без тормозов!
Вечереет в комнатах. Радио музыку гомонит. А девки присели кругом меня на своих чемоданах, будто на одну минутку. Сейчас вспорхнут — только их и видели. Смирнов на подоконнике курит.
— С чем явились?
Смеются.
— Благословите, тетя Ксюша!
Благословить легко ли? Думаю: с кем бы посоветоваться? Что скажу сейчас — за что перед их матерями держать ответ.
— Что твоя говорит?
— Одно: плачет, а не говорит.
— А твоя? — спрашиваю.
— Моя тоже плачет.
— И не говорит?
— Ругается: «Малолеток ты, дурочка! Чего вам мало здесь? Ладно бы еще призыв, а то ведь сами, вдруг...»
— А твоя?
— Молча по щекам отхлестала.
— А ты что?
— Я стерпела. А потом тихо спросила: «Что же у вас, мама, слов нету для меня?» Она и заплакала.
— Вот и я плачу, — говорю. — Все дороги перед вами, а вам самую трудную подавай.
Плачу. Льются слезы. И чувствую — крепко меня обнимают. Это Наденька вошла неслышно и тоже плачет.
— А я Борю послала за тобой, — говорю.
— Он сейчас деду капает дрись-ирпин...
Угадала! Только капал он, это я после узнала, не дрись-ирпин, а всякую напраслину деду в уши. Чтобы Наденьку для себя сохранить. Разве ж так делают? Приревновал он ее к Смирнову.
— Вы, Петр Нилыч, заметили, какая ваша Аксинья Ильинична хлопотливая до чужой беды? — говорил Боря деду и поигрывал шоферским ключиком. — Одну семью в жменьку, вот так, собирает — ночей не спит: склеится, не склеится? Другую своими руками врозь распускает. И не дрогнет. Умное сердце.
— Глупее глупого, — ворчал Нилыч. — Чужая беда с ума свела, а по своей тужить некому.
— Это вы насчет чего же?
Молчит. А ведь у самого голубая краска в мыслях.
— Может, вы насчет внучки? — вставил слово Борис. — Наденьку-то с заводу отсылают. В Сибирь.
— Что ты чушь мелешь? Внучку Лобова — с завода?
— На дальние реки. С монтажниками болтаться. Вроде цыган. Катера в разобранном виде доставляют — кто-нибудь должен их на реке собирать? Вот и выбрали безответных... Восемь подружек — все безотцовские. А Аксинья Ильинична от вас скрывает, не хочет беспокоить.
Дед — к телефону.
— Але, але, товарищ Бубрик. Я, извините, кадровый пролетарий! Я в семнадцатом году студентам оружие поставлял по заданию подпольного центра! Так-то, товарищ Бубрик! — А сам аж скрежещет зубами. — Я всю жизнь у станка вкалывал, отработал за детей и за внуков... — Голос ему обида перехватила.
Директор со своей стороны прикипел к трубке.
— Не пойму, Петр Нилыч, о чем вы? Кто вас обидел?
— Внучку! — кричит. — Внучку за что обездоливаете?
— Ах, вот о чем! — подивился Бубрик. — Ну и ну, не ожидал от вас, товарищ Лобов.
— Еще и не того дождетесь! — распалился старый. — Я в Москву напишу! Возьмут вас на карандаш!
Директор молча прекратил объяснения. Мой тоже повесил трубку.
Разошлись девчонки. С песней по лестнице каблучками застучали. Потом песня стала затихать.
Вошла я к внучке. Уже вечер. Свет на тумбочке. Устала Наденька от разговоров, шпильки из пучка вынула, косенки на плечи распустила, сбросила туфельки и легла на мою постель.
Я хожу по комнате, прибираюсь. Наденькин жакет повесила в шкаф. Флакончики переставляю у Зины на туалете. Пыль вытираю, а пыли-то нет, все блестит.
Наденька думает об одном, а говорит о другом:
— Бабка, а бабка, может, они раздумали крестить ребенка?
Я молчу.
— Почему они такие отсталые? — спрашивает. — Те же газеты читают, от телевизора силком не оторвешь... Бабка, а бабка, ты что грустная?
— Э, милая, пока баба с печи летит, семь дум передумает.
Помолчала. Опять говорит:
— Боря говорил: у тебя ключик есть особенный. Да, бабка?
— Много у меня ключей. Целая связка.
— Нет, есть у тебя особенный ключик.
— Это от часов. Дядя Леня оставил.
— Да я не о том... Мне по горьковской «Матери» снова писать. Дед сам ходил в техникум, упросил... — И задумалась.
Уже ночь наступила, вернулся Боря. Я, конечно, им не мешаю шептаться. Села к ним спиной за столом, разбираю Ленины носки: какие целые — в моточки сматываю, какие — штопать. А на стене передо мной целуются тени. Ну, молодежь нынче — без тормозов! Подошла к тумбочке.
— Можно, — говорю, — лампочку вывинтить?
— Зачем тебе? Нам не мешает.
— Не на чем штопать. Лампочки нынче горят недолго, а носки на них штопать удобно...
Сижу, штопаю. Только глаза ничего не видят. Слезы в них, что ли.
Я накинула платок, ключи в кошелек положила — да к двери.
— Аксинья Ильинична, куда вы на ночь глядя?..
— Мне домой пора, — отвечаю.
Когда на душе тяжело, кажется, что все кругом веселятся. Прохожие смеются, качаются ветки на ветру, блестят витрины, машины на перекрестках разворачиваются, будто вальс танцуют...
Вот и задымилось, кружится голова. А я иду, иду...
Наденька потом говорила, как они испугались — куда я ушла ночью.
— Должно быть, к деду? — говорит Боря.
— Не то у нее настроение...
И вдруг Наденьку осенило:
— К маме пошла советоваться!
— Это же невозможно.
— Нет, возможно! Когда трудно, она с ней советуется. Едем!
Ночь кромешная. У заводских ворот — ни души. Корпуса еле чернеются. Только окна горят рядами, будто оранжевые заплатки.
Тяжелый танк на гранитной подставке. «Т» — тридцатьчетверка... Я прижалась к цепи лбом. Постояла. Потом пошла, пошла посреди улицы. В глазах у меня темно. Кажется мне — иду я в танковой колее, по глубокой запаханной борозде. И нет ничего кругом: ни домов, ни улиц, ни фонарей. Черное небо и колея.
Я иду. Не знаю — думаю, не знаю — вслух говорю:
— Катя, доченька, прости меня. Я ж не безвластная. Могла остановить. А вот благословила. Вразуми, вразуми, Катя. Трудно ей будет. Трудно. А тебе разве было легко? Чем же она хуже?
И отвечает мне Катин голос:
— Верно, верно, мама. Ты обернись: тут она...
Качнуло меня. Обернулась. Как сквозь туман вижу: машина идет позади — медленно-медленно. Как же они едут по борозде?
Они как раз подъехали к танку и видят, что я иду и качает меня. Испугались, а боятся остановить, стесняются. Они не могут понять, что под ними-то асфальт гладкий, а я иду по корявой глинистой борозде...
Наконец Наденька выбежала из машины, кричит:
— Бабушка, куда ты?
Тут я очнулась. Села в машину, говорю:
— Можно жить дальше, Везите меня к деду.
Тихонько, на цыпочках вошла я в дом — так тихо, что Нилыч даже не повернул головы. Он, если читает, меня будто и нету. Кошку я покормила в сенях — накрошила ей рыбки в блюдце.
— Сколько же витков они теперь сделали? — спрашиваю Нилыча.
— Отменили, — говорит.
Я обомлела.
— Полет отменили?
— Что ты шлендаешь, — говорит, — туда-сюда, туда-сюда?! Как мальчишка! Читать мешаешь.
— Что отменили, Нилыч? — тихо спрашиваю.
— Юбилей отменили.
— Батюшки!
А самой полегчало. Я уж бог знает что подумала.
— А Вася что ж? — спрашиваю.
— Вася твой, — как лихой татарин в доме, все перевернул, кверху дном поставил, да и был таков!
— Что ты, Нилыч, он человек свой, близкий...
— Ближняя собака скорей укусит!
Я опять не вступаю в спор. Тяжело человеку — унижение... Стала с полу сор собирать. И не верю глазам: толстая папка с золотыми буквами валяется растерзанная, и все грамоты Нилыча, письма заграничные, вырезки из газет — весь почет жизни порван в клочки.
— Что ж ты, Нилыч, наделал! Господь с тобой!
Только я эти слова выговорила, как начал вставать мой Нилыч с высокой своей кровати, как начал вставать! Весь в белом белье, могучий, в плечах косая сажень. А лица нет. Верите ли — нет лица на нем!
— А то, — говорит, — что в доме предательница! От людей узнаю. Дура темная! Темнота сама, так и внучку хочешь без света оставить?!
Я молчу, губы дрожат. Наденька с трех лет на моем попечении, я над своими детьми так не тряслась... А он гремит, он гремит:
— Каверзы это все! Скоро правительство на завод приедет ордена давать за катера. А внучка лягушек будет слушать по сибирским затонам... Хитро придумано! Я про это и директору высказал... И парторгу промыл мозги...
— А они что?
— Этот Бубрик — гад, отменил юбилей. Говорит: антиобщественные настроения! Ну, я ему покажу. Он у меня на карандаш попадет!
Я поднялась с сундучка, на котором присела, тихо говорю Нилычу:
— Пойду во дворик, подышу. От краски, от олифы, что ли, голова разболелась.
Не стала с ним связываться. Жалко его.
На дворе светает. Сирень цветет. Собачка прозвенела цепью, подошла, уткнулась мордой мне в колени. Умная морда. Сижу и думаю. И вроде в небе побежали светлые точки. Уж не они ли над нашим городом летят? Сколько же я сама сделала нынче витков? Пора и спать.
Вдруг Нилыч распахнул окно.
— Завтра же Надьку ко мне! Я ей вихры оттяну, дурь вытрясу!
Тут я встала, глянула на него.
— И не сметь! — говорю. — Думаешь, мне не страшно с Надей расставаться? Так ведь обстоятельства. Слышь, об-сто-ятель-ства! И — концы!
Это он понял. Петр мой... Захлопнул окошко, погасил свет.
Я-то знаю, где Васю по субботам искать. В подвале жилмассива, там у них под баян спевки ветеранов. Мужские голоса — все больше заводские наши, пенсионеры. Женские — домохозяйки из ЖЭКа.
Еще на лестнице услышала — «Комарика» поют. Осторожно приоткрыла дверь, чтобы не потревожить. Вижу: дирижер совсем зашелся, отсчитывает ногой такт, извивается, щепотью пальцы вздымает к лампочке, а как дело доходит до басов, приседает до полу, чуть что не колесом ходит.
— Сдох! — кричит и рукой машет, останавливает. — Это же комар! У него не было хронического заболевания! Он в секунду сдох! А вы тянете! Давайте сначала.
Посреди комнаты сидит на стуле баянист. На коленках бархатная тряпочка, лицо каменное.
Полукругом стулья. Сидят седенькие дамочки с подвитыми челками. Дряхлая старушонка в кофте навыпуск, летом — в валенках: видать, в тесноте мешает родным, вот и приплелась, вот и поет, а голоса не слышно, только беззубый рот разевает. Там, где рояль задвинут в угол, наши старики. Где же Вася? Небольшого росточку, ставят его с краю. Солист. Наградил господь густым басом.
Я его поманила пальцем — выйти. Он помотал головой, показал на свободный стул. Я скользнула в дверь, присела, что с ним поделаешь: любитель.
— А теперь, — говорит дирижер. — «Есть на Волге утес». Прошу вас, Василий Васильевич!
Вася вышел вперед. Гремит могучий бас, и душа у него звенит. Он даже на цыпочки привстал, чтобы голос дохнул из груди... Он и есть могучий утес, пусть и мохом оброс... А поет для одной меня, даже не глядит на палочку.
Дирижер стал в сторонку, любуется. Не поправляет.
Когда кончил Вася петь — верите ли, захлопали. Я тоже... Вася вошел в кураж. Руку мне подает.
— Разрешите нам с Аксиньей Ильиничной, — говорит, — «Куманька» исполнить!
Все смеются, вызывают меня, хлопают — срам какой!
— Иди ты, — говорю, — блажной, честное слово! Дело у меня к тебе. Выйди-ка покурить...
Вышли во двор.
— Ты тут чудишь. А знаешь, что с Нилычем стряслось?
— Как же, — говорит, — очень хорошо знаю.
— Чего ж веселишься?
— Все к лучшему, — говорит. — Соберутся со всей страны твои сыновья и дочери, посидят за родительским столом без регламенту, мать порадуют...
— Ты что, очумел, Вася? С чего это дети соберутся?
Он молчит. Голову закинул, все старается на меня посмотреть сверху вниз, бороденкой трясет — смеется. Так сидим мы во дворе на скамейке. А в подвале спевка. Частушки визгливые:
...Говорила свому деду:
«Ты купи-ка мне «Победу»,
А не купишь мне «Победу»,
Убегу к другому деду...»
— Пойдешь со мной, Вася, к Бубрику? Надо заступиться за Нилыча.
— Я с ним детей не крестил, с твоим Нилычем.
— Так ведь и со мной не крестил, — говорю ему со значением.
— Нилычу твоему я не помощник. Плевать я хотел на Нилыча! У меня родной брат в Стокгольме при советском посольстве работал сапожником и с самим Коллонтаем был знаком! Захочу — завтра же свой нужник выкрашу голубой краской!
— Это ж для меня, — говорю. И даже за руку взяла, в глаза заглянула.
— А он тебе кто?
— Как кто? Муж.
— Деспот он тебе! Домашний тиран! А для людей — костер погасший...
— Врешь! — Я даже кулаком стукнула по скамье. — Он на всю страну гремел.
— Гремел. Только гром-то не из тучи. — И, видно, душит его ярость, расстегнул косоворотку. — Я бы тоже мог греметь...
И снова сидим молча. За дверью — частушки.
И старик мой сгоряча
Подарил мне «Москвича».
Это бесполезно:
Я в него не влезла...
— Пойдешь со мной просить? — снова спрашиваю.
Головой мотает.
— Я не подхалим, чтобы просить да уговаривать. Нет, — значит, нет.
— А ведь было время — просил.
— Кого?
— Меня просил.
Комолов молча встал, пошел прочь. Потом вернулся, руку к груди прижал и высказался:
— Эх, Ксюша! Послушала бы меня, чего бы я достиг! И детей народили бы не меньше...
В тот день директор меня не принял. На следующее утро я его подстерегла на верфи, у стапелей. Он не сразу признал, прищурился.
— Это вы, Аксинья Ильинична? С чем пожаловали?
Взял меня под руку и провел на катер.
А на катере закружили его начальники да мастера — всем до него дело. Он будто и забыл про меня. Только уж я ни на шаг не отстаю. У дверей рубки вспомнил, обернулся.
— Входите, — говорит.
Так мы стоим по две стороны штурвала. И молчим.
— Вы присядьте, — говорит, — Аксинья Ильинична.
— Я и постоять могу. Благодарствуйте.
Вижу, что воспитанный человек, не присядет — я на кончик скамьи уселась. И молчу. Знаем давно друг друга. Свои, заводские, кадровые. Я еще помню его подручным в котельной.
— Зазнался Лобов, — начал директор и брови лохматые почесал ладонью, —гордыня одолела, а время не стоит на месте. Вы-то сами как думаете: надо ехать по затонам вашей Наде?
Я улыбнулась, говорю с расстановкой:
— Я уж бабушкину шаль в комиссионку снесла. И — концы!
— Это зачем же?
— Снарядить на зиму. Разве ж раньше вернутся? Была у меня на дне сундука дорогая шаль, берегла внучке в приданое, да что поделаешь. Там, в Сибири, женихи найдутся — приданого не запросят.
Сказала, а сама платок из рукава тащу: слезы... Бубрик встал, поглядел на меня.
— Неученая женщина, — говорит, — а все хорошо понимаете. Спасибо... А вот Нилычу вашему мы разъяснили. Посоветовались вчера в парткоме. Пусть в разум войдет. Не заслуживает он юбилея. Он рабочий — себя уважает, А то, что других не уважает, — это ему в голову не приходит. Наши девушки-комсомолки едут катера спускать — не на барина работать.
— Вы все сказали? — спрашиваю.
— Всем известно, что успехи вашего мужа готовили за счет целого цеха. Заранее его всем обеспечивали, хотя другим порой не хватало. А другие тоже могли бы работать не хуже.
— Вы все сказали? — снова спрашиваю.
— Всем известно, что было многое дозволено Лобову. И как в цехе он работал, так, говорят, вами теперь помыкает, а сам книжки почитывает. Что, не правда?
— Правда! — говорю. — Он все одну книжку читает — про женщину и социализм. Уж и живем-то мы при социализме, а он дочитывает, чего в молодые годы не успел. На полвека задержался... А почему? А потому, что все к рукам, к рукам его тянулись, — не к душе! Начальство заботилось о личной славе: дескать, смотрите, каких мы богатырей выращиваем, вот какие мы хорошие! Искапризничали человека.
— Это верно, Аксинья Ильинична, — согласился Бубрик.
— А я помню своего Петю молоденьким, — говорю и плачу и слез уже не стыжусь. — Представить не могу, что ему семьдесят... Все кажется — молодой, высокий, черноусый, меня за плечи обнимает, а кругом знамена, портреты, первомайская демонстрация. Никогда не проштрафился, на работе — зверь, всю получку мне отдавал. И не капризный, а добросовестный, самостоятельный... Кто ему, выходит, праздник испортил?..
Постоял Бубрик надо мной. Кликнул парторга.
— Завтра же, — говорит, — Петру Нилычу Лобову юбилей во Дворце культуры. Готовьте грамоту по всей форме. И подарки. Пусть все получит по первому разряду: оркестр, речи и пионерский рапорт.
— Семь пятниц на неделе? — спрашивает парторг.
— Да вот, — говорит, — одна умная женщина меня просветила...
И поверите ли — обнял за плечи, повел по палубе. А я плачу и что-то ему глупое досказываю.
— А как жили? — говорю. — Дети сдобную булочку за гостинец считали... Вы только Петру Нилычу не скажите про наш разговор...
— Не скажу, не скажу, — говорит. — Спасибо вам, Аксинья Ильинична, я что-то понял, что-то сообразил для себя...
А что он понял, что сообразил — кто его знает. Люди ученые, разве их сразу разберешь?
А назавтра, как назначено Бубриком, вошла я в Дом культуры, поднялась по широкой лестнице, села в уголочек, в задний ряд — осматриваюсь. Вижу: почет Нилычу по всей форме, но сердечности незаметно, люди старое помнят. А люстры горят хрусталями, оркестр играет «Дунайские волны» — это с молодости моя любимая музыка.
В президиуме лучшие люди завода — Большаков Илья в железных очках, на учителя похож, на груди два ордена Ленина. Калмыков Филипп прямо с постели приехал на чествование, уши от болезней, что ли, распухли, как лопухи. Глухой как пень. А спасибо ему: захотел принять участие, не послушался докторов. Комолов Вася в новом костюме. Орденов не повесил, только планочка пестреет на лацкане. Издали руками разводит, будто спрашивает меня, а о чем — не пойму. Все кадровые, на заводе не менее тридцати лет отгрохали. Разглядываю стариков, забылась, а передо мной — царица небесная! — Бубрик, с парторгом.
— Вы, Аксинья Ильинична, очень неудобно сидите. Пойдемте вперед.
Это, конечно, Бубрик ухаживает по-вчерашнему. А парторг поясняет:
— Мы вас в президиум пригласим, так вам на сцену будет проще пробираться.
И повели меня, как архиерея, под ручки в первый ряд. В жизни такого почета не знала. Только юбку я расправила, платочек из рукава потянула, смотрю — Нилыч ко мне со сцены склоняется.
— Забыл очки, — шепчет. — Ответное слово три дня сочинял, а читать не смогу.
— Ах, батюшки мои, что же делать?
— Поезжай домой, — говорит. — Одна нога здесь, другая — там.
— Буду, сейчас буду, что тут за расстояние...
Вот, думаю, и посидела в президиуме. Может, кому только и приятна вся эта музыка — и ту услали.
Вечер субботний.
Бегу, а глаза сами смотрят — люблю нашу слободу в вечерний час! Остролистые клены, еще молоденькие... Ремесленники возвращаются из бани — песни поют. Цыганка-гадалка меня догоняет — только не может догнать, плюнула и пошла прочь... Комендантский патруль шагает... Я подбежала к стоянке такси. Народу не так-то много, а все больше выпивши.
— Кто последний? — спрашиваю.
А парень, такой с виду бравый, только глаза у него от винища стоячие, отзывается:
— При советской власти нету последних! Пр-р-рошу не оскорблять!
Что ты скажешь... За меня другой вступился, тот, что сзади встал. Этот вовсе на ногах не держится.
— Прошу вас, мадам! Даме — первое место!
С ним — в драку! Машина подкатила. Шофер видит пьяных — и ходу. А у меня земля под ногами горит: Нилыч ввек не простит, если опоздаю. У пьяных же спор завязался:
— Человек человеку — волк!
— Врешь! Человек человеку — собака!
Разве ж это молодежь?! Я, конечно, в спор вмешалась.
— Человек человеку — друг, — говорю. — Друг и брат.
Не слушают. Куда там — сцепились.
Кое-как добралась до дому. Глянула на окна — схватилась за сердце. Всюду свет. Неужели воры? У калитки знакомая машина.
— Ох, и не вовремя ж вы! — кричит Боря.
— Опоздала?
— Нет, рановато, Аксинья Ильинична.
Я — бегом по двору. Распахнула дверь — глазам не верю: во всю галдарейку расставлены столы, покрыты белыми скатертями. И цветы, и бутылки, и приборы... А самое главное — накрывают Зиночка и Машенька! Невестки мои.
В дверях Леня и Сеня стоят, покуривают. А Колюшка, младший мой, богатырь, геолог бородатый, несет миску с винегретом. Я на него набежала, потянулась поцеловать и стою перед ним на мысочках.
— Мамочка! Спасибо тебе — собрала...
Все меня окружили, целуют. И внучат полный дом — бегут с вилками, с рюмками, с ножами.
А Наденька топает ногой:
— Что ж ты, бабушка, всю музыку испортила! Мы еще ничего не успели...
Ну, думаю, не гуляла ни в рождество, ни в масленицу, а привел бог — в великий пост. Я кого за плечи, кого за уши схвачу и всем в глаза гляжу да не могу наглядеться. И вдруг вспомнила:
— Очки Нилычу!
Заметалась по комнате. А они в книжке Бебеля заложены. Я кричу детям:
— Я в секунд, сейчас, что тут за расстояние...
— Что вы ему — девочка на побегушках? — это Машенька сказала, решительная такая, кого хошь локтями растолкает.
А Колюшка деликатно так замечает:
— Мы ведь, мама, по сути дела, на денек собрались. Только с самолета — к отцу опоздали, дай хоть на тебя поглядеть.
— Лучше подите причешитесь, — говорит Зина, — как вас сыновья раскосматили...
— Правда ваша, — говорю им, — что-то сердце у меня прихватило, бегать-то сейчас ни к чему.
И вот стою перед зеркалом, орешек свой на затылке закалываю шпильками — головка гладенькая, перышки рябеньки. А в голове — мираж. Разве такое бывает?! Это все Наденька устроила — сама уезжает, так всех собрала.
Надела старинное платье с баской, с гипюровой вставкой. В таких-то платьях, бывало, с Васей Комоловым на маевках пела. Лица-то не переменишь. Ну, да ладно: хоть дурно, да фигурно. Время меня не сгорбило, это порода такая. Наша деревня под Уренью почти вся была староверская, и я всегда замечала: староверские старухи ужас какие прямые.
Дом ходуном ходит, а я не спешу. На кровати разложила я кофту вязаную. Леня ее привез из Праги. И мамину шаль старинную — шань-жань, из фиолетового в зеленый переливается. Никак не решусь, что выбрать. То на себя взгляну в зеркало, то на кровать. Взялась было за кофту, да бросила. К чему эти моды? Мне старинное больше к лицу.
И слышу: шуму прибавилось. Ах, это Нилыч домой вернулся. В щелку поглядела — господи! Впереди Вася заметно под мухой, позади Бубрик с парторгом. И, точно туча, Петр Нилыч в дверь ко мне.
— Вот радость у нас! — лепечу. — Гости дорогие!
— Без очков не вижу, — говорит. — Что это ты, как молоденькая, вырядилась?
Что ему ответить?
— Это ты верно сказал, грех в мои годы о нарядах думать. Только... Захотели нас дети порадовать, устроили семейный праздник, так и я их срамить не должна... Это уж обстоятельства, Нилыч. Слышь, об-стоя-тель-ства... И — концы!
Накинула шаль на плечи да и поплыла мимо него на галдарейку. В дверях с Зиночкой встретилась, та несет блюдо с кулебякой.
— Как у вас? — шепчу. — Сладилось или не сладилось?
По лицу-то вижу, что и ответа не нужно. Она и не ответила, только поцеловала.
— Спасибо вам за все.
— И ладно. Склеенный горшок два века живет.
На галдарейке все уже за столом рассаживаются. Шумно, весело...
Вася Комолов распоряжается вином. Меня увидел — ручкой махнул. И тут-то меня осенило! Исполнил мое желание! Однако виду я не показала — села рядом с Нилычем, как положено.
Только угомонились, встал Колюшка с бокалом:
— Первый тост за мамашу.
И началось! Сколько было говорено, до смерти не переберешь.
Встал и мой Нилыч. Он, конечно, чуточку обескуражился, а с другой стороны поглядеть: все-таки в дом почет, не из дому.
Среди шума и гама слышу — посуда на пол летит. Это Наденька ко мне потянулась да разбила тарелку.
— Бабушка, я про тебя в сочинение вставила, и ничего — учитель не вычеркнул.
Вижу, и Ниночка мне улыбается. Она с малюткой пришла и в уголке уселась, как бы он ненароком не помешал. Я к ней на стул подсела, в уголке хорошо. Стушевалась и сижу. Обо мне, слава богу, забыли. Не тут-то было. Наденька через весь стол Василию Васильевичу кричит:
— Что же вы молчите? Поклонник!
Он даже вздрогнул. Начал, а язык не вяжет.
— Она, — говорит, — Аксинья... Ах, зачем эта ночь так была хороша!..
И голову уронил на руки. Ну, что теперь дети подумают?!
— И хороша она не была, — говорю. — И ночи не было, все это винный туман...
Дети заметили, что отец ревнует, стали кричать:
— Горько! Горько!..
Вася сторонкой — в дверь.
— Ты куда, Вася? — шепчу ему тихо.
— Покурить выйду.
Смех и горе. Мы с Нилычем целуемся, а все уже из-за стола повставали, танцуют, поют, хохочут... Дым коромыслом идет. И так до рассвета...
Вышла я во двор. Наденька с Борей под сиренью стоят. Он ее обнял, хочет в губы поцеловать, а она отворачивается да его же словами дразнит:
— Сто́ит ли?
Ну, молодец девка.
После всех уходили Зиночка с Машенькой.
Машина у ворот дожидается, а они все в сенях толкутся.
— Вы, мама, посуду не трогайте, — говорят, — мы утром приедем, всю перемоем, вам одной не справиться.
В доме Петр Нилыч уже вынимает из таза ноги, трет мохнатым полотенцем. Кончилось празднество. Я на кухне тарелки перемываю, ножи-вилки в песке чищу. И улыбаюсь. А чему — и сама не пойму. В открытую дверь видно: уснул Нилыч. Он когда спит, ну, прямо святые мощи в лавре! Руки по швам, на спине почивает.
А я окно опять распахнула — дышу сиреневым запахом. И никак губы не могу собрать. За всю-то жизнь, может, один такой пир горой выдался. И вдруг чувствую, кто-то уставился на меня. Наклонилась — и верно, голова показалась в окне. Страх какой! Всмотрелась — Вася Комолов. Рассердилась:
— Что за шутки! Умнее не придумал?
— Кепку забыл. — Глядит на меня и улыбается. — Все разбежались?
Блаженный какой-то! А как на него сердиться?
— Хмель-то сошел? — спрашиваю.
Махнул рукой и тихонько запел:
Я вечо́р молода, во пиру была,
Во пиру, во пиру, во беседушке...
Волосы взъерошил, положил голову на подоконник, смотрит на меня. А я гляжу: кепка-то у него в кармане. Обманул? Удивительно все-таки, как люди стареют по-разному.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





