ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна

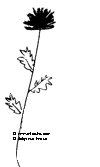

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Смирнова Вера 1963
Я расскажу вам про маленьких девочек из Советской страны, про моих милых девочек, с которыми я когда-то прожила вместе целых три года.
Мы жили тогда в Киеве, в одном из самых красивых наших городов. Это было давно, когда в городе было больше извозчиков, чем автомобилей, когда в нашем доме еще не говорило и не пело радио, когда люди только учились делать самолеты, а первые космонавты еще не родились на свет...
Вот как давно это было!
Но время было хорошее, горячее время. На всей советской земле кипела работа. Строились новые заводы и фабрики, дома и школы, мосты через реки и новые дороги. Советские люди дружно работали, хотели жить мирно и счастливо. И мы тоже жили дружно и весело.
С нами постоянно случались всякие приключения, и я их понемножку записывала. Из этих записок и получилась теперь эта книжка.
В этих маленьких историях, которыми полна книжка, все правда. Все это было на самом деле. И улицы, и дома, и происшествия, и люди, и, конечно, сами девочки, даже их имена — все настоящее.
С тех пор прошло почти сорок лет. Маленькие — выросли, взрослые — состарились. А иных уже нет на свете.
Но вспомнить начало жизни — хорошее, доброе детство — приятно, немножко смешно и даже поучительно. Вот почему я вам рассказываю про моих девочек.
Я хочу, чтобы и вы подружились с ними.
Вера Смирнова
УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 36, КВАРТИРА 9
Извозчик ехал по улице, которая то поднималась круто в гору, то катилась куда-то далеко вниз. Копыта лошади громко цокали по неровным камням мостовой. Лошади трудно было бежать под горку, и все время казалось, что она сейчас упадет и коляска, в которой мы сидим, с разбегу навалится на нее. Иришка крепко стискивала мне руку и прижимала к себе свою куклу.
Наконец извозчик остановился у шестиэтажного красно-коричневого дома. Мы вылезли, вытащили чемодан, дорожную корзинку и Иришкину желтую лубяную коробку с игрушками.
— До свиданья! — сказала Иришка извозчику и помахала рукой.
Большая черная дверь открылась, выглянул лысый толстенький человек в белом халате.
— Скажите, пожалуйста, это дом тридцать шесть?
— Совершенно верно: улица Ленина, номер тридцать шесть. А вы к кому?
— Мы к Анке-Аленке, — сказала Иришка быстро.
— В девятую квартиру, — добавила я.
Лысый толстяк улыбнулся:
— Эти девочки мне знакомы. И родителей их знаю. Всех их стригу — по крайней мере, раз в месяц обязательно. Наша парикмахерская — второй этаж налево; если нужно будет, заходьте, будь ласка! А квартира девять — на самом верху. Только, кажется, они в отъезде. Работают в Одессе.
Я сказала:
— Да, мы знаем, Алексей Максимович и Александра Васильевна уехали. Но девочки должны быть дома...
— Мы вот и приехали, чтобы им не было скучно одним, — объяснила Иришка.
— А-а... — сказал парикмахер, — это вы хорошо надумали. Так пожалуйте. Вверх по лестнице — до самого конца.
И он придержал рукой дверь, пока мы входили.
Лестница была высокая-высокая. Сначала мы поднимались в темноте, потом стало светлеть и светлеть.
А когда мы переступили последнюю ступеньку и остановились отдышаться, Иришка подняла голову и удивилась: прямо на нее глядело темно-синее небо, сияло солнце и облака, точно хлопья ваты, летели совсем близко над нами.
— Мама, — сказала Иришка, зажмурясь, — почему здесь окошко прямо наверх — на солнце?
— Это не окошко, это стеклянная крыша, — объяснила я. — Видишь, лестница здесь кончилась, и мы с тобой высоко, под самой крышей... Как тут светло и жарко! Можно принимать солнечные ванны. А вот и девятая квартира...
Я позвонила. Раздался топот ножек, тоненький голос спросил:
— Кто тут?
— Откройте, девочки, — сказала я, — это мы с Иришкой.
За дверью подпрыгнули, засмеялись, закричали: «Пашенька!» Снова послышался топот ног — убегавших, потом стук снимаемой дверной цепочки. Дверь отворилась.
Нас встретила миловидная маленькая женщина в белом платье с лиловыми цветочками, в опрятном фартуке.
— Здравствуйте, Паша, — сказала я. — Вот мы и приехали.
— Мы вас с утра ждем, — улыбаясь, сказала Паша, беря у меня чемодан. — Девчонки аж очумели...
Я огляделась: где же девочки?
За дверью слышался сдавленный смех и громкий шепот:
— Перестань сейчас же хихикать!
— Что же вы прячетесь? — сказала Паша. — Ждали-ждали, а теперь и не кажутся.
И она распахнула дверь, за которой, чинно держась за руки, стояли девочки: высокая, худенькая, бледная, светлоголовая и светлоглазая — Анка и маленькая, коренастая, розовощекая, с темными кудрями, смуглая, как итальянский мальчик, — Аленка.
Анка от волнения совсем побледнела и рот слегка открыла, и в ее соломенных волосах дрожал смешной маленький розовый бантик. Аленка спряталась за Пашу, просунула голову ей под мышку и все время хихикала.
Иришка, как вошла, остановилась у двери, стояла, «как пенек», и только безжалостно крутила правой рукой большой палец на левой, что было у нее признаком полного замешательства.
Так они стояли и смотрели друг на друга.
Аленка первая осмелилась, высунулась из-за Паши и спросила сладким голосом:
— Ира, а ты умеешь говорить букву «р»?
Сама она сильно картавила.
— Нет, — сказала Иришка, запинаясь, — я еще не умею говорить «р». Я только один раз нечаянно сказала «бррюки».
Аленка засмеялась с явным облегчением.
— А Аня умеет — она знает все главные буквы.
— Ну, поцелуйтесь, — сказала Паша.
Девочки неуклюже взялись за руки и по очереди столкнулись носами.
Все засмеялись, и мы пошли осматривать квартиру.
Это была очень забавная квартира. Из передней в столовую надо было спускаться по ступенькам. Столовая была очень низкая, темная квадратная комната с выходом на балкон. Балкон как будто вступал в нее, занимал целый угол, и этот выступ был огорожен с двух сторон стеклянными стенками, так что получалась длинная стеклянная кабина, вроде будки рулевого на пароходе.
В столовой стоял огромный старый-престарый буфет, круглая чугунная печка на трех ножках и два стола: посредине — большой для больших, а маленький для маленьких — у стеклянной стены балкона. Вокруг большого чинно стояли тяжелые резные стулья с высокими спинками; пять низеньких трехногих табуретов валялось около детского столика.
В детской комнате стояли рядом две короткие деревянные «раскладушки» — без спинок, без сеток. Анкина-Аленкина мама видеть их не могла — боялась, как бы девочки ночью не свалились на пол, но Алексей Максимович говорил, что детям надо привыкать ко всему. У окна, отдельно от всех, под вязаным кружевным покрывалом важно возвышалась Пашина «настоящая» кровать с блестящими шариками на спинках, с периной и подушками разной величины.
А по углам — на полу, в ящиках и коробках — жили игрушки.
За дверью столовой начинался длинный коридор, с окошком в конце, на котором всегда сидели нахохлившись какие-нибудь птицы.
В коридоре справа и слева были двери. Дверь направо вела в кухню и в комнату, где жила соседка. Дверь налево вела в «ванную». Это была таинственная комната. «Ванной» ее называли, наверное, только за то, что там хранилась большая оцинкованная ванна, которую по субботам с громом и грохотом таскали на кухню — купать девочек, В «ванной» были сложены дрова и старые вещи, от которых пахло сыростью. Здесь всегда было темно, крошечная лампочка еле светилась у входа. Единственное маленькое оконце было подъемное, как в вагоне поезда. Но от сырости или от старости рама разбухла, и поднять ее не было сил даже у Алексея Максимовича. Стекло в этом оконце было красное, и сквозь него ничего не было видно.
— В нашей квартире было раньше кино, — важно объясняла нам Анка. — В большой комнате снимались актеры, а в ванной, при красном свете, смотрели, хорошо ли они вышли на пленке...
Самым приятным местом в квартире была, конечно, «большая комната». Она была просторная, почти пустая. Пол в ней был желтый-желтый, блестящий и скользкий, как лед, потолок — весь стеклянный, а за ним совсем близко виднелась крыша, тоже из стекла, как на лестнице.
Между стеклянным потолком и крышей был приделан белый матовый шар, а в нем спрятана электрическая лампочка. Когда ее зажигали, в большой комнате разливался приятный ровный и мягкий свет. Девочки называли это «большой свет». Но чаще всего здесь было светло и тепло от настоящего солнца; даже зимой, в ясные дни, оно сильно нагревало комнату. Только когда целую ночь шел густой снег и к утру засыпал всю стеклянную крышу, точно ее накрывали толстым белым одеялом, в большой комнате становилось темно и приходилось даже днем зажигать «большой свет».
В большой комнате почти не было мебели. Алексей Максимович говорил, что в квартире не должно быть лишних вещей. Только большой диван, низкий и широкий, в суровом полотняном чехле, занимал целый угол, да у стены стоял маленький столик с книгами. Зато посреди комнаты, прямо под «большим светом», гордо стоял на трех ножках огромный длинный рояль, черный и блестящий, и перед ним круглый стул на одной только ножке. Это был очень смешной стул: он мог крутиться вокруг самого себя, вытягивать свою единственную ногу и то подниматься вверх, когда за рояль садилась Аня, то опускаться вниз, если собирался играть Алексей Максимович. Очень удобный стул!
— А вот здесь... — сказала Паша, открывая напоследок дверь из столовой в маленькую треугольную комнатку, — здесь для вас приготовлено жилье. Можете устраиваться. Вот вам диван для спанья, столик для писания, вот кроватка для Иришки.
— Я думаю, Иришке лучше быть вместе с девочками, — сказала я. — По-моему, там у них поместится еще одна раскладушка...
Иришка посмотрела на меня с удивлением и надула губы: мы с ней еще никогда не разлучались и спали всегда в одной комнате.
— Девочки, вы принимаете Иришку к себе?.. Да? Ну, вот и чу́дно! Я буду жить здесь и писать свою книжку. А вы будете все вместе. Будете спать рядышком и ходить ко мне по всяким делам и просто в гости. Давайте сейчас же перенесем Иришкины вещи в вашу комнату!
И в пять минут Иришку с ее раскладушкой, с желтой лубяной коробкой, с мячиком и тряпочной куклой поместили в комнате девочек — между Аленкой и Анкой.
КТО СКОРЕЙ ОДЕНЕТСЯ
Сквозь сон я чувствую, что кто-то осторожно, но настойчиво старается открыть мне глаза. Слышу шепот и хихиканье: «Просыпается... просыпается...»
Просыпаюсь, смотрю: девочки, в одних рубашках, босые, стоят около моей постели и хитро улыбаются.
— Мы ждали-ждали, а ты все спишь, — сказала Иришка. — Мы подумали, что надо тебя разбудить.
— Разве так будят? Могли бы глаза выколоть.
— Нет, мы тихонько, — сказала Анночка, — мы — двумя пальчиками.
— Ах, смешные девочки! И разве можно босиком бегать по полу! Простудитесь... Ну-ка, лезьте сюда!
Девчонкам только того и надо было: мигом влезли на диван. Иришка забралась под одеяло, Анка села в ногах, Аленка стала прыгать и приговаривать:
Раз, два, три, четыре!
Мы живем в одной квартире:
Анка-банка, Ирка-дырка, Алена-Кручена...
Бух!!
— Алена! У меня все косточки трещат! — говорила я.
Но девчонки только хохотали и совсем затормошили меня. Мы так расшумелись, что из кухни явилась Пашенька.
— А я-то думаю: что за возня? Ай-яй-яй, как не стыдно — не дали тете Вере поспать! А ну, марш одеваться! Довольно возиться.
— А мы хотим возиться! — закричали девочки.
— А мне пора вставать, — сказала я и спустила ноги с постели. — Ну-ка, кто скорей оденется?
Ах, какая это трудная задача — одеваться! Легко надеть трусики. Даже платье, если голову просунуть в воротник и руки вставить в рукава, надевается довольно быстро. Но вот — застежки! Каждая пуговица должна влезть в свою петельку; перепутаешь — просто смех что получается. Еще хуже крючки. Крючок зацепится за материю — и сразу дырка. Хорошо еще, если застежка спереди, а если на спине? Тут уж совсем трудно управиться: ведь на затылке глаз нет, как говорит Пашенька. Приходится поворачиваться друг к другу спиной: «Аня, застегни... Пожалуйста, будь ласка... Иришка, ты не щекочи — ты застегивай...»
Но больше всего возни с ботинками. Особенно если только что куплены новые высокие кожаные ботинки: не на пуговках, как раньше, а как у взрослых — на шнурках, которые надо просовывать в дырочки крест-накрест, затягивать и потом завязывать крепко в два узла. Приходится попыхтеть Иришке с Аленой.
У Аленки от усердия сразу отрываются железные кончики со шнурков, и она мусолит-мусолит их, сует в дырочки куда попало и, совсем запутавшись, говорит с отчаянием:
— Никак! Тетя Вера, никак!
И жалобно протягивает мне ногу.
Иришка же ни за что не позволит зашнуровать ей ботинки.
— Сама! — говорит она решительно. — Сама!
Ей нравится продевать шнурок в дырочки, и она терпеливо пыхтит — трудится. Сначала она делала это так долго, что у Паши терпение лопалось: девчонки уже давно умылись и завтракать сели, а Иришка все пыхтит. Пашенька ее торопит, и тогда Иришка в незашнурованных ботинках убежит ко мне в комнату, чтобы ей никто не мешал, сядет на пол и доведет дело до конца. Зато она так научилась шнуровать ботинки, что стала умильно предлагать Алене:
— Хочешь, я тебя зашнурую в одну минуту?
Анка смотрела на эту возню презрительно: подумаешь — шнурки!
Анночка у нас уже большая — умеет сама застегивать пуговицы, даже с крючками справляется. У нее уже настоящие перчатки (не домодельные рукавички, как у Алены) — с отдельными помещениями для всех пяти пальцев, и она ловко всовывает каждый палец на свое место, а это не так-то просто — пальцы так и лезут по двое куда не полагается. Зашнуровать ботинки для Анночки — пустяки. И вообще, она одевается сама уже давно и, конечно, всегда готова раньше всех.
Но, хотя Анка уже большая, она все же не достает до вешалки в передней. Может быть, поэтому, когда девочки возвращаются с прогулки и мы с Пашей раздеваем маленьких, Аня идет одетая прямо в столовую, разом расстегивает все пуговицы на пальто, шевелит плечами — так, что пальто сваливается с нее на пол, мотает головой — и шапка послушно летит туда же. Потом Аня зубами стаскивает с пальцев перчатки — и перчатки падают на шапку. Аня крутит головой: разматывает шарфик с шеи — и тоже на пол. Тогда Аня спокойно перешагивает через эту кучу и первая, раньше всех, бежит играть в большую комнату.
Я очень удивилась, когда увидела эту картину. Пашенька хотела поскорей поднять с пола Анкину одежку и отнести на вешалку в переднюю. Но я позвала Анночку и спросила:
— Что это такое?
— Что ли, ты не видишь, тетя Вера? Пальто! — удивилась девочка.
— И больше тут ничего нет?
— Ну, шапка, шарфик, — сказала Анка запинаясь.
— Нет, — сказала я, — я тут вижу еще что-то очень нехорошее. Мне даже противно на это смотреть.
Прибежали Иришка и Аленка и смотрели с любопытством то на кучу на полу, то на меня.
Анка нахмурилась.
— Ничего тут нет особенного! — сказала она.
— Хорошо, — сказала я, — если тут ничего нет плохого, оставим все так, как есть. Пусть это все тут и валяется до завтрашней прогулки. Пойдемте, девочки!
И я, как Аня, небрежно перешагнула через лежащие на полу вещи и пошла к себе. За мной Иришка — раз! — и перепрыгнула через кучу. Аленка шагнула, споткнулась, упала — и давай валяться на Аниной одежде.
Анка вдруг вспыхнула:
— Сейчас же слезай с моего пальто, Кручена! — и стала вытаскивать из-под Алены свои вещи. Потом она сказала виноватым голосом: — Пашенька, повесь, пожалуйста, я не достану до вешалки!
За обедом Иришка спросила меня:
— Мама, а что ты там еще увидела на полу?
Я засмеялась:
— Угадайте! Анночка, наверное, уже догадалась.
Паша сказала, разливая суп по тарелкам:
— Лень-матушка там валялась.
Анка наморщила лоб и положила ложку.
— Нет, — сказала я, — знаете, что мне вдруг представилось?.. Что было бы, если б все люди вот так сбрасывали свою одежду прямо на пол, на землю, куда попало?.. В школе, например? Все коридоры завалены — тут валенки, там галоши валяются, шубы, шапки... Вот уроки кончаются, ребята выбегают из классов, все ищут свою одежду — да где уж! Крик, шум, свалка — кому пуговицы оторвали, кто галоши перепутал. И все говорят: это Аня так придумала!
Аленка с Иришкой захохотали. Анка тоже засмеялась, потом сказала:
— Нет, я такого не придумывала.
— Ну конечно, я пошутила, — сказала я. — А все-таки, девочки, надо нам что-нибудь придумать, чтобы больше не было такого безобразия.
— Алексея Максимовича нет, — сказала Паша, — он бы придумал! Он умеет с девчонками управляться!
— С папкой хорошо! — вздохнула Алена. — Он как пойдет в коридор чистить ботинки, — мы за ним. Он нам тоже дает тряпочки. И мы чистим-чистим — до блеска!
— Придется нам самим что-то сделать, — сказала я. — Давайте вобьем в передней под вешалкой три гвоздика пониже, чтобы девочки сами могли повесить свою одежку, каждая на свой гвоздик. Как в детском саду. Так просто, оказывается! Правда, девочки?
И мы пошли на кухню искать молоток и гвозди.
БЕДНЫЙ КУК
Наш знакомый, Владимир Николаевич, учитель, жил под Киевом в деревне. Когда он приезжал в город и приходил к нам в гости, он рассказывал девочкам интересные истории: отчего идет дождь, из чего сделаны снежинки, что едят бабочки, откуда берутся на деревьях каждый год новые листья, как поживает зимой медведь и как вырастают в поле хлеб и гречневая каша.
Маленького роста, черный, как жучок, задумчивый, тихий, он неторопливо ходил из комнаты в комнату и всегда находил что-нибудь для починки-поделки и потихоньку все чинил и делал. Он умел свистеть, как птицы; говорил, что летом все должны ходить босиком по теплой земле и что в каждом доме должно быть что-нибудь живое.
— Что это за дом у вас? — ворчал он. — Ни одной живой твари нет! Ни собаки, ни кошки даже... Хоть бы рыбок завели... Скучный дом!
Однажды он пришел торжественный и хитрый.
— Ну, радуйтесь, девчонки, — сказал он, — прыгайте и скачите! — и вынул из-за пазухи живую белочку. — Вот вам лесная подруга!
Белочка была ростом с Иришкиного игрушечного зайца, ярко-желтая, с белой грудкой и белыми лапками и совсем дикая — шарахалась от каждого ласкового слова, а когда Аленка захотела ее погладить — вырвалась из рук и моментально очутилась на буфете. Она скакала и прыгала по всем комнатам целый час, пока Владимир Николаевич рассказывал, как надо с ней обращаться и чем кормить ее.
— Придумайте ей кличку, — сказал он. — Она привыкнет и будет отзываться на нее. Ну-ка, считаю до пяти: кто скорее придумает, как назвать нашу белочку?
Анка только еще лоб наморщила — подумать; Иришка только успела рот раскрыть; Аленка уже придумала:
— Кук!
— Славное имя, — сказал учитель. — Когда-то жил-был знаменитый Кук — путешественник. Ну что ж, пусть будет Кук!
И послал нас на кухню просить у Пашеньки старую корзинку из-под картошки. Корзинку вымыли, высушили, обложили ватой и устроили белке гнездо за печкой в большой комнате.
Когда смерклось, белочку поймали, напоили теплым молоком — она была еще малый детеныш, — уложили в постельку, прикрыли прошлогодней Аленкиной шубкой и ушли: наш учитель сказал, что белки рано ложатся спать.
За ужином девочки обсуждали будущую жизнь Кука: как он вырастет, станет большим, толстым и совсем ручным, народит бельчат, которых надо будет подарить по одной штучке тете Коте и нашей знакомой девочке Мухе. А одного Иришка непременно решила отослать отцу, который работал далеко на сахарном заводе и очень скучал без нас.
Владимир Николаевич давно уже уехал в свою деревню, и Пашенька сердилась, говорила, что девчонки совсем распустились, что давно пора умываться, но девочки все никак не могли успокоиться. Они умылись кое-как, простились со мной небрежно, и долго еще в детской слышался шепот и мелькали белые тени в темной столовой: это девочки в ночных рубашках, босиком, украдкой, по очереди, бегали в большую комнату — послушать, как белочка дышит.
В самом деле, было очень приятно чувствовать у нас в квартире живое существо другого — не человеческого — рода.
Но учитель наш не знал, а мы совсем позабыли: в нашем доме давно уже водились звери — страшные и злые. По вечерам, как только в комнатах гасили свет и люди ложились спать, в стенах и под полом раздавалось шуршание, грызня. Как ни забивали щели, как ни закладывали дыры в полу битым стеклом и кирпичами, острые зубы быстро все прогрызали, и большие крысы гуськом выходили в столовую на охоту.
Они вмиг подбирали все крошки под детским столом и взбирались на стулья, а с них на большой стол.
Глупые девочки! Они не закрыли дверь в большую комнату, когда в последний раз ходили посмотреть на Кука. И вот случилась очень печальная история.
Ночью Кук проснулся, услыхал возню. Он был любопытен, как все дети, никогда не видел крыс и не знал, что это за звери. Он сейчас же поскакал на разведку в столовую. Как только крысы его почуяли, моментально началась погоня. Кука спасло то, что он умел прыгать, но он был еще очень молод и один, а крысы были старые, опытные охотники, и их была целая стая. И вокруг не было ни одного дерева, по которому можно было бы взобраться высоко-высоко и спрятаться.
Кук вскочил на буфет, сжался в комочек и весь дрожал от ужаса. Крысы царапали буфетные дверцы, лезли за ним и неистово пищали.
Я услышала этот писк сквозь сон и почувствовала что-то неладное. Накинула платье, распахнула дверь в столовую и зажгла свет.
Крысиная стая с визгом умчалась в коридор и скрылась в темной ванной.
Бедный глупый Кук, перепуганный электрическим светом, шарахнулся с буфета и тоже поскакал в коридор. Я звала его и манила к себе, но он боялся и меня и юркнул, себе на погибель, в угол ванной.
Я закричала, разбудила Пашу; мы побежали в ванную, бросали в крыс поленьями и наконец отняли у них бедного Кука.
Он уже не рвался из рук, только весь дрожал мелкой дрожью и жалобно повизгивал, и плечо у него было прокушено острыми крысиными зубами. Мы стерли ваткой кровь и помазали ранку йодом, положили белку в корзинку и оставили до утра в моей комнате.
Утром девочки пришли посмотреть на Кука. Он лежал на боку, полузакрыв глаза, и дышал так прерывисто, что страшно было слушать.
— Кто-то вчера оставил открытой дверь в большую комнату, — сказала я с упреком, — и вот теперь наш Кук болен.
Но тут все три девочки стали так горько плакать, что я поскорей прибавила:
— Я думаю, придется отправить его в больницу.
Хотя я знала, что укус крысы очень опасен не только для крошки-белки, но и для большого человека и что во всем Киеве не было лечебниц для белок.
Что было делать с Куком? Я позвонила нашему знакомому охотнику. Он сказал:
— Ну, разве можно бельчонка — лесное дитя — заставлять жить в городской квартире, с людьми, которые не имеют никакого понятия о лесной жизни? Только мучить бедного звереныша! Ну ладно, сейчас я приеду с Джеммой.
Я не знала, кто такая Джемма, но сказала радостно:
— Пожалуйста, приезжайте! А то девчонки ревут, и очень жалко бедного Кука.
Девчонки ежеминутно бегали то в мою комнату — посмотреть на больного Кука, то в переднюю — послушать, не приехал ли охотник.
Скоро мы услышали какую-то возню на площадке, урчание, сопение и голос:
— Спокойно, Джемма.
Открываем дверь — и даже отпрянули все: вошла громадная пестро-серая собака, ростом чуть не с наших девочек. Войдя, она с таким шумом вздохнула — втянула в себя воздух, что Иришка даже зажмурилась, как от ветра. Собака остановилась и оглянулась на хозяина. Высокий, широкоплечий, бородатый дядя в кожаной куртке и высоких сапогах кивнул ей головой и сказал:
— Знакомьтесь, это моя Джемма! Дог. Чистая порода. Две золотые медали... Джемма, это свои, отнесись по-хорошему.
Мы ничего не поняли про медали (уж потом только узнали, что охотничьих собак показывают на выставке и лучшим из них выдают дипломы, почетные грамоты и золотые и серебряные медали) и поскорее отступили из передней в столовую; Джемма миролюбиво помахала хвостом, зевнула и пошла за нами. Девчонки завизжали и со всех ног бросились в детскую. Но собака не обращала на них никакого внимания. Широко шагая своими большими лапами, стуча, как лошадь, она обошла вокруг обеденного стола и пошла в коридор. Там она остановилась у двери в ванную, подумала, поцарапала дверь лапой, открыла ее и вошла.
— Правильно, Джемма, тут и ищи, — сказал охотник.
Джемма насторожила большие острые уши, с шумом улеглась на полу посреди ванной и затихла.
Мы показали охотнику нашего Кука. Он свистнул и сказал:
— В лес, в лес его отправить, пока не поздно! Ладно, я его забираю, девочки. В лесу он поправится, — и подмигнул мне.
А девочки обрадовались.
Потом охотник стал нам рассказывать про Джемму. Оказывается, собаки великолепно охотятся за крысами.
— Крысы даже духа Джеммы не выносят, — сказал Джеммин хозяин. — Я, пожалуй, оставлю ее вам здесь на ночь — она всех крыс ваших разгонит.
Но мы немного испугались: страшновато было остаться одним с этой громадиной.
— Эх вы, трусихи! — засмеялся охотник. — Да моя Джемма умна, как человек... нет, не как человек, а как настоящий породистый пес. Ну ладно, сейчас мы с Джеммой заберем вашего бельчонка и уедем...
— В лес? — спросили девочки.
— К белкам его отвезем, попросим полечить. А вечером приедем и останемся у вас ночевать.
Вот это было совсем другое дело!
Девочки уже легли спать, когда приехала Джемма. Они так рвались на нее поглядеть, что мы впустили Джемму к ним в комнату. Собака прошлась между кроватками, остановилась около Иришки, подышала шумно и вдруг лизнула Иришку в щеку. Иришка взвизгнула от страха. Собака взглянула на нее, как будто усмехнулась: вот глупая девочка, ведь я же просто хочу поласкаться...
Иришка поняла, засмеялась. Джемма спокойно вильнула хвостом и ушла.
— А меня? — закричала горестно Аленка. — А меня почему не лизнула?
Но у Джеммы было более важное дело, чем лизаться с девчонками, — надо было сторожить крыс.
Мы уложили охотника в большой комнате на диване, раскрыли настежь все двери в квартире. И всю ночь я слышала осторожные шаги — это Джемма ходила по комнатам.
Но крысы были тоже неглупы: они, конечно, почуяли собаку в доме и попрятались в своих норах.
Утром, когда мы встали, Джеммы и ее хозяина уже не было — они привыкли вставать очень рано.
А крысы больше не появлялись у нас в квартире. Испугались, наверное, и ушли в другое место.
ДЕВОЧКИ ДЕРУТСЯ
Началось все с Аленки.
Я очень люблю Аленку. Она смешная, очень подвижная, но немного косолапая, оттого на все натыкается, на каждом шагу спотыкается, шлепается на ровном месте. Все время она крутится, не может посидеть спокойно, — оттого ее шутя прозвали Крученой. Но характер у нее легкий, покладистый. Она не упряма, как Иришка, — ее всегда можно уговорить. Она никогда не грубит, как случается с Анночкой. Она веселая и добрая. Когда Аня болеет и плачет оттого, что ей больно, или оттого, что приходится принимать невкусное лекарство, Алена тоже начинает тереть кулаком глаза и просит, чтобы и ей дали касторки. Вообще она видеть не может чьих-нибудь слез — и плачет «за компанию». Но и веселится Алена охотнее и больше, чем другие девочки, — «со смаком», как говорят у нас в Киеве.
Но иногда на Аленку точно что-то находит — и тогда она начинает приставать ко всем. Есть такое растение — репейник: кругленькие его плоды как прицепятся к платью, к чулкам — с трудом отцепишь. Так и Аленка.
С утра она стала приставать к Анке:
— Анночка... Ну, Анночка!
Анка сдвигала брови, спрашивала нетерпеливо:
— Что тебе?
Алена не отвечала. Но через минуту опять тянула:
— Анночка... Ну, Анночка же...
— Отвяжись! — сердилась Анка и уходила в другую комнату.
Алена вздыхала, на минуту задумывалась, потом, переваливаясь, неторопливо шла за Анкой и, подкравшись, шептала у нее за спиной:
— Анночка...
У Анки вздрагивали плечи, она резко оборачивалась:
— Ну что?
Алена молчала и смотрела на Анку хитрыми-хитрыми глазами.
— Что она хочет? — волнуясь, спрашивала Анка Иришку.
Иришка удивленно поднимала тоненькие брови и старалась отвлечь Аленку.
— Аленушка, — говорила она сладким голосом, — ты, наверное, уже голодная... Может быть, ты пока пойдешь за чем-нибудь к Пашеньке? Может быть, уже пора завтракать?
Но Аленка качала головой, не уходила и не унималась.
Наконец Паша позвала девочек завтракать. Они уселись за свой круглый столик под окном в столовой: Анка — нахмуренная, мрачная, Иришка — обеспокоенная, Алена — с хитрой улыбкой. На завтрак была цветная капуста — любимое кушанье Анки. Но только что Анка взяла в рот первый кусочек, Аленка снова:
— Анночка... ну, Анночка...
Анка чуть не подавилась, глаза ее наполнились слезами. С трудом проглотила она несколько кусков и отодвинула тарелку. Иришка быстро ела, поглядывая на Анку и Аленку, стараясь «до грозы» благополучно покончить с завтраком, она вообще любила покушать.
Алена же не притронулась к еде. Она оперлась руками на край стола, положила на них свою кудрявую голову, смотрела Анке в рот и ныла:
— Анночка...
Анка вскипела:
— Говори сейчас же, что тебе нужно... дура!
Иришка сказала предостерегающе:
— Девочки, мама не позволяет ругаться.
— Разве я ругаюсь? — удивилась Алена. — Это же Аня.
— Паша, — сказала Анка решительно, — возьмите вашу любимую Аленку! У меня кусок в горле останавливается.
— Аленка! — закричала Пашенька из кухни. — Сейчас же оставь свои штучки!
Но Аленка только улыбалась.
— Еще смеется, глупая... — прошептала Анка.
— Девочки, мама не позволяет ссориться, — испуганно сказала Иришка, поспешно доедая кисель.
— Это не я, — прищурилась Алена, — это же Анка... Это же все Анночка...
Анка наморщила лоб, побледнела и — бац кисельной ложкой Алену по голове. Алена скатилась с табуретки, зацепилась за ножку стола, столик опрокинулся, тарелки покатились на пол, потекла кисельная река...
Иришка закричала:
— Мама, иди скорей, девочки дерутся!
На крик прибежала Паша, и мы вдвоем с трудом растащили девчонок.
— Точно собачонки, — ворчала Паша. — У нас на даче, в прошлом году, вот так же... Щенку, бывало, хочется повозиться, сила в нем бродит, он и давай приставать к большому псу: то за хвост его схватит, то за ухо щипнет. Пес умный, терпит-терпит да как обозлится всерьез — такая драка пойдет, только шерсть клочками летит...
Аленка, вытирая кулаками слезы, не то всхлипывала, не то смеялась.
— Так ей и надо! — говорила Анка, сверкая глазами. — Она же кусается!
С той поры каждый день у нас в квартире драка. То Анка Аленку поколотит, то Аленка на Иришку нападет, а Анка — заступится, то все трое сцепятся. Шум, крик, стулья падают.
Даже благонравная и трусоватая Иришка скоро тоже стала драться кулаками и ногами и чем придется. Мы с Пашей пробовали разбираться в их ссорах. Но Пашенька всегда старалась выгородить «свою любимую Аленку» и уверяла меня, что «у Анки рука тяжелая», а «Иришка — тихоня, но себе на уме», Аленке же будто всегда «за всех достается». Пока мы судили-рядили, кто виноват, девчонки уже снова играли вместе как ни в чем не бывало.
— Все уже прошло, тетя Верочка! — весело докладывала Аленка.
Иришка же подставляла разгоревшуюся щеку к моим губам и успокаивала:
— Не обращай на нас внимания. Просто мы любим немножко подраться.
— За такую любовь в милицию забирают, — ворчала Паша.
— Ну уж! — спокойно говорила Анка. — Из-за каких-то девчонок беспокоить милиционера?
Однажды, после очередной утренней потасовки, я рассердилась не на шутку.
Это был час нашей прогулки, и девчонки, всхлипывая, одевались каждая в своем углу.
— Сейчас я должна идти с вами гулять, — сказала я, — но мне даже противно с вами ходить по улицам.
В молчании, гуськом, мы спустились по лестнице. Обычно на улице мы ходили так: Анка, Иришка и я шли рядом, держась за руки; Аленка шла впереди — «без ручки». Правда, она ежеминутно оборачивалась и натыкалась на прохожих.
— Это потому, что у меня глаза такие близорукие, — оправдывалась она.
Сегодня я сказала сухо:
— Я не хочу идти с вами за руку. Идите одни.
Иришка заморгала часто-часто. Анка насупилась и взяла ее за руку. Аленка, на улице мгновенно забыв все, весело спросила:
— Куда мы пойдем сегодня?
Обычно я придумывала заранее маршрут, всегда с каким-нибудь «интересом», как говорили девочки: то мы отправлялись посмотреть, как растет новый дом на углу, то навещали «наше знакомое дерево» на Институтской улице, то «открывали» какую-нибудь новую улицу.
И сейчас девочки все враз остановились, поглядели на меня и ждали: «Куда?». Я сказала холодно:
— Идите куда хотите.
Алена посмотрела на меня, прищурилась и молча подала Иришке руку. Мы пошли по Ленинской вниз, к Крещатику. Девочки шли чинно, глядели в разные стороны. Иногда все три, точно по команде, оглядывались на меня. Я делала равнодушное лицо и разглядывала афиши на стенах.
«Ничего, это полезно, — думала я. — По крайней мере, можно погулять спокойно, без приключений».
День был теплый, ясный. В скверике за оперным театром возвышалась гора желтого влажного песку, вокруг нее возились и щебетали дети. Почти наверняка в этот час здесь можно было встретить знакомых ребят, поиграть с ними или, еще лучше, отправиться всем вместе на Владимирскую горку или в Ботанический сад.
Скучнее всего было идти вниз до «Трещатика», как Аленка называла Крещатик, а потом медленно возвращаться обратно.
Девочки оглянулись на меня и покорно, точно сами себя наказывали, стали спускаться по крутой улице.
Вдруг из ворот одного дома навстречу нам выбежала с криком женщина, за ней выскочил мужчина без шапки, красный и взлохмаченный. Он догнал женщину, схватил за руку: «Стой! Стой, тебе говорят!»
Женщина вырвала руку, хотела бежать. Мужчина с размаху ударил ее по спине так, что она пошатнулась.
— Девочки, девочки, назад! — закричала я, подбегая и хватая Анку за руку.
Но девочки стояли как вкопанные и смотрели во все глаза на дерущихся.
Прохожие останавливались, со всех сторон бежали люди. Мгновенно собралась толпа. Все кричали, охали, уговаривали, но никто не решался вмешаться в драку.
— Спокойно, граждане, — сказал милиционер, раздвигая толпу. — В чем дело?
Он подошел к дерущимся сзади и сильно схватил мужчину за плечи. Тот оглянулся, взбешенный, что ему помешали, но, увидев милиционера, сразу стих, руки его опустились.
— А ну-ка, давайте не будем, — сказал милиционер деловито. — В Советской стране хулиганить, бить человека не разрешается, — и, взяв мужчину за локоть, повел его через дорогу.
Женщина подобрала распустившиеся волосы и, плача, тоже пошла за ними.
— В милицию! В милицию! — зашумел народ.
— Так-то вот, — удовлетворенно проворчала старушка с корзинкой.
— Рукам воли не давай, — сказал маляр, шедший на работу с ведром и большой кистью, и посмотрел на свои вымазанные краской руки.
Я поспешила увести взволнованных девочек.
Два дня после этого у нас было тихо — никаких драк.
На третий, занимаясь в своей комнате, я вновь услышала в столовой возню и крики.
— Ах, ты опять? — крикнула Анка. — Ты опять драться? Вот же тебе за это!
Послышалось несколько затрещин, и плачущий голос Алены сказал:
— Бить человека не разрешается...
— Человека нельзя, — отчеканила Анка, — а тебя обязательно нужно... чтоб ты не давала воли рукам. Поняла?
КОГДА НЕ СЛУШАЮТСЯ НОГИ
Мы возвращались с прогулки. Было совсем тепло, даже жарко, как бывает иногда в Киеве осенью.
Мы ушли далеко от дома, гуляли долго и очень устали. Анка и Иришка висли у меня на руках, Аленка, вместо того чтобы идти, как обычно, впереди нас, плелась еле-еле позади. Приходилось часто останавливаться и ждать ее, чтобы она совсем не отстала от нас.
Обычно в таких случаях я начинала рассказывать какую-нибудь длинную историю про птиц, которые долго-долго летят в теплые страны, или про корабль, который много дней плывет по морю к какой-то желанной земле, — глядишь, вместе с птицами и с кораблем и мы кое-как добирались до дому. Но сегодня мы все так устали, что не было сил ни рассказывать, ни слушать. Жара нас совсем разморила.
Красные, усталые девочки брели молча, глядели исподлобья.
— Вот уж и дом наш виден, — сказала я с облегчением, когда мы вышли наконец на нашу улицу. — Видите, девочки, теперь совсем уж близко. Ну-ка, прибавим шагу!
Но, увы, шаг не прибавился. И вдруг Иришка остановилась, обхватила меня обеими руками и шепнула громко:
— Возьми на ручки...
— Что ты? — возмутилась я. — На улице? При всем народе? Такую большую девочку? Куры будут смеяться...
Я надеялась, что девочки сейчас же начнут со мной спорить: что ли, куры умеют смеяться? И разве куры в городе живут? И авось как-нибудь мы продвинемся дальше. Но девочки молчали. Иришка даже не взглянула вокруг.
— На ручки... — умоляюще повторяла она.
Анка выдернула свою руку из моей, отодвинулась от нас с Иришкой и отвернулась. Аленка громко вздохнула.
— Нет, мне просто стыдно идти с такой девочкой! — сказала я решительно и быстро пошла одна к дому.
Иришка заплакала тоненько: «Ма-ма!» — и попыталась побежать за мной.
Анка схватила Аленку за руку:
— Ты что, Кручена, хочешь одна на улице остаться?
Я слышу, как Алена тоже начинает всхлипывать.
Наконец мы уже на крыльце нашего дома. В подъезде прохладно и темно. Несколько минут мы отдыхаем, прислонившись к решетке недействующего лифта.
— Вот мы и дома! — говорю я весело. — Теперь только по лестнице вверх — и все. Ну, пошли, девочки! Кто первый доберется, тот...
Но Иришка решительно обхватывает мои колени:
— Теперь никого нет. Теперь возьми на ручки.
Машинально я беру ее на руки, и она, довольная, крепко обнимает меня за шею.
— Я еще маленькая, — говорит она, — я устала.
Анка смотрит на нас, хочет что-то сказать, потом губы ее кривятся, она отворачивается и идет вперед по лестнице.
Я разжимаю Иришкины руки, ставлю ее на ступеньку.
— Мы все устали, — говорю я строго, — и Аня, и Алена, и я тоже. Я не могу тащить на себе вас всех троих наверх. Я не слон. Правда, Анночка?
Анка поворачивает ко мне лицо и важно кивает в ответ.
— Только слон мог бы вас тащить всех на спине. И шагал бы вот так! — Я шагнула сразу через две ступеньки. — Ну, пойдемте же! — И, взяв за руки Иришку и Анку, я двинулась по лестнице.
Аленка не шевельнулась.
— Аленушка, а ты что же? — крикнула я ей.
Она что-то пробормотала невнятное и села на ступеньку.
— Кручена, ты что, тут хочешь всю жизнь сидеть? — окликнула ее Анка.
Алена подняла голову, прищурилась и сказала:
— У меня ноги не идут, — и тяжело вздохнула.
Иришка и Анка остановились, озадаченные, и смотрели то на меня, то на Алену.
— Ноги не идут? — сказала я. — Вот какая штука! Это дело серьезное! Что с ними?
Я спустилась к Аленке, нагнулась и потрогала ее ножки.
— Не понимаю. Ноги как ноги. Теплые. Крепкие. Почему же они не идут? Может быть, у тебя в голове что-то испортилось?..
— Как это — в голове испортилось? — спросили девочки испуганно.
— Да, ведь вы ничего еще не знаете! — сказала я. — А это очень интересно у нас устроено — руки, ноги, голова. Самая главная у нас — голова, она всем распоряжается. Вот, например, моя голова приказывает моей руке: «Подымись!» — и смотрите, рука подымается. Голова может приказать глазам: «Закройтесь! Не смотрите!» И вот они закрываются, и я ничего не вижу. Попробуйте сами. Пусть ваша голова что-нибудь прикажет рукам или ногам — увидите, они все сделают.
Девочки оживились. Сначала Анка подумала, подняла руку — и засмеялась. Иришка топнула ногой — и посмотрела на всех с удивлением: вышло!
— А если ноги не слушаются! — прищурилась Аленка.
— Если ноги крепкие, здоровые, значит, виновата голова. Когда у человека голова не может управлять руками-ногами, значит, она не в порядке.
— А может, она нарочно?
— Как — нарочно? Тогда просто глупая она. Умная голова знает, что надо домой добраться, и приказывает ногам шагать. Вот моя голова говорит: «Знаю, вы устали, но раз надо идти, так надо». И мои ноги, видите, шагают: раз-два! Так велела голова! — Ия старательно зашагала вверх.
Иришка и Анка тоже поставили ноги на следующую ступеньку и сказали бодро: «Раз-два!»
Аленка посмотрела нам вслед, встала, переступила с ноги на ногу и закричала:
— Идут! Тетя Верочка, идут! Послушались!
Я остановилась, поглядела вниз:
— Так. Правильно, Алена. Шагай, шагай, пусть они теперь не останавливаются!
Пыхтя и переваливаясь, как уточка, Алена усердно нагоняла нас. Когда мы добрались до третьего этажа, Иришка оглянулась и сказала:
— Алена, как там твои непослушные ноги?
Но Аленка даже не глядела ни на кого, вид у нее был необычайно сосредоточенный.
Анка сказала:
— Не мешай, у нее голова работает.
Тогда все замолчали и шли молча до самого верха, потому что нужно было все время следить за ногами, чтобы они шагали как следует по ступенькам. А это большая работа, когда на лестнице почти сто ступенек, когда человек устал и особенно когда человеку всего четыре года от роду.
Паша открыла нам дверь, увидела нас — красных, усталых, но веселых и довольных — и сказала:
— Что-то вы загулялись сегодня! Небось заморились, совсем без ног?
— Нет, все в порядке, Пашенька! Ноги у нас хоть куда... Правда, девочки? Они у нас послушные. Хотите, мы их сейчас танцевать заставим? — засмеялась я.
И девчонки тут же в передней пустились перед Пашенькой в пляс.
— Чудеса! — сказала Пашенька.
Аленка и притопывала и выставляла вперед свои ножки и вдруг погладила их с довольным и лукавым видом, как хозяйка.
ИРИШКА КАПРИЗНИЧАЕТ
— Сегодня вечером, — сказала Иришка, — когда мы ляжем спать, мама сядет около нас на табуретку и будет нам рассказывать сказки, пока сон нас не возьмет.
— Нет, — сказала я. — Сегодня вечером, как только девочки лягут в постель, я надену пальто и уйду из дома.
— Куда? — закричали все три девочки сразу.
— Куда глаза глядят. Сначала пойду по Крещатику. Потом спущусь к Днепру, погуляю в парке, посмотрю, как светится Подол, как плывут по реке пароходы...
— И на Владимирскую горку пойдешь? — спросила Иришка.
На Владимирскую горку мы ходили гулять все вместе в хорошую погоду, в хорошем настроении. Девочки любили бегать по дорожкам вниз и вверх по горе, стоять у парапета и смотреть на Днепр, отдыхать наверху в беседке и есть мороженое.
— И мороженое будешь есть? — допрашивала Аленка.
— Может быть, и мороженое буду есть.
— А мы? — сказала Иришка и оглянулась на Анку и Аленку.
— А вы будете спать в своих кроватках тихо и мирно.
— Мы тоже хотим посмотреть на пароходы, — сказала Анка.
— Вы можете их увидеть во сне.
— Как это — во сне?
— А вот постарайтесь, — смеялась я. — Вы будете спать и увидите во сне, как я гуляю по городу.
— Нет, — сказала Иришка, — ты никуда не пойдешь!
— Почему это?
— Я тебе не позволяю... одной гулять по вечерам...
— Я пойду не одна. За мной зайдет мой приятель.
— Все равно, — сказала Иришка упрямо, — я тебя не пущу.
— Вот новенькое слово! — удивилась я. — Как ты можешь меня не пустить?
— Мы не хотим, чтобы ты уходила.
— А мне очень хочется погулять. Такой хороший вечер...
— А мы не хотим, — твердила Иришка, косясь на Аленку и Анку.
— Вы же будете спать, девочки. Вам совсем не нужно, чтобы я сидела около вас на табуретке и сторожила ваш сон.
— А я... — начала Иришка.
Но я перебила ее:
— Жила-была одна очень глупая собачка. Она лежала во дворе на ворохе сена. Пришла к ней лошадь и попросила: «Дай мне сенца. Я хочу есть». — «Нет, — сказала собака, — это мое сено, я тебе не дам». — «Ведь ты же сена не ешь, — сказала лошадь, — а я им кормлюсь». Но собачка сама не ела сена и другим не давала.
— Я не собачка! — закричала Иришка. — Я сейчас так заплачу — на весь дом!
— Фу, как тебе не стыдно так кричать? Посмотри на девочек: у них папа и мама уехали на целый год в другой город, а они же не кричат и не плачут.
Анка нахмурилась и отвернулась. Аленка прищурилась и посмотрела так, как будто хотела сказать: «А вот возьмем и будем плакать — тогда что?»
— Ну, довольно, — сказала я. — Если мы дальше будем так разговаривать, я с вами поссорюсь, а мне этого совсем не хочется. Довольно! Идите умываться.
Иришка только намылила руки, как прозвенел звонок.
— Пришел ваш знакомый, — сказала Паша. — Он в столовой дожидается.
— Ну, девочки, скорее мойтесь, вытирайтесь, — заторопилась я, — мне уже пора уходить.
Мой приятель расхаживал по столовой, не раздеваясь — в пальто и шляпе.
— А, смирнята! Здравствуйте! — закричал он весело, увидев девочек.
Он постоянно давал им всякие смешные прозвища, а девочки между собой называли его Бориской. Но сейчас они ничего не ответили, даже не посмотрели на него и пошли прямо в свою комнату.
— Эй, зайчата! — закричал он опять. — Почему вы не здороваетесь? Вот я за это сейчас уведу от вас тетю Веру далеко-далеко...
— Не подливайте масла в огонь, — шепнула я ему, — и без того Иришка капризничает.
Девочки раздевались молча. Я им помогала.
— Если ты уйдешь, — сказала Иришка, снимая чулки, — если ты уйдешь, я стану голыми ногами на пол и буду стоять, пока ты не придешь...
И она потихоньку стала спускать ноги с кровати. Пол был холодный, и ей было неприятно до него дотрагиваться теплыми ногами. Но она все-таки встала и стояла и смотрела на меня.
— Ты простудишься, Ирина, — сказала я строго. — Сейчас же ложись под одеяло!
Иришка не шевельнулась.
— Ну, до свиданья, спокойной ночи, девочки! — Я помахала рукой и пошла к двери.
— А поцеловать? — закричала Анка.
— Вы мне сегодня не очень нравитесь, — сказала я. — Что-то мне не хочется с вами целоваться...
Но все-таки я вернулась, поцеловала Анку и Аленку.
Иришка стояла как статуя. Я прошла мимо нее и вышла из комнаты.
— Мама! — сейчас же позвала Иришка.
— Что?
— Поди сюда! На минутку!
Я вернулась еще раз.
— Ты даже забыла со мной проститься, — сказала Иришка сухо.
— Ложись в постель.
— Нет, — сказала Иришка, — вот так и буду стоять целую ночь.
— Если тебе нравится, стой сколько угодно. Мне все равно. Мне просто стыдно, что у меня такая злая дочь.
Я ушла и закрыла дверь за собой.
Вдруг раздался вопль:
— Ма-а-а-ма! Не уходи! Ай! Я простужусь! Заболею! — кричала Иришка жалобно. — Ма-амочка... не уходи!.. Я не могу жить без тебя... Ой-ой-ой!..
Девочки тоже захныкали.
— Перестаньте кричать! — сказала я громко. — Как вам не стыдно? Борис обидится...
— Пусть обижается! — кричала Анка.
— Может быть, вам лучше остаться? — робко спросил мой приятель, смущенный и растерянный, оглушенный Иришкиным криком.
— Почему же? — сказала я с досадой. — Мне хочется гулять. Пойдемте.
И мы ушли.
Нас провожал жалобный крик Иришки, громкий плач в три голоса.
Мы молча спускались по лестнице.
— Вернемся, — сказал мой спутник на полдороге, не выдержав. — Мне жаль бедных девочек. Мы скажем, что никуда не пойдем. Подождем, пока они заснут, и тогда уйдем потихоньку.
— Ни за что! — сказала я. — Я их никогда не обманываю. Вы ничего не понимаете. Это ведь все нарочно — девчонские хитрости. Им совсем не хочется плакать.
Мой приятель поглядел на меня с удивлением и вздохнул — верно, подумал, какая я бессердечная.
Вот за нами захлопнулась входная дверь. Мы пошли тише, мой спутник ободрился. Вдруг я остановилась и сказала:
— В этой суматохе я даже забыла взять платок.
— Принести? — спросил мой приятель.
— Вы не найдете. Лучше я сама. Подождите меня минутку, я сейчас...
И я быстро вернулась и взбежала по ступенькам. Криков уже не было слышно. Запыхавшись, с замирающим сердцем, я отперла дверь и вошла на цыпочках. Все было тихо в нашей квартире. Лампы погашены. Я неслышно подошла к детской комнате, прислушалась. Девочки мирно спали.
Иришка лежала в кровати под одеялом и только иногда вздыхала во сне.
Я засмеялась про себя и так же тихо ушла. Когда я догнала своего спутника, он спросил меня:
— Ну как?
— Все в порядке, — сказала я весело.
— Нашли платок?
— Он оказался у меня в кармане.
МОРОСИТ
Погода плохая. Пасмурно. Сеется мелкий дождик.
— Сегодня мы не пойдем гулять, — говорю я Пашеньке. — На дворе моросит. Я боюсь за девочек. Лучше переждать.
— Да уж... — соглашается Паша, глядя в окно, — пусть лучше дома посидят, поберегутся. Мало ли что может случиться...
Я даю девочкам бумагу и карандаши, усаживаю за круглый столик — рисовать, а сама ухожу заниматься в свою комнату. Сначала в столовой тихо: девочки рисуют. Потом они начинают шушукаться, спорят о чем-то.
— Я пойду? — говорит Алена.
— Ты близорукая, — отвечает Анка, — ты же все равно ничего не увидишь.
— Зато я не боюсь, а вы с Иришкой — трусихи, — уговаривает Алена.
— Мама не позволяет выходить на балкон, — говорит Иришка.
— А я на минуточку — только посмотреть...
— Кто тебя пустит — Кручену!
— Я на минуточку!
Слышно, как тяжело раскрывается балконная дверь. Я выхожу в столовую. Девочки меня не видят, Анка с Иришкой стоят у балконной двери и, вытянув головы, следят за Аленой. Алена на балконе, присев на корточки, смотрит сквозь перила во двор.
— Ну, что там? — спрашивает Анка.
— Ничего не видно, — вздыхает Алена, — ни-че-го...
— Так я и знала, — говорит Анка. — Пусти, лучше я посмотрю! — И она выходит на балкон.
— Я тоже хочу посмотреть, — смелеет Иришка, ступает на балкон, все-таки держась за ручку двери.
— У меня глаза хорошие, — медленно говорит Анка, — но почему-то ничего не видно. А ты что-нибудь видишь, Ира?
— Нет, — говорит Иришка, — ничего не вижу.
— А может быть, он уже ушел? — весело спрашивает Алена. И опять внимательно глядит вниз.
Тут я их и застигаю на месте преступления:
— Кто вам позволил открывать балкон? Марш в комнату! Безобразие! Что вы нашли там интересного?
Толкаясь, влезают в столовую, смотрят хитро, хохочут. Волосы мокрые, на лицах капли дождя.
— Только зря промокли, — объявляет Аня.
— Никакого Мо-ро-си-та нет! — торжествующе кричит Алена. — Правда, тетя Верочка, Моросит ушел. Никакого Моросита не видно!
Ах, вот в чем дело! Девочки услышали, что я сказала «моросит на дворе», и вообразили, что «Моросит» — это кто-то живой. И захотели на него посмотреть.
— Вот смешные девочки! Это просто так говорится, когда мелкий дождик идет...
Они глядят на меня недоверчиво:
— Просто мелкий дождик?
— А мы-то думали...
Разочарованные, они усаживаются опять за свой столик.
Немного погодя Алена говорит:
— А я все-таки немножко видела... Он такой длинный, до второго этажа... Тонкий-тонкий... А сам весь серенький и немножко полосатый. Правда, я его видела, тетя Верочка... А потом он скок в ворота — и ушел...
Девочки задумываются: неужели Моросит — просто мелкий дождик? Я смотрю сквозь мокрые, точно заплаканные стекла, и мне тоже начинает казаться, что на дворе кто-то длинный, серенький и немножко полосатый. И я запираю балконную дверь — на всякий случай...
ТАКАЯ ФАМИЛИЯ
В сумерки раздается звонок в передней. Алена бежит туда, карабкается на дверь и снимает цепочку. Входит очень высокий человек в черном пальто, без шляпы, без галош, изрядно промокший под дождем.
— Есть кто-нибудь дома? — спрашивает он.
— Вот я — дома... — говорит Алена растерянно.
Пришедший рассматривает ее и, подумав, спрашивает:
— А постарше кто-нибудь есть?
Алена с готовностью отвечает:
— Есть постарше. Аня — моя сестра. Она старше меня. Ей уже шесть лет.
— Уже шесть лет? — повторяет посетитель. — Ну, а самый старший кто у вас?
— Самая старшая — тетя Верочка. Она только на два года младше моей мамы. А с виду даже старше...
— Это меня вполне устраивает, — весело говорит посетитель. — А тетя Вера дома?
— Дома. Только она вымыла голову и сейчас причесывается...
— Вот что... Тогда не будем ей мешать. Ты ей только скажи, что пришел Беленький.
Посетитель снимает пальто, вешает его на вешалку, приглаживает мокрые волосы и преспокойно открывает дверь в большую комнату.
Алена несколько мгновений стоит в полном удивлении, потом бежит ко мне:
— Тетя Верочка! Там пришел какой-то человек... Сам весь черный, а говорит, что он — беленький... Он пошел в большую комнату.
— А-а... — говорю я, — ну хорошо. Пусть он идет в большую комнату. Зажги там свет. И поговори с ним. Я сейчас причешусь и приду.
Алена уходит, и я слышу, как она говорит в большой комнате:
— Зажгите, пожалуйста, свет. Вот тут на стене. А то я не достану.
Но пришедший отвечает:
— Не надо. Спасибо. Иди, девочка, и закрой дверь. Мне лучше так.
Алена возвращается совершенно растерянная.
Слышно, как, скрипя, поворачивается круглый стул перед роялем, потом сильные пальцы пробегают быстро по всем клавишам, точно проверяют — все ли нотки на месте. Потом — тишина.
И вдруг вся наша квартира наполняется звоном и гулом, точно река несется по камням и падает с высокой горы, точно тысячи птиц свистят и поют в лесу, точно море плещет и бьется с шумом о берег...
Анка с Иришкой бросили свои игрушки и вышли в столовую. Даже Пашенька пришла из кухни и спрашивает с интересом:
— Кто это играет?
Я объяснила тихонько:
— Это один молодой музыкант. У него нет рояля, и Алексей Максимович пригласил его заниматься у нас. Он хорошо играет. Давайте послушаем музыку.
Мы на цыпочках пробрались к двери в большую комнату и уселись на приступочку (ведь у нас из столовой в большую комнату — ступенька).
Хорошо в сумерки, не зажигая света, сидеть обнявшись на приступочке и слушать чудесную музыку!
Мы так сидели и слушали, пока музыка не кончилась, а когда она кончилась, мы услыхали, что музыкант встал и ходит по комнате.
— Вот теперь идемте знакомиться, — говорю я.
Открываем дверь в большую комнату. Зажигаем свет.
— Здравствуйте! А мы подслушивали... вы не рассердитесь на нас?
— Пожалуйста! Но, может быть, я помешал?
— Что вы?! Мы все любим музыку. Правда, девочки?
Мои девочки усиленно кивают головой и рассматривают музыканта.
Он очень молод, высок до того, что даже немного горбится, у него темные волосы и совсем темные глаза и большие длинные руки. А пальцы тоже длинные и тонкие. «С такими пальцами можно взять октаву», — говорила потом Анночка, которая уже немного учится музыке.
— А нам можно посмотреть, как вы играете? — спрашивает робко Аня.
— Если вам интересно, — отвечает он и садится за рояль. — А может быть, мы споем вместе?
И он начинает играть песенку, которую мы давно уже знаем, любимую песенку Иришки.
По разным странам я бродил —
И мой сурок со мною,
И сыт везде, всегда я был —
И мой сурок со мною.
— «И мой сурок, и мой сурок, и мой сурок со мною...» — поют девочки, даже Иришка, у которой, как говорит Аня, совсем нет голоса.
Потом мы хотим уйти, чтобы не мешать ему заниматься, но он усаживает нас на диван и еще долго играет нам. Кажется, что рояль — большой, черный, таинственный зверь — слушается его сильных тонких пальцев и поет-поет под его руками...
— Если разрешите, я буду приходить три раза в неделю, — говорит он после, прощаясь с нами в передней. — Я готовлюсь к концерту, и мне нужно много заниматься.
— Пожалуйста, приходите, когда хотите.
Он надевает свое черное, узкое и потрепанное пальто, кланяется так, будто хочет переломиться пополам, и уходит.
Паша зовет нас ужинать, но мы никак не можем опомниться.
— У меня голова полна музыкой, — говорит Анночка.
— Пусть он всегда приходит, — мечтательно заявляет Иришка, — он хороший.
— Только почему... почему он сказал, что он — беленький, а сам весь черненький? — говорит задумчиво Алена.
— Да ведь это его фамилия: Беленький. Так его зовут.
— Фа-ми-лия?!
Девочки удивлены и смеются: разве может быть такая смешная фамилия? И зачем так называть человека, если он совсем не похож?
И мне приходится им объяснять, что, может быть, когда-нибудь давным-давно его прапрапрадедушка был и в самом деле беленький, и его так прозвали. А потом у него были сыновья, и внуки, и прапраправнуки, и все они были разные, но все назывались, как и он, «Беленькие» — это прозвище стало их фамилией. Так и у всех. Вот Алена — по фамилии Смирнова, а разве она смирная?
Тут мы стали вспоминать фамилии всех знакомых и убедились, что люди часто совсем не похожи на свои прозвища.
Девочки даже стали играть в фамилии. Всех, кто к нам приходил, они спрашивали:
— Как ваша фамилия?
И, если фамилия была интересная, они убегали в свою комнату и прыгали и скакали от радости, выкрикивая новое необыкновенное имя.
КРАСНЫЙ СВЕТ
На углу нашей улицы, там, где раньше стоял милиционер с белой палочкой в руках, на перекрестке, высоко над дорогой, на проволоке повесили замечательный фонарь. Он продолговатый, четырехугольный, и на каждой его стороне по три круглых окошечка, в которых по очереди зажигаются и гаснут разноцветные огоньки: сверху — красный, посередине — желтый, внизу — зеленый.
Все фонари на улице светились только вечером, а этот — круглый день. Когда девочки увидели его в первый раз, они долго стояли на углу и любовались цветными огоньками.
— Загорается, тетя Вера, загорается! — кричали они на всю улицу, так, что прохожие оглядывались на них и смеялись.
Они сейчас же поделили между собой огоньки: красный взяла себе Аленка, зеленый — Иришка, желтый достался Анке. Девочки скоро заметили, что, когда на нашу улицу смотрит красный огонек, зеленый светит на ту, что пересекает нашу.
— Почему это? — спрашивали девочки. — Зачем они все время меняются?
Я, конечно, объяснила, что фонарь этот называется светофор, что его повесили, чтобы заменить милиционера, которому очень трудно и зимой, и летом, и в снег, и в дождь, и в летнюю жару стоять тут и указывать палочкой дорогу трамваям, и автомобилям, и людям. А теперь милиционер может сидеть в стеклянной будке на углу — видеть все, что делается на улице, и только нажимать кнопки. Зажжет красный огонек — значит, стоп, машины! Стойте, люди, и ждите! Погаснет красный огонек, загорится желтый — это значит: оглянись! Кто задержался, поторопись! Потом — раз! — загорается зеленый огонек, значит, могут смело катить по рельсам трамваи, ехать извозчики, автомобили, идти рядом с ними по тротуару пешеходы. И вожатым и шоферам легче, а то дрожи, как бы на кого не наехать.
— Ну, а если кто не послушается, все равно пойдет или поедет при красном свете? — спрашивали девочки с интересом.
— Ну что ж, тогда они сами виноваты, если попадут под машину. При красном свете вожатый может ехать, он не виноват.
Так я старалась все объяснить девочкам, и они внимательно меня слушали и кивали головой.
В этот день нам почему-то не пришлось воспользоваться светофором. Но через несколько дней, очутившись под вечер где-то на шумной большой улице, мы должны были миновать оживленный перекресток. Впереди приветливо светил зеленый огонек, и мы смело пустились в путь через улицу. Анку и Иришку я держала за руки, Алена, как всегда, шла впереди, по привычке часто оглядываясь через плечо и улыбаясь. Мы еще не успели дойти до середины мостовой, как вдруг зеленый огонек погас, загорелся желтый. Я остановилась, но Алена все шла вперед. Тут зажегся красный глазок — и по улице наперерез нам, грохоча, пошел трамвай.
— Алена! Алена! Стой, вернись! — кричала я.
Громко звенел трамвай, а она все улыбалась и шла.
— Стойте, девочки, ни с места! — закричала я и побежала за Аленой, настигла ее на самой середине улицы и оттащила назад.
И мы стояли посреди улицы, как на острове, а вокруг нас, справа и слева, проходили, звеня, трамваи, катились коляски, автомобили, пока не загорелся впереди зеленый огонь и все, как по волшебству, остановились.
Перепуганная до смерти, я прижимала к себе Аленку и не могла слова вымолвить. Кое-как перебрались мы на другую сторону.
— Как ты меня напугала! — сказала я, отдышавшись. — Никогда не буду тебя пускать одну вперед. Разве ты не видела красный свет?..
А наша Кручена обхватила меня нежно руками и сказала весело:
— Тетя Верочка, ты не волнуйся! Если меня задавят при красном свете, вожатый не виноват.
КАК МЫ ИСКАЛИ ДОРОГУ ДОМОЙ
Однажды — это было зимой, в декабре, — мы вышли утром гулять.
За ночь выпал снег, улицы были белым-белы, около крыльца и на краю тротуара намело сугробы выше девочек, и только посредине была протоптана узенькая дорожка. Анке и Иришке пришлось обойтись «без ручки», но им понравилось идти друг за другом — гуськом, как я сказала. Они бодро топали по снегу; снег хрустел, как сахарный песок, у нас под ногами.
— Слышите? Снег пищит: гуськом-гуськом, — говорила Аленка.
Мы решили идти, куда дорожка нас поведет. Шли-шли, дорожка заворачивала то вправо, то влево, то переводила нас через улицу, то расплывалась в широкую большую дорогу, то опять суживалась, огибала кусты и деревья, все засыпанные снегом, — и так мы очутились в заснеженном саду около старого заколоченного дома. — Здесь было совсем тихо, не видно ни людей, ни машин, только ветерок сметал с высокого крыльца снежок и бросал в нас мелкой снежной пылью. Наша дорожка обвела нас вокруг дома, стала совсем узенькой, вдруг уперлась в сугроб — и пропала. Аленка, шедшая впереди, остановилась.
— Ну, чего же ты стала, Кручена? — закричала Анка.
— Дорога потерялась, — удивленно сказала Алена.
Девочки топтались на месте, им даже трудно было вернуться ко мне — так тесно обступили нас сугробы.
— Куда же дальше идти?
— В самом деле — куда? — сказала я тоже. — Теперь и я уж не знаю, куда нам идти. Ой, девочки, кажется, мы заблудились!
Но девочки ничуть не испугались.
День был такой ясный, солнечный, снег так весело искрился, что девчонки даже засмеялись от неожиданности. Заблудились? Как интересно! Что теперь делать?
Аленка попыталась шагнуть в снег и провалилась по пояс; еле мы ее вытащили — как дед репку: Аленка уцепилась за Иришку, Иришка за Анку, Анка за меня, — так и вытянули Кручену из сугроба. Она была вся в снегу.
— Алена, отряхнись! — сказала Анка.
Но Аленка только отдувалась:
— Тут мне тесно отряхаться.
— Назад, девочки, — сказала я. — Ну-ка, разом всем повернуться, как на зарядке! И мы пошли назад по старшинству: сначала я, потом Анка, потом Иришка и Аленка после всех.
Когда вышли на полянку перед домом, то отряхнули снег с Аленки и отдышались.
Тут я посмотрела вокруг и сказала:
— Не могу сообразить, где же мы находимся? Снег так все прикрыл, я теперь ничего вокруг не узнаю. Как мы теперь найдем нашу улицу и наш дом? Придется вам, девочки, искать дорогу домой. Мы с Иришкой тут недавно живем, мы ваши улицы плохо знаем. Но ты, Анночка, и ты, Аленушка, нам должны помочь. Кто найдет дорогу домой, тот молодец!
И вот мы все принялись искать дорогу к нашему дому, который, признаться, был совсем недалеко, только снег запутал все следы. Но как было интересно девочкам узнавать знакомые вывески, подъезды, как радостно было увидеть издали свое крыльцо!
— Вот наш дом! — закричали девочки, запыхавшись. — Стоит как ни в чем не бывало!
— Ну, вот и хорошо, — сказала я. — Но в следующий раз, когда пойдем гулять, давайте будем хорошенько примечать все, мимо чего будем проходить, и запоминать все приметы, чтоб по ним потом легко было найти дорогу, куда бы мы ни зашли.
Так мы выдумали себе игру, которая очень понравилась девочкам. Они называли ее — игра в «как заблудиться», хотя правильней было бы говорить: «как найти дорогу домой».
Теперь мы нарочно уходили подальше от дома на незнакомые улицы, и девочки усердно замечали все по пути и выискивали приметы, по которым можно было найти дорогу к дому. Сначала они не очень удачно это делали.
— Эй, смотрите, фонарь! — кричала Алена и стучала по железному фонарному столбу. — Чур, моя примета!
— Ну и примета! — смеялась я. — Таких фонарей на каждой улице сколько угодно — как ты узнаешь твой фонарь? Надо искать приметы, которых в других местах нет.
И мы старались найти особые приметы: то колонны у входа в какой-то дом, то решетку перед домом, то ворота деревянные, то вывеску, то какое-нибудь ветвистое, старое дерево. Девочки очень полюбили эту игру и скоро знали наизусть всю Ленинскую улицу — от Крещатика до нашего дома, и Прорезную и Владимирскую тоже; знали, где театр, где школа, где кондитерская, где университет. Это стало у них любимым занятием — отыскивать следы и приметы, и каждая очень гордилась, если ей удавалось заметить то, чего не увидели остальные.
Теперь мне приходилось хитрить, уводя их куда-нибудь в глухие переулочки, потому что все соседние улицы были уже исследованы. Сначала девочки вслух называли свои приметы и показывали их, потом они стали их запоминать «по секрету» друг от друга. И сколько было смеха и споров, когда обнаруживалось, что все они видели одно и то же!
— Это я раньше увидела ворота! — кричала Аленка. — А Иришка думает, что это ее примета.
— Нет, я раньше! — надувалась Иришка.
— Ты думаешь, Кручена, если ты идешь впереди, то ты одна все видишь? — говорила Анка.
Теперь они часто бежали все вместе вперед и уже не цеплялись за меня.
Чтобы девочки не ссорились, мы решили искать дорогу по очереди. И вот какая смешная история случилась у нас с Аленой.
Однажды мы ушли довольно далеко от дома по Владимирской, миновали университет, сквер и свернули в какой-то совсем незнакомый переулок, где я сама никогда не бывала раньше, прошли его — он был очень коротенький — и тут на углу увидели в подворотне старуху.
Старуха была закутана в большой тулуп на черном меху, сидела на складной низенькой табуретке, а перед ней в круглой корзине стояла глиняная макитра с мочеными яблоками.
Девочки остановились как вкопанные. Это было их самое любимое лакомство — моченые яблоки. Не могу понять, почему они любили их; у меня так даже челюсти сводило при виде этой холодной кислятины.
— Ось, яблуки моченые, купите яблучков! — сказала старуха.
Девочки посмотрели на меня. Они хорошо знали, что есть на улице им не разрешалось и не полагалось ничего выпрашивать — я терпеть не могла «попрошаек». Вздыхая, они смотрели на старуху.
— Таки гарненьки дивчинки, — заулыбалась им торговка, — они хочут моих моченикив? Так возьмить, будь ласка! — И она живо достала большой деревянной ложкой яблочко и подала Аленке: — Берить, берить, будь ласка!
Соблазн был так велик, что Алена не удержалась, — и не успела я что-нибудь сказать, как она уже взяла яблоко и впилась в него зубами.
— И мне! И мне! — закричали в один голос Иришка и Анка и обступили корзину.
— Берить, берить! — повторяла старуха, доставая и им по яблочку. — Скушайте и вы, матинька, попробуйте моего моченика, — закивала она и мне.
— Нет уж, спасибо, — сказала я.
А девчонки наслаждались вовсю. Яблочный сок тек у них по щекам, по подбородкам, варежки были все мокрые.
— Хоть бы варежки сняли, глупые! Кто ж так ест?
— Ничего, — весело сказала Аленка, — все равно вкусно.
— Безобразие! — сердилась я. — Взяли без спросу, даже не поинтересовались, есть ли у меня деньги.
— Есть! У тебя деньги в сумочке, — уверенно сказала Иришка.
— Найдутся денежки... для таких гарнесеньких дивчинок... — сладким голосом пела старуха.
Я поскорее расплатилась с ней и пошла.
— Не задерживайтесь, девочки, идемте!
— Спасибо! — сказали все три с сожалением и поклонились старухе.
Мне было смешно, но я сделала вид, что недовольна ими, и быстро ушла вперед, не дожидаясь. Они вприпрыжку догнали меня и заглядывали мне в лицо с любопытством; я отворачивалась и молчала.
— Разве можно сердиться на своих детей за моченые яблоки? — рассуждала Иришка. — Ты их не любишь, а мы очень любим... Правда, девочки?
— Ну, один раз в жизни можно, — сказала примирительно Анка и добавила басом, совсем как отец: — Плюнь на нас, тетя Верочка, не порти свое здоровье!
— На улице нельзя плеваться! — сказала Алена.
— Какие глупости вы говорите!.. Фу, вымазались все — и носы и щеки у вас теперь кисло-сладкие... И про дорогу забыли. Кто сегодня должен искать?.. Алена? Посмотрю-ка я, как она нас обратно поведет. Никаких примет у нее сегодня нет.
— Нет, у меня есть примета! — засмеялась Алена и все оглядывалась назад, пока мы не завернули за угол.
Мы прошли еще квартал, перешли через дорогу, пересекли небольшой садик — и вышли опять на ту же улицу, где были, только немножко дальше.
— Ну вот, теперь я совсем не знаю, где мы. Я закрою глаза, ведите меня, — сказала я.
Анка и Иришка взяли меня за руки, Аленка храбро двинулась вперед.
Шли мы долго. Я то открывала, то закрывала глаза, а мы все шли и шли по какой-то незнакомой длинной улице, и заветного угла, где надо было поворачивать на Владимирскую, все не было и не было... Аленка плелась еле-еле и все прищуривалась, оглядываясь во все стороны.
— Кручена, ну где же наконец твоя примета? — ворчала Анка.
Тут Алена остановилась и пожала плечами так, что вся шуба на ней поднялась.
— У меня была примета, — сказала она жалобно, — я же взяла за примету... моченики...
Ну, и посмеялись же мы над Аленкой!
— Убежала твоя примета! Лови ее! Что ли, старуха весь день тут будет сидеть? Ей надоело, она корзинку в руки — и куда-нибудь на Крещатик! — дразнили ее Анка с Иришкой.
Аленка растерянно глядела на них, потом бросилась ко мне:
— Ну, правда же, тетя Верочка, у меня эта старушка приметой была! А теперь ее нет. Почему же? — И она чуть не плакала.
Анка и Иришка покатывались со смеху.
— Ненадежная оказалась твоя примета, — сказала я. — Встала и ушла твоя примета. Ведь она живая.
— Значит, и собака не может быть приметой? И воробушки? И ворона? А трамвай? Он не живой, а тоже может уйти? — закричали девочки наперебой.
— Всякое может случиться, — сказала я. — Вот я знаю одну сказку, как дети тоже искали дорогу домой в дремучем лесу. Ну-ка, беритесь за руки и шагайте быстрей, а то мы уж очень загулялись. Вон туда надо идти — там наша улица. А я расскажу вам эту сказку.
И я рассказала о том, как детей дровосека увели далеко от дома в дремучий лес и оставили в чаще, чтобы они заблудились и не нашли дорогу домой. Но у самого маленького из ребят были в кармане камешки; он все бросал их на тропинку, и по этим камешкам они благополучно вернулись к родителям. А вот во второй раз у мальчика уже не было камешков, был в кармане только кусочек хлеба. Мальчик с пальчик стал бросать на дорогу хлебные крошки, а лесные птицы их поклевали — и уже не было примет, чтобы вернуться...
— Ну, и что же с ними стало? — спросила строго Анка, и девочки обернули ко мне встревоженные лица.
— Если их волк съел, ты, мама, пожалуйста, не досказывай, — попросила Иришка.
— Нет, досказывай, досказывай все! — сказала Анка решительно. — Что уж делать, если они, как Алена, такие разини...
— О, это длинная сказка! — сказала я. — Не успеть всю рассказать... Вот уж мы и пришли. Конечно, пришлось ребятам постранствовать, попали они к злому великану... Но Мальчик с пальчик увел их от великана, и все кончилось благополучно. А все-таки не мешает сказочку эту помнить, когда уходишь далеко от дома... А, девочки?
— А где нам камешков взять? — спросила Иришка.
— Вот глупая Иришка! — сказала Анка. — Мы же не в сказке живем, а на улице Ленина. Ничего ты не понимаешь!.. Правда, тетя Верочка?
А я отвечала так:
Сказка — ложь, да в ней намек,
Добрым мо́лодцам урок.
Эти стихи им очень понравились, и они громко пели, поднимаясь по лестнице, переделав на свой лад:
Сказка — ложь, да в ней намек,
Нашим девочкам урок…
КАК МЫ ЛОВИЛИ ВОРА
Утром Паша пришла с базара и показывала мне, что купила. Вдруг она вспомнила, что забыла купить булку девочкам на завтрак.
— Дайте мне обратно эту мелочь, — сказала она и взяла со стола сдачу, которую только что мне принесла, — две серебряные монетки, — я зараз сбегаю в булочную.
Девочки в это время играли в большой комнате.
Паша положила деньги на стол в столовой и пошла на кухню — отнести корзинку с продуктами. Я занялась своим делом. Вдруг Пашенька кричит из столовой:
— Вера Васильевна, я деньги у вас взяла?
— Да, — отвечаю, — две монетки.
— Верно, — говорит она удивленно, — и я помню — вот сюда их на стол положила. А вот нет же их здесь...
Я слышу, как она шарит по полу, ходит вокруг стола.
— У них же ног нет, чтоб бегать, — ворчит она и догадывается: — Наверное, девчонки взяли.
— Ну что вы говорите! — удивляюсь я. — Зачем им деньги? И они не возьмут без спросу.
— Вы всегда их защищаете... — Она открывает дверь в большую комнату. — Ну-ка, давайте назад деньги! — говорит она.
— Какие деньги? — спрашивают девочки.
— Какие? Серебряные! — сердится Паша. — Кто взял? Анка, ты? Сейчас давайте сюда обе денежки! Слышишь, Анна?
Анка отвечает дрожащим голосом:
— Ты всегда только на меня нападаешь...
Предчувствуя вспышку, прихожу на помощь.
— Паша, — говорю спокойно, — зачем, в самом деле, вы напали на девочек? Почему вы думаете, что они взяли деньги?
Тогда Пашенька совсем рассердилась:
— Да ведь нет же денег! Вот смотрите сами!
Выхожу в столовую, осматриваю стол. Действительно, денег нет.
— Вы не брали, — говорит Паша, — девчонки не касались — кто же, спрашивается, взял? В квартире у нас больше никто не живет, никто чужой не заходил со вчерашнего вечера... Может, вы скажете, это я взяла?
— Да что вы, Паша, — говорю я. — Вот возьмите еще рубль, купите что надо.
— Нет уж! — отвечает расстроенная Пашенька. — Не возьму я никаких других денег, не буду ничего покупать! Как можно? Чтобы среди бела дня в своей квартире пропадали деньги! Этого я не могу допустить! Скоро ничего нельзя будет положить на стол... Вор завелся у нас в доме!
У девочек в большой комнате становится очень тихо.
— Вы думайте что хотите, — еще больше расстраивается Паша, — а за хозяйство я отвечаю. Вон в шестой квартире, напротив, вдруг в один прекрасный день вот так же у одного жильца пальто пропало с вешалки и часы золотые. Так он знаете что сделал? Сейчас же заявил в милицию. Через пятнадцать минут приезжает в ту квартиру агент с собачкой, проводит собачку по всем комнатам, отцепляет с поводка и говорит: «Ищи». Собака как зарычит да прямо в кухню! И бросается на одного человека, так и вцепилась в него зубами. Тот сразу как задрожит. «Ради бога, — шепчет, — возьмите вашу ужасную собаку, я пальто вам сию минуту отдам. А часы — извините, я на кухне в кастрюльку спрятал...» Вот какие есть замечательные собаки-ищейки! От них никакой вор не спрячется... Нет, вы уж как хотите, а я сейчас надену галоши и пойду заявлю, чтобы к нам такую ищейку моментально прислали.
За дверью послышалось движение. Анкин голос произнес решительно:
— Никуда ты не пойдешь!
— Нет, пойду, — говорит Паша. — Почему же не пойти? Вот надену галоши и пойду.
Громкий дружный шепот из-за двери:
— А мы твои галоши возьмем и спрячем.
— А я попрошу тетю Веру, она позвонит по телефону, адрес наш скажет. Милиционер сейчас же прыг с собакой в трамвай — и тут как тут!
— А собак не пускают в трамвай!
— Простых не пускают, а ищеек — сколько угодно. Я сама видела. Им свободный проезд во втором вагоне на передней площадке. А как же — если ей надо вора скорее найти?.. Так я, значит, пойду, — вздыхает Паша. — Вот какое у нас горе-несчастье...
— Все равно, — кричит Анка, — мы ее в большую комнату не пустим! Мы будем держать дверь за ручку крепко-крепко и не откроем ни за что!
— Почему же вы не откроете? — удивляется Паша. — Ведь это же не вы взяли деньги. Чего же вам бояться? Она на честных людей не кидается, только на воров...
Паша идет в переднюю и начинает нарочно громко шаркать галошами по полу.
Но тут в большой комнате раздается такой дружный, отчаянный плач, что я вскакиваю, бегу, распахиваю дверь и принимаю в свои объятия бедных, трепещущих преступниц.
— Ой, какие глупые девочки! — говорю я. — Не стыдно вам?
Алена — сейчас же к Пашеньке:
— Вытри мне слезки своим платком.
— Я и смотреть-то на тебя не хочу! — ворчит Паша и вытирает ей слезы.
Алена прижимается к ней, глубоко-глубоко вздыхает, задумывается и говорит:
— Пашенька, а если эти деньги опять лежат на столе, тогда что?
— Тогда все в порядке, — быстро говорю я и делаю Паше знаки. — Может быть, Паша, вы в самом деле плохо искали на столе...
— Мы пойдем поищем, — говорит Алена. — Правда, Анночка?.. Только вы не смотрите на нас и не ходите за нами. — И, отвернувшись от нас, она шепчется с Анкой и стремглав бежит в столовую.
И сейчас же на всю квартиру раздается ее радостный крик:
— Идите все скорей сюда! Вот они! Смотрите: лежат как ни в чем не бывало.
В самом деле, на краю стола лежат две злополучные монетки.
— Вот здорово! — усмехается Паша. — Как же это я их не заметила?
— Вот же они, пожалуйста! Вот вам ваши деньги! — торжествует Аленка.
Иришка, раскрыв рот, смотрит на Анку. Анка же молчит и плачет.
— Что же плачешь, Аня? — говорю я тихо. — Видишь, деньги нашлись, это просто какая-то странная история. Я думаю, больше никогда ничего подобного не случится в нашем доме. Я знаю, вы не будете брать деньги без спросу. И зачем вам деньги, я не понимаю?..
Иришка посмотрела на Анку и сказала:
— А если нам опять захочется мочеников?
— Так вы мне просто скажите: «Дай нам, пожалуйста, немножко денег на моченики». И я вам сама дам, если у меня будут. Правда, Анночка? Ведь это же лучше.
Анка морщит лоб и молча кивает головой. Но поднять на меня глаза она не может.
МЫ РАССКАЗЫВАЕМ СКАЗКИ
Зимний день короткий; не успеешь пообедать, как уже за окнами синеет и незаметно подкрадывается вечер. После обеда девочки приходят ко мне, в мою маленькую комнату, снимают ботинки и залезают на мой широкий низкий диван, покрытый мохнатым зеленым одеялом.
На дворе еще светло, в столовой уже стемнело, а здесь «серединка на половинку», как говорят девочки, но лампу зажигать еще не хочется. Это самое подходящее время, чтобы рассказывать сказки.
Сказка любит тишину и сумерки. Тогда ее легко достать с книжной полки, вынуть из зеленого походного мешка, который висит в углу на гвоздике, вытащить из-за оконной занавески. Где-то там прячутся и Мальчик с пальчик, и Золушка, и хитрый Иванушка-дурачок. Девочкам очень интересно, откуда появляется каждый раз новая сказка. Они следят за моими руками. «Закрой глаза», — говорят они мне. Я сижу на диване тихо, закрыв глаза и сложив руки на коленях. И все-таки сказка тут как тут. «Сказки прячутся у тебя в голове», — догадывается Алена.
И вот девочки прижимаются ко мне: Анка — справа, Иришка — слева, Алена становится на колени у меня за спиной и кладет голову мне на плечо.
— Алена, сядь, тебе же неудобно так. И ты дышишь мне прямо в ухо.
— Я не буду дышать, — говорит Алена. — Что ли, я виновата, что Анка и Иришка заняли все хорошие места?
Иришка говорит:
— Это моя мама.
Но сейчас же она понимает, что этого не следовало говорить, быстро хватает мою руку и чмокает.
Анка возражает спокойно:
— Ну и что? Твоя мама, а наша тетя Верочка. Наша — общая.
Аленка шумно вздыхает у меня над ухом:
— Ну, начинай же! Честное слово, я не буду дышать.
— Хорошо. Слушайте, девочки, это самая прекрасная сказка на свете.
Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу...
Невод — это такая большая сеть, которой рыбаки ловят рыбу в море...
— А у нас в Фергане моря не было, — говорит живо Иришка.
— Молчи!.. — шепчет Анка.
Раз он в море закинул невод —
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод —
Пришел невод с травою морскою,
В третий раз закинул он невод —
Пришел невод с одною рыбкой,
С не простою рыбкой — золотою.
— А бывают настоящие золотые рыбки? — спрашивает Алена.
— Бывают, я сама видела, — говорит живо Иришка. — Только они не в море живут, а в стеклянной банке, в этом... в аквариуме.
— Тише! — сердится Анка. — Тетя Вера, читай, пожалуйста, дальше!
И я читаю дальше.
Я очень люблю старика, который не хотел взять выкупа с рыбки и сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».
Старик не жадный, не то что старуха, которая все больше и больше требовала себе от рыбки богатства и почета, хотела стать дворянкой, царицей, даже владычицей морскою, хотя была глупая и злая и ничем не заслужила ни власти, ни славы.
— Так ей и надо! — говорит Анка, когда старуха осталась опять со своим разбитым корытом. — И зачем только старик ходил к рыбке? Я бы на месте рыбки ничего старухе не дала, лучше бы старику все сделала — назло этой привереде!
Но Иришка сидит, вся красная, и бормочет смущенно:
— А я бы все-таки... я бы на месте старухи... остановилась на царице...
Анка вскакивает в страшном негодовании:
— Ты, что ли, сама хочешь быть царицей?! — и толкает Иришку обеими руками.
Иришка сваливается с дивана на пол, пищит. Аленка начинает хохотать и катается по всему дивану. Поднимается такая возня, что надо поскорей зажигать лампу. А когда в комнатах светло, тут уж не до сказок — при свете хочется играть, шуметь, топать ногами и кричать.
Но девочки очень любили наш сказочный час. Сначала они только слушали, как я рассказывала сказки, потом научились сами рассказывать. Правда, они рассказывали те сказки, которые уже слышали раньше, но все-таки интересно было послушать их.
— Жила-была одна лягушка, — так рассказывала Аленка. — Она была зеленая, а глазки у нее были кругленькие. А сама она была совсем не лягушка, а просто красавица. Ночью ей не хотелось спать мокрой, она снимала свою шкурку и ложилась в сухую постель. А один раз она обедала в гостях и косточки от курицы засунула себе в рукав. Пошла танцевать — и все рассыпалось. Все думали — это косточки, а, оказывается, это живые птички. И они ка-ак полетят!..
Анка и Иришка старались Аленку поправить.
— Совсем не так было, — говорили они.
Аленка обижалась:
— Нет, так, я сама видела...
И все смеялись.
А мне очень нравилось, как рассказывала Аленка.
— Сказочники тоже так делают, — говорила я девочкам, — что-то рассказывают по памяти, как сами слышали, а что-то прибавляют от себя. Тем-то и хороши сказки, что к ним можно что-то прибавить. Ведь и «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкину рассказала его няня, а он потом написал все по-своему.
А как-то раз я сама придумала девочкам сказку, совсем новую, которую еще никто никогда никому не рассказывал. Вот как это случилось.
Весной мы часто ходили гулять в маленький сад на Владимирской улице. Туда привезли с Днепра огромную кучу чудного желтого рассыпчатого песка, из которого можно было лепить домики, огороды с грядками, длинные каналы. Наш знакомый художник однажды вылепил там фигуру женщины: она лежала на дорожке, положив голову на руку, и ее никто не трогал, пока не пошел дождь и она сама не рассыпалась.
Утром в этом саду собиралось много детей — и скоро у нас все кругом были знакомые. Особенно хорошо умела знакомиться с незнакомыми Аленка. Она то и дело подводила ко мне (я сидела на скамейке и читала) мальчиков и девочек и говорила:
— Это Боря, у него вчера родился новый братец.
Или:
— Это Галя, она с бабушкой пришла, мама у нее на работе.
Но однажды Алена прибежала, тихонько закрыла книгу, которую я читала, и, вздохнув глубоко, зашептала:
— Вон там сидит один мальчик. Мама посадила его на скамейку, а сама ушла. А он сидит и не хочет пойти со мной лепить домики. Поговори с ним.
И, взяв меня за руку, она повела меня к дальней скамейке, где сидел, пригорюнясь, смуглый худенький мальчик в пальто и матросской шапочке. Я присела рядом с ним. Он осторожно отодвинулся от меня и засунул худые ручки в карманы пальто.
— Как тебя зовут? — спросила я.
Он взглянул на меня и ответил вежливо:
— Алик.
— А это Алена, — сказала я, подталкивая к нему Аленку. — Она удивляется, почему ты не играешь в песок, как все ребята. Разве тебе не хочется?
— Мне хочется, — сказал мальчик, пожав плечами.
— Ну, идем! — закричала Аленка и схватила его за рукав.
Он с опаской отодвинулся от Аленки.
— Постой, Алена! Может быть, мама не велела Алику играть с незнакомыми девочками, пока она не придет. Вот она вернется, мы ее попросим, чтобы она позволила Алику поиграть в песок вместе со всеми.
— Нет, — сказал мальчик, — ничего не выйдет. Мама сама рада была бы... Но мне нельзя играть.
— Почему? — удивились мы с Аленкой.
— Посмотрите на мои ноги, — сказал мальчик доверчиво. — Видите, они как палочки. Они у меня часто ломаются. Уже четыре раза ломались. Чуть побегу — упаду, и сейчас же нога ломается — то в коленке, то внизу. Такая болезнь. Надо быть очень осторожным, мама говорит. А то опять придется лежать в больнице. А ногу упрячут в гипс...
Мы смотрели на него с жалостью. Но он взглянул на меня своими серьезными черными глазами и улыбнулся:
— Когда-нибудь я все-таки вылечусь! Доктор сказал маме, что я даже, может быть, буду кататься на коньках. Я очень люблю смотреть, как катаются на коньках. Это так красиво! И весело. Мама катается, а я сижу и смотрю на нее.
«Бедняжка! — думала я. — Нет, видно, тебе не кататься на коньках».
Грустно видеть больного ребенка. Алена постояла-постояла около Алика и ушла играть в песок.
А мы сидели с Аликом и разговаривали. Я узнала, что его папа учит студентов в университете, что у папы больное сердце, что маме приходится ухаживать за двумя больными, что она очень боится за Алика, не дает ему одному пройти даже по комнате, кричит: «Тише! Осторожнее!» А, в сущности, вот уже целый год он совсем здоров, и ноги как ноги, и ничего с ними не делается. Потому что его два лета возили в Одессу и делали ему там грязевые ванны. И доктор теперь велел ему ходить понемножку. Но мама так и дрожит, когда он встает с места... Правда, он уже научился читать, и у него много книжек. Но все-таки ему хочется иногда и поиграть с ребятами. А мама говорит: «Умоляю! Они тебя толкнут — и все начнется сначала». Мама приводит его сюда в сад, сажает на скамейку — подышать воздухом — и уходит в магазины. А он сидит один и смотрит, как играют ребята. Ему, конечно, и хочется поиграть, но страшно.
Разговаривая, Алик все глубже засовывал в карманы свои тоненькие руки.
Мне очень хотелось обнять его. Я положила руку ему на плечо. Он посмотрел на меня сбоку и перевел взгляд на ребят.
Вдруг набежало облачко и полил крупный и частый дождь. Дети с криком бросили игру и побежали к своим мамам и няням. Те поспешно укрывали их кто чем мог и уводили куда-нибудь — в беседку, в подъезды домов, в магазины.
А я, признаться, очень люблю дождь и не боюсь его; и девочек своих приучила не бояться. Ну, вымокнешь немножко — что за беда? Зато как приятно, как весело под весенним дождем! Все деревья и цветы радуются дождю.
Но теперь я подумала, что Алику, наверное, вредно мокнуть под дождем.
— Девочки! Скорей ко мне! Аня, Алена, Ириша! Идемте! — позвала я. — Давай я возьму тебя на руки, — сказала я Алику.
Он застеснялся:
— Нет, я могу потихоньку сам идти. Дайте мне только руку, чтобы я не упал.
И мы потихоньку пошли из сада. Тут дождь кончился, только с деревьев капало.
У ворот мы встретили запыхавшуюся маму Алика, которая спешила за ним. Мы остановились, познакомились, немного поговорили.
— До свиданья, Алик, приходи завтра опять! — сказала Аленка.
— Спасибо, — улыбнулся мальчик, — приду непременно.
Назавтра мы обошли с Аленкой весь сад, но Алика не было.
— Наверное, у него опять сломались ножки-палочки, — печально сказала Алена.
Больше мы Алика не встречали нигде. Но я почему-то не могла забыть его. Тогда я придумала сказку — о том, как Алик выздоровел. И рассказала ее девочкам. Эту сказку потом напечатали в моей первой книжке, которую я тогда писала.
Вот она, эта сказка, на следующей странице.
«ПАЛОЧКА С ШАРИКОМ»
Если шестилетний мальчик сидит, пригорюнившись, один на скамейке в саду, когда другие дети ездят на трехколесных велосипедах, играют в лошадки или лепят из песка всякую всячину, могут быть только два объяснения: или его строго наказали, или этот мальчик болен. Впрочем, когда ребенок болен, это хуже всякого наказания.
У Алика была беда с ногами. Врачи говорили, что в костях у него не хватало каких-то солей и оттого кости были очень хрупкие и легко ломались. Стоило Алику, разыгравшись-разбежавшись, споткнуться даже на ровном месте, упасть на пол или на землю — и ножки его ломались, как игрушечные.
Потом приходилось целые месяцы лежать неподвижно в постели с туго забинтованной ногой. А это невесело, товарищи!
Два лета подряд Алика возили на юг, к морю, в Одессу, и там каждый день делали ему соленые грязевые ванны. Ноги его окрепли, и он мог уже ходить сам, не держась за мамину руку, и играть с другими ребятами.
Но Алик так привык, что ноги у него ненадежны, что боялся сделать лишнее движение. Вообще он всего боялся: шумных игр, веселых мальчишек, чужих взрослых, уличной толпы, темной комнаты. Он всегда старался спрятаться в уголок, молчал и только смотрел на всех своими умными черными глазами. Он научился читать и прочел много толстых книг с картинками и без картинок. Ему хотелось рассказать кому-нибудь про все чудеса, которые он узнал из книг, но мама была озабочена его болезнью и говорила только о докторах и лекарствах, а папа читал лекции студентам в университете и сам давно знал все, что Алик хотел ему рассказать. Товарищей у Алика не было.
В хорошую погоду утром мама отводила Алика в сад недалеко от дома, сажала на скамейку и уходила по своим делам. Алик сидел один, смотрел, как играют другие дети, и скучал.
Как-то раз рядом с ним сел на скамейку высокий седой человек с толстой кожаной сумкой в руках. Он посмотрел внимательно на Алика и спросил, почему он не играет, как все ребята. Алик сказал ему про свои больные ножки. Старик сказал:
— Это очень хорошо, что я встретился с тобой, мальчик. Я — врач и знаю твою болезнь. Хочешь, я тебя вылечу?
Алик обрадовался:
— Пожалуйста, вылечите меня! А то меня уж и так дразнят теперь: «Ножки-палочки! Ножки-палочки!»
— Ну-ка, дай мне потрогать твои «ножки-палочки», — сказал старик и своими большими руками крепко взял ноги Алика, повернул их вправо и влево, вверх и вниз. Потом поставил Алика на дорожку и сказал: — Сдвинь ножки близко-близко, закрой глаза и протяни вперед руки... Вот так. Хорошо. Можешь опять сесть.
Он порылся в своей кожаной сумке и вынул маленький блестящий шарик на костяной палочке.
— Вот возьми эту палочку с шариком. Она чудесная, эта палочка. Запомни хорошенько: с тобой ничего не случится плохого, если палочка будет с тобой. Носи ее всегда в кармане или в руках — и не бойся ничего. Ложась спать, клади ее с собой рядом. Если не сможешь заснуть, возьми палочку и смотри на шарик — прямо в блестящую серединку. Смотри до тех пор, пока глаза твои не начнут слипаться. Тогда сон придет к тебе, ты уснешь и будешь спокойно спать до утра. Ты понял меня?
— Да, — сказал Алик и взял палочку с шариком. — Со мной ничего не случится, пока палочка будет у меня. Большое спасибо! Я буду всегда носить с собой эту палочку.
— А теперь вставай и пойдем домой, — сказал старик.
Алик не привык сам слезать со скамейки и с опаской посмотрел на старого доктора, который легко, как молодой, встал, распрямился и ждал его.
— Не бойся, — сказал доктор, и Алик перестал бояться и слез со скамейки. — Я бы мог дать тебе руку, — сказал, улыбаясь, старый доктор, — но ты теперь можешь отлично идти и сам, ни за кого не держась. Ведь с тобой твоя палочка.
И Алик пошел, ни за кого не держась. Сначала они шли тихо, и Алик иногда останавливался и глядел искоса на свои ноги. Тогда старик клал свою большую руку ему на голову и говорил: «Все хорошо. Иди смело. С тобой ничего не случится плохого».
Алик скоро почти забыл про свои ножки-палочки и все смелей и все быстрей шагал рядом со старым доктором. Старик рассказывал, что он тоже был когда-то маленьким и боялся темноты, пока не увидел однажды вечером на темном небе звезду.
Так дошли они незаметно до самого дома, где жил Алик.
— Ну, до свиданья, — сказал старик. — Теперь я знаю, где ты живешь, и как-нибудь приду тебя проведать. Иди и передай привет твоей маме. — И он открыл перед Аликом тяжелую входную дверь.
— А как же я? — спросил Алик и со страхом посмотрел вверх.
Они жили на четвертом этаже, и мама всегда несла его на руках по лестнице.
— Четвертый этаж? — сказал старый доктор. — Это не так высоко. Надо только смотреть себе под ноги и не переступать через две ступеньки. Счастливого пути.
Он снял свою старую черную шляпу, поклонился Алику, как большому, и ушел не оглядываясь.
Алик вошел в подъезд и стал на первую ступеньку. Сердце у него замирало, но он сунул руку в карман, нащупал палочку и, держась другой рукой за перила, начал подниматься по лестнице.
Дальше — выше, Алик шагал все смелей, и ему вдруг стало очень весело. Он даже запел потихоньку какую-то песенку.
— Мама, мамочка! — закричал Алик, когда мать отперла ему дверь и ужаснулась, что он пришел один. — Посмотри, что у меня! Это волшебная лечебная палочка! Мне дал ее старый доктор и сказал, что вылечит меня, и велел тебе передать привет.
Мать со страхом слушала рассказ Алика и качала головой: и верила и не верила и все-таки радовалась, потому что каждой матери больше всего на свете хочется, чтобы ее сын был здоров и весел.
— Я теперь все могу, — сказал Алик. — Со мной ничего не случится, раз у меня эта палочка.
Весь день он не расставался со своей палочкой. Даже обедал, держа ложку в одной руке, а в другой палочку. Но мама сказала, что так неудобно, — пусть палочка лежит рядом с тарелкой.
Вечером, когда Алик лег в постель и мама погасила свет, ему стало холодно и скучно одному, и он услышал, как сердце колотилось у него в груди. Тогда он вспомнил про палочку, взял ее в руку, поднес к лицу шарик и стал смотреть на него.
За окошком горел уличный фонарь, луч света падал на блестящий шарик; и он тоже светился — казалось, что внутри него, в самой глубине, кто-то подмигивал Алику, и слышался тихий шепот, Алик так старался рассмотреть и расслышать, что у него стали слипаться глаза и зазвенело в ушах. Он не заметил, как уснул, держа в руках палочку с шариком.
Пришла мама, тихо вынула из сонных пальцев палочку, положила рядом с подушкой, подоткнула с краю одеяло, покачала головой и ушла. И в первый раз за многие месяцы Алик крепко спал всю ночь, не просыпаясь; а утром встал свежий и веселый, как совсем здоровый мальчик.
С этого дня все пошло по-другому в жизни Алика.
Проснувшись утром, он не лежал, как раньше, долго в постели и не ждал, пока его оденут и обуют. Нет, теперь он сразу спускал ноги на пол, быстро вставал, сам одевался, умывался холодной водой, смело подставлял голову и шею под кран. Он съедал все, что давали ему на завтрак, целовал маму, засовывал палочку в карман — и был готов ко всему на свете.
Он смело переходил теперь улицу, и, если какой-нибудь автомобиль оказывался слишком близко, Алик крепче сжимал в кармане свою палочку, и машина, загудев над ухом, осторожно объезжала мальчика.
Маленькие школьницы, расчертив тротуар на клетки, гоняли камешек из одной в другую — это называлось «играть в классы». Алик так долго стоял около них на одной ножке, что девочки приняли его в свою игру. Потом они научили его прыгать через веревочку. И он уже решил как-нибудь пойти в сад на детскую площадку, познакомиться там с ребятами и поиграть в мальчишеские игры.
Но тут с ним случилась странная история.
Однажды мама сказала:
— На главной улице нашего города открылся новый магазин. Ты пойдешь вместе со мной за покупками.
Никогда раньше мама не брала Алика в магазины, и вот теперь он поехал с ней в трамвае на главную улицу.
Новый магазин занимал весь нижний этаж большого, только что построенного дома. Высокие двери вели в галерею, где с двух сторон тянулись белые прилавки, на которых были разложены нитки-катушки, клубки, пуговицы, гребенки, тетрадки, краски, карандаши, зонтики, веера, пестрые платочки, резные шкатулки из дерева и кости, прозрачные вазы и лампы с цветными абажурами, румяные куклы с полузакрытыми глазами, заводные птички и блестящие серебряные коньки...
Алик остановился около прилавка, где лежали коньки.
Маленькая толстенькая продавщица в белой кофточке, с красной косынкой на голове быстро и весело предлагала свои товары.
— Возьмите этот клубочек, — говорила она, — вы можете бросить его перед собой — он покатится вперед и приведет вас к счастью. А вот гребенка: если вам захочется погулять в лесу, бросьте ее на землю — и вырастет густой сосновый бор. Эта голубая птичка, если ее завести, будет вам петь все песни, какие вы любите. Если у вас нет подруги, советую вам взять эту куклу: ее зовут Таня и с ней можно дружить и разговаривать сколько угодно. В эту резную шкатулку очень удобно складывать все, что захочешь запомнить: откроешь ее — и сразу вспомнишь, что когда-то тебе было приятно. А вот этому мальчику, я вижу, понравились коньки! Пожалуйста, они будут тебе как раз по ноге. Давай я тебе их надену! — И она уже посадила Алика на прилавок, надела ему на ботинки коньки и ловко затянула ремешки на них. — Беги! Они понесут тебя хоть на край света, и тебя никто не сумеет догнать!
И коньки понесли Алика по галерее меж двух прилавков с разными веселыми товарами.
Алик прокатился вокруг всего магазина и вдруг вспомнил о маме. «Ай-яй-яй! — подумал он. — Она, наверное, потеряла меня и теперь, конечно, волнуется. Нет-нет, лучше не надо мне коньков!»
Он быстро докатился до веселой продавщицы и сказал:
— Снимите, пожалуйста, с меня эти чудесные коньки. Я не хочу укатиться от мамы.
— Как хочешь, — улыбнулась продавщица. — У нас все, как хотят покупатели.
И коньки опять вернулись на прилавок.
А мамы все не было.
Алик стоял и смотрел по сторонам. Вдруг ему показалось, что мама вышла в дальнюю дверь. Он поспешил за нею и вышел на улицу. Но нет, это была незнакомая женщина.
Алик не знал, что ему делать. На улице было многолюдно и шумно. Никто не обращал на него внимания. На углу стоял папиросник в круглой шапке и держал на ремне через плечо лоток с папиросными коробками.
— Эй, малыш, — закричал он, — что ты ходишь один по улицам? Тебя раздавят!
— Как бы не так! — сказал весело Алик. — Со мной ничего не может случиться плохого. Уж я-то знаю.
И он один отправился домой. Он пришел на остановку трамвая, влез в вагон с передней площадки и сел на переднее место. И так как он был совсем маленький, то у него никто не спросил билета. Но он никогда не ездил в трамвае один и потому проехал свою остановку.
— Пора выходить! — сказала кондукторша, когда они доехали до конца.
Все стали выходить из вагона, и Алик вышел со всеми.
Трамвай ушел обратно, люди разошлись, и Алик очутился совсем один на самом краю города.
Здесь кончались трамвайные рельсы и провода на столбах, высокий деревянный забор заворачивал в сторону, а прямо перед Аликом, совсем близко, начинался лес. На ближайшем дереве сидела ворона.
— Здррравствуйте! — закричала она. — С которррых поррр марыши (она не выговаривала букву «л») прррогуриваются без взррросрых?! Берегись! Пропадешь!
Алик никогда раньше не слышал, как ворчат старые вороны, и не бывал в настоящем лесу. Он ступил на лесную дорожку и очутился среди деревьев. Они кланялись ему и махали ветвями. А какое-то дерево бросило ему сверху широкий пятиконечный лист.
— Большое спасибо! — сказал Алик. — Я положу его в мою любимую книгу.
Вдруг из-за деревьев вышел на дорожку Серый Волк. «Беги...» — зашептали деревья. «Удирррай!» — крикнула ворона. Но Алик никогда еще не видел живого волка и не знал, что нужно делать в таком случае. Он стоял и ждал.
Волк подошел к нему и положил лапу ему на плечо.
— Молодец! — сказал чей-то голос, и появился человек в очках, с поводком и намордником в руках. — Честное слово, первый раз в жизни встречаю мальчика, который не испугался Волка! Волк, назад!
Серый Волк оставил Алика, поднял голову и стал лаять на ворону.
— Он совсем не страшный, этот Волк, — сказал Алик. — Он похож на собаку.
— Да, конечно, ведь они одной породы. Мой Волк — умный и добрый пес. И все-таки, скажу тебе прямо, пальца в рот ему не клади. Впрочем, я вижу, вы можете с ним подружиться... Правда, Волк?
Серый Волк быстро лизнул Алика в щеку и замахал хвостом.
Так Алик нашел в лесу двух хороших товарищей.
Они дождались трамвая, надели на Волка намордник, уговорили кондукторшу пустить их на переднюю площадку второго вагона (волкам и собакам не разрешается ездить в трамваях) и поехали домой к Алику.
Мама успела уже вернуться, поволноваться и даже поплакать.
— Ваш сын — настоящий храбрец, — сказал маме человек в очках. — Подумайте: он не испугался Волка!
— Ну, — засмеялся Алик, — все-таки это был не настоящий волк. И вы еще не знаете: я теперь ничего не боюсь — ведь со мной моя палочка!
Тут он сунул руку в карман и страшно испугался: палочки там не было.
— Мама! Мама! — закричал он отчаянно. — Я потерял мою палочку! Мою любимую волшебную палочку!
И он заплакал — совсем как маленький.
— Не плачь, пожалуйста, — сказала мама. — Она цела, твоя палочка. Ты просто забыл ее дома.
И правда, палочка лежала на окошке, на солнышке, и шарик был совсем теплый.
— Как же так? — удивился Алик. — Как же без палочки?.. Почему же?..
И он никак не мог понять, что дело было вовсе не в палочке.
А в чем же?
Может быть, вы догадаетесь?..
АНКИНЫ ОГОРЧЕНИЯ
Девочки собирались в гости. Был первый день Нового года, и наши знакомые устраивали елку. Я была нездорова и не могла идти с девочками. Пашенька должна была их проводить и потом прийти за ними. Чистенькие, причесанные, нарядные, они пришли ко мне «подушиться».
К Новому году Анке, как старшей, купили в магазине матросский синий костюм: юбка в складочку, воротник обшит в три ряда разноцветной тесьмой, на рукаве красный шелковый якорь — он нам нравился больше всего. Иришке и Аленке я сама сшила сарафанчики, а кофточки сшить не успела. Пришлось надеть Аленке ее голубую вязаную кофточку, а Иришке — Анночкину, точно такую же. Но все равно они все были хороши.
Я залюбовалась ими.
Аленка и Иришка были однолетки, одного роста, обе кудрявые, розовые, обе улыбались и сияли, обе в одинаковых платьях — точно два цветка с одной грядки, но чуть-чуть разного цвета.
У Анки же на лбу посредине часто ложилась морщинка, оттого что она много думала и очень старалась понять, что делается на свете. Но из-за этой морщинки можно было подумать, что Анка хмурая и неприветливая.
— Анночка, не хмурься, — сказала я и разгладила ей лоб. — Ну, девочки, давайте ваши руки!
Девочки стали в ряд передо мной и протянули мне ладошки. Аленка даже сделала горсточку, как будто духи можно налить, как воду.
Я надушила им волосы и платочки и дала каждой приложить ладонь к флакону. Иришка потерла ладошку о щеку и блаженно вздохнула:
— Как хорошо пахнет!
— Ну идите, передайте всем привет от меня и веселитесь. Да хорошенько запомните все, что будет на елке! Потом расскажете. А я буду дома одна — болеть и ждать вас.
Девочки наскоро чмокнули меня и ушли с Пашенькой. Я навела порядок в их комнате, постелила постели, прилегла на диван с книжкой — и стала ждать. Я представляла себе заранее, как они вбегут с морозца, холодненькие, веселые, розовые, будут наперебой рассказывать, что было на елке.
Но вышло совсем не так, как я думала.
Еще на лестнице слышен был плач. Плакала навзрыд Иришка. Войдя, она бросилась ко мне и уткнулась головой в колени.
— Что такое? — удивилась я и спросила Анку, как старшую: — Что случилось, Анночка?
— Почему вы всегда меня спрашиваете? — закричала Анка. — Не буду ничего говорить!
И убежала, не раздевшись, прямо в ботах, в свою комнату, бросилась на кровать и тоже заплакала.
— В чем дело? — недоумевала я. — Аленушка, расскажи хоть ты!
Алена тоже всхлипывала и терла варежкой глаза:
— Я не знаю... Аня с Иришкой поссорились...
Пашенька негодовала:
— Да разве с нашими детьми можно куда-нибудь пойти? Другие дети повеселились, потанцевали и домой пошли как добрые. А наши разве могут по-хорошему? Анночка Иришку прямо затолкала. А еще старшая! Что вам, тротуар тесен? Никуда их больше не поведу! Ни на какие елки, елки для хороших детей. А с нашими стыд один... Ну, а ты-то что ревешь? — прикрикнула она на Аленку. — Тебя кто тронул?
— Я сама... — всхлипывала Алена.
— Ничего не понимаю, — сказала я. — Ладно, Пашенька, давайте уложим их спать. Потом разберемся. Утро вечера мудренее. Во сне всякое горе забывается.
Мы поскорее помогли девочкам раздеться, уложили их в постели. У Иришки в кудряшках запутались разноцветные бумажные кружочки — конфетти.
— Это мне одна тетя насыпала на голову, — сказала Иришка и засмеялась от удовольствия.
— Ирка, замолчи! — крикнула Анка. — У меня от твоего смеха голова трещит!
— Вот Несмеяна-Царевна, — заворчала Паша. — Проторчала в углу целый вечер, как аршин проглотивши, а другие-то, слава богу, резвились и веселились... Чего сморщилась, будто лимон во рту? Никто с тобой и водиться не захочет. Вот Иришку как любят все... На елке все ее ласкали.
— Аленку тоже все любят, — сказала Анка дрожащим голосом.
— Аленка не больно нуждается, — сказала Паша, смягчаясь, и, уходя, погладила Аленкину голову. — Разве она у нас девочка? Она же — Алешка.
Паша погасила свет в детской комнате и ушла к соседке — там тоже были новогодние гости.
Девочки поворочались немного и затихли — верно, уснули.
Но у меня было неспокойно на душе: не читалось, я думала о девочках. Я встала, зажгла свет в столовой и вошла тихонько к ним в комнату.
Иришка, заплаканная, спала, подложив под голову обе руки; вся ее подушка была усыпана разноцветными кружочками конфетти. Алена спряталась под одеяло — она всегда спала, сжавшись в комочек, подобрав под себя ноги, как зверек, и уткнувшись лицом в подушку.
Анка пошевелилась, едва я подошла к ее кровати.
— Ты не спишь, Анночка? — спросила я.
Она ничего не ответила.
— Что-то мне не спится, — сказала я, присаживаясь на край постели. — Грустновато что-то...
— Почему? — прошептала Анка, поворачивая ко мне заплаканное лицо.
— Скучно было одной целый вечер. Я ждала, что вы придете, расскажете мне про елку, а вы мне ничего и не рассказали... Много было народу на елке? — спросила я, помолчав.
— Нет, — сказала Анка, — народу немного, только все наши ребята и их мамы, и еще тетя Люба и бабушка. А потом, уже поздно, приехала одна тетя...
— Какая? — спросила я.
— Она — артистка в театре, вот мимо которого мы всегда ходим гулять. Певица.
— Что ж, она вам спела что-нибудь?
Анка оживилась.
— У нее такой голос! — сказала она с восхищением. — Точно серебряный колокольчик, как в той сказке, которую ты нам рассказывала. И сама она красивая очень, она бы тебе понравилась. У нее волосы кудрявые, как у Иришки, — вздохнула она.
— Какую же песню она вам пела?
— Я немножко запомнила — хочешь, я тебе спою? — спросила Анка с загоревшимися глазами и села на постели. — Вот она что пела...
И тоненьким, дрожащим голоском, очень верно, очень музыкально и нежно она пропела знаменитую «Застольную» Бетховена:
За окнами шумит метель
Роями белых пчел.
Друзья, запеним светлый эль,
Поставим грог на стол...
— Хорошо? — прошептала Анка, взяв меня за руку.
— Хорошо, — сказала я.
Мы помолчали. В темной комнате по углам словно еще продолжали звенеть колокольчики. А за окошком, как и в песне, бесшумно летели рои белых пчел — шел снег, была зима, начинался новый год.
— У нее очень красивое платье, — сказала Анка, — зеленое-зеленое... Она сначала пришла без рукавов и сказала: «А рукава я принесла с собой в бумажке...» — и развернула бумажку, а там одни ленты на резиночке. Она резиночку надела на руку, вот здесь, за локтем, и оказалось — это рукава. Так красиво!
Анка вздохнула глубоко-глубоко.
— Что? — спросила я, чувствуя, что она хочет что-то сказать.
Вдруг она ударила себя кулачком по коленке и спросила, запинаясь:
— Что в этой Иришке такого особенного... что ее все так любят?
Бедная девочка! Вот в чем было дело: она завидовала. Она весь вечер простояла в уголке, не спуская глаз с красивой певицы. Она слушала ее с упоением, открыв рот, не шевелясь, замирая от восторга. Ведь у нее был абсолютный слух, говорил папка, она сразу запоминала все песенки, она могла бы лучше всех ребят петь вместе с артисткой, у нее в голове звенели все нужные нотки. Но красивая певица даже не взглянула на бледную, хмурую девочку, спрятавшуюся в углу. Она схватила на руки Иришку, посадила ее на рояль, осыпала цветными кружочками и хохотала звонко и целовала ее. А Иришка только чуть-чуть открывала рот, даже не было слышно ничего, и нельзя было разобрать ни одного слова.
— В Иришке? — спросила я с удивлением. — Почему ты так думаешь? Ничего в ней нет особенного. Девчонка как девчонка. Иногда капризничает и бывает довольно противная. Посмотрим, что из нее получится, когда она вырастет. Певицы, конечно, из нее не выйдет — голоса у нее нет, к сожалению.
Анка посмотрела на меня с надеждой и недоверием.
— У Иришки есть, правда, одно хорошее качество, — сказала я, — она очень ласковая, приветливая, всем улыбается. Когда человек улыбается, к нему хочется подойти, с ним хочется разговаривать, с ним легче подружиться. А с тобой, например, кто-нибудь захочет поговорить, а ты отодвигаешься да хмуришься, как будто ты сердишься или у тебя живот болит. Ты не хмурься, прогони свою серьезную морщинку, а то даже я ее иногда боюсь... Вот опять она появилась. Батюшки, мне страшно!
Анка потрогала лоб и улыбнулась.
— Ага, ты, оказывается, умеешь улыбаться?.. Вот и сразу стало милое лицо. Как говорится: будь веселее — будешь всем милее!
— Разве так говорится? — сказала развеселившаяся Анка. — Ты это сама придумала.
В передней стукнули дверью: ушли соседкины гости.
— Ой-ой, как мы с тобой заболтались! — сказала я. — Сейчас Паша придет, удивится, что мы еще не спим. Спи скорее!
Анка легла на подушку, потом привстала опять, быстро обхватила меня руками, поцеловала в глаз и легла, притихла, затаилась, как мышка.
— Спокойной ночи! — сказала я, вставая.
Но она вдруг поймала меня рукой за платье.
— Что? — спросила я, наклоняясь к ней. — Что ты хочешь сказать?
— А может быть, это потому, что на Иришке была моя голубенькая кофточка? — прошептала Анка. — Лучше завтра я сама ее надену. А Иришка пусть носит мою матроску. Хорошо?
— Хорошо, — сказала я. — Завтра видно будет. А теперь успокойся и усни. Улыбнись, закрой глаза и спи.
Анка улыбнулась и послушно закрыла глаза.
Я тихонько ушла и потушила свет в столовой.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Над моим столом висит маленький толстый календарь — мне его подарили к Новому году. Каждый вечер кто-нибудь из девочек отрывает от него один листочек — это значит, что сегодняшний день кончился. Иногда я позволяю девочкам снять календарь с гвоздика и рассматривать картинки, которые там на каждой страничке.
Девочки уже знают, что, сколько листочков в календаре, столько дней в году, что каждый год бывает зима, весна, лето, осень, что от елки до елки пройдет двенадцать месяцев (их трудно запомнить, они все по-разному называются), что бывают дни простые, будничные, а бывают праздники. Все праздники в календаре покрашены веселой красной краской. Например, Седьмое ноября, Первое мая, Новый год, Ленинский день и все выходные дни — воскресенья.
Как-то в начале февраля, перелистывая календарь, я говорю девочкам:
— Скоро у нас праздник.
— Где? Покажи! — просят они.
— Вот! — И я открываю страничку: 12 февраля.
Девочки смотрят: черное число, никакого праздника нет. Простой день, обыкновенный.
— Красное число — праздник для всех, — говорю я, — а это — наш с Иришкой праздник.
Девочки удивляются: разве может быть у нас с Иришкой свой, отдельный праздник?
— У каждого человека есть свой праздник: день рождения, день, когда этот человек родился. Четыре года назад, двенадцатого февраля, у меня родилась дочка — Иришка. Значит, день двенадцатого февраля — Иришкин праздник. Ну, и мой тоже, ведь она моя дочка, и я ее люблю и радуюсь, что она живет на свете. Вот мы и будем этот день праздновать. Мы подарим Иришке какой-нибудь подарок, попросим Пашеньку испечь сладкий пирог, позовем гостей и будем веселиться. Хорошо?
— Хорошо! — говорит Иришка и хлопает в ладоши.
Но Анка и Алена молчат и что-то думают.
— А когда мой день рождения? — спрашивает Анка и берет у меня из рук календарь. — Покажи! И Аленкин тоже!
А я и не знаю, когда родились обе девочки. Приходится обращаться к Пашеньке. Пашенька говорит, что Аленкин день рождения — восьмого мая, а Анночкин — двадцать первого февраля.
— О, так, значит, у нас в феврале два праздника. Чудесно! Значит, мы сначала отпразднуем Иришкин день, а потом Анночкин!
— Почему сначала Иришкин? — говорит, нахмурясь, Анка. — Я же старшая. Я раньше ее родилась!
— Но ведь сначала в календаре двенадцатое число, а уж потом двадцать первое, посмотри сама. Твой день рождения через девять дней после Иришкиного.
Но Анка отталкивает календарь и смотрит на меня сердито.
— Я на целых два года старше! — отчеканивает она. — Иришка после меня родилась... Почему же она первая будет праздновать?!
— Ты старше, — говорю я, — но пойми же, девочка...
И я начинаю объяснять, что в каждом году бывает месяц февраль, что Анночка родилась в одном феврале, а потом, уже через два года, в следующем феврале, родилась Иришка, но она не в тот же день родилась, что Аня, а на девять дней раньше, и если считать хорошенько, то Анночка старше Иришки не на целых два года, а ей надо еще дорасти девять дней...
Анка слушает-слушает, и вдруг слезы льются ручьями у нее из глаз, и, упав на диван, она повторяет без конца:
— Я же раньше ее родилась... я же старшая...
Аленка тоже начинает плакать.
— А ты-то что плачешь? — говорю я с досадой. — Твой день еще не скоро, в мае...
— Это вы нарочно... — всхлипывает Алена, — вы нарочно Иришку раньше меня родили... (Когда девочки сердятся на меня, они называют меня на «вы».) А сами говорили: мы с Иришкой ровесницы! Это вы нарочно...
Тут уж, обидевшись за меня, заплакала и моя Иришка.
Мне даже смешно стало, я смеюсь, а они ревут еще пуще. Ну что мне делать с такими глупыми маленькими девочками?! Я закрываю лицо обеими руками, кладу голову на стол и начинаю причитать:
— Ой-ой-ой! Ай-ай-ай! Ах-ах-ах! Я же старше всех. Я же самая старшая!..
Девочки перестают плакать и смотрят на меня. А я охаю все громче:
— Ох-ох-ох! Бедная я, бедная... Я старше всех, а мой день рождения только осенью — в самом конце календаря... Как же мне быть, что мне теперь делать?
Иришка не выдерживает и начинает меня целовать.
Вдруг Анка говорит решительно:
— К черту этот проклятый календарь! — хватает его со стола и размахивается.
Но я вовремя удерживаю ее за руку.
— Ну, уж нет! — говорю я, и девочки видят, что я только притворялась, будто ревела. — Все советские люди живут по этому календарю, а какие-то глупые маленькие девочки не умеют ни читать, ни считать и устраивают скандалы по пустякам. — Я торжественно водружаю календарь над столом и объявляю: — Запрещается прикасаться к этим листочкам! И никаких дней рождения мы праздновать не будем! Вот!
Тут девчонки опять заплакали, потом стали жаться ко мне и просить, чтобы я им «вытерла слезки» и помирилась с ними.
— Вы не со мной должны помириться, а с календарем — ведь это с ним вы поссорились, — смеюсь я.
— Все равно мы будем к нему прикасаться, — говорит Алена.
— И будем праздновать, как он велит: пусть уж... — вздыхает Аня.
А потом мы посоветовались с Пашенькой и решили праздновать вместе оба дня рождения — Иришкин и Анночкин. Выбрали славный денек посреднике между этими двумя днями (как раз было воскресенье — красное число в календаре), позвали гостей и отпраздновали на славу.
Я всем девочкам приготовила подарки — и Алене тоже, чтобы ей не было обидно.
А пирог был один — общий, — и такой большой, что все ели-ели и еще на завтра осталось.
ПЕЙТЕ ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО
Анка простудилась и долго болела. Когда ей позволили встать с постели, она была такая худая, бледная и слабая, что жалко было смотреть на нее. Доктор велел ее поить горячим молоком с салом и медом. Тут-то и начались наши мучения. Анка вообще не любила молока, с трудом удавалось иногда заставить ее выпить кружечку. Но от горячего молока, да еще с медом и салом, она отказалась наотрез.
— Да ты попробуй, как вкусно, — уговаривала ее Паша. — Сало такое аппетитное, а мед такой сладкий!
Анка пробовала глоточек и сейчас же, закашлявшись, начинала плакать.
— Оно останавливается у меня во рту и не идет дальше! — всхлипывала Анка.
Иришка и Аленка сочувственно смотрели на нее и тоже отодвигали свои кружки.
— Мы лучше хотим киселя. Правда, Алена? — говорила Иришка.
Никакие уговоры не действовали. Девочки плакали, Пашенька сердилась, а молоко остывало в кружках, покрывалось сальной пленкой, и его уже совершенно нельзя было пить. Тогда Пашенька, гремя, собирала кружки со стола.
— И что это такое? — говорила она. — У других дети как дети, а у нас — принцессы. Самого лучшего сала — не хотят. Липового меда — не желают. Молоко у них в горло не идет. Нет уж! Терпения моего больше не хватает. Вот возьму и уйду от вас!
Аленка сразу начинала ныть:
— Пашенька, не уходи-и-и!..
Анка сдвигала брови:
— Ну и пусть...
А Иришка поспешно вытирала рот фартуком, испуганно говорила «спасибо» и выскальзывала из-за стола.
— Такое добро пропадает! — ворчала Паша, унося остывшее молоко на кухню. — В деревню бы вас отправить — вы бы там научились молоко пить!
Каждый день за завтраком повторялась эта история.
Но однажды, только что Паша поставила перед девочками кружки дымящегося молока, — появилась Муха.
Конечно, это была не просто муха, а одна наша знакомая девочка, Женя, которую прозвали Мухой, наверное, потому, что она была черненькая, с черными круглыми глазами, с темными кудрями. Она училась в школе, у нее были нелады с грамматикой, и она приходила заниматься со мной по русскому языку. А после уроков она часто оставалась поиграть с девочками в большой комнате.
Муха была первая школьница, с которой познакомились девочки. Они с уважением смотрели на нее, когда она говорила: «У нас в школе...» Она учила девочек петь революционные песни, которые пели пионеры в отряде, рассказывала, как пионеры ходят по домам собирать книжки для подшефной деревенской школы. Наши девочки тоже тащили ей свои книжки с картинками и обижались, что она их не брала, потому что это были «малышовые книжки», а не пионерские.
Муха очень любила повозиться с девочками и объясняла важно, что это ее «пионерское задание». Но, по-моему, ей просто было весело у нас. Впрочем, стоило ей сказать: «Довольно, я ухожу! У меня сбор», — и девочки тотчас отпускали ее, не пищали и не цеплялись за нее. Ведь это было так серьезно: сбор отряда! И только вздыхали, что они еще маленькие и не скоро будут ходить в школу и на сбор отряда.
Муха явилась на этот раз, как всегда, веселая, сияя черными круглыми, как вишни, глазами.
— Здравствуйте! Что это вы все такие кислые? — спросила она. — Как Анночкино здоровье? Поправляется?
— Как же, поправится она... — сказала Паша. — Доктор велел ей горячее молоко с медом и с салом пить, а она — фыр... фыр...
Женя села за столик к девочкам.
— А разве горячее молоко помогает? — спросила она меня.
— Ну конечно, — сказала я. — Горячее молоко быстро всасывается в кровь, человеку сразу становится тепло, он розовеет, веселеет, у него прибавляется силы. А глупые девочки этого не понимают.
Муха посмотрела на девочек, потом вдруг подмигнула мне и попросила:
— А можно мне попробовать?
— Пожалуйста! — обрадовалась я и придвинула к ней Анкину кружку.
Муха старательно помешала ложкой горячее молоко, отпила и сказала:
— Ух! Вот вкуснота! — Лукаво поглядывая на девочек, вкусно причмокивая, она быстро выпила всю кружку. — Вот спасибо! — и отодвинулась от стола. — Ну, теперь глядите на меня: что со мной теперь будет?! Ой, тетя Верочка, у меня уже прибавляется сила! Я чувствую. Я уж не могу сидеть на месте! Вот здорово!
Она вскочила с табурета, повернулась на одной ножке, закричала:
— Эй-эй! Кто хочет испытать мою силушку? Теперь меня никто не осилит! — и умчалась в большую комнату.
И там сейчас же раздался боевой революционный марш «Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!» Это была любимая песня девочек.
Аленка и Иришка живо выбрались из-за стола и побежали в большую комнату.
Анка подумала и тоже пошла за ними.
Они остановились у двери и смотрели на Женю, которая пела, сидя за роялем. Потом она вскочила, выбежала на середину комнаты, стала на носки, как балерина, и закружилась на одной ножке, держась за кончики своих кос. Покружившись, она бросилась мне на шею, целовала меня, смеялась и кричала:
— Правда, я стала розовая? Правда, я веселая?
И в самом деле, она стала розовая-розовая, глаза у нее блестели, она была такая хорошенькая, что приятно было смотреть на нее.
Анка смотрела-смотрела и вдруг сказала басом:
— Ладно уж... выпьем и мы по кружечке.
Пашенька поворчала немного, но все же подогрела молоко и принесла снова. Девчонки взяли кружки и, обжигаясь, принялись пить.
— Да вы подуйте! — смеялась Муха. — Языки обожжете...
Девочки пили молча, пыхтели от усердия и словно прислушивались к себе, ожидая, когда начнется чудесное действие горячего молока.
— Ого, смотрите, Анночка уже розовеет! — кричала Женя. — Правда, тетя Верочка?
— Да, конечно, — отвечала я серьезно.
А она заливалась-хохотала.
Когда молоко было выпито, ну и возню затеяла Муха с девочками в большой комнате! Она даже стала их учить кувыркаться — гопля! — через голову. Только я им не позволила: вредно опрокидываться, когда только что напились молока.
Тогда Женя обратила девочек в гусей, сама стала волком, села под роялем и страшно щелкала зубами. А когда гуси побежали домой, волк выскочил им наперерез... И чего тут только не было! Наконец Муха взглянула на часы и ахнула:
— Когда же я буду учить уроки?! — И, перецеловав девчонок и меня, кое-как нахлобучила вязаную шапочку на свои растрепанные кудри, закричала: — Пейте горячее молоко! — и умчалась вниз по лестнице.
Красные, вспотевшие веселые девочки, проводив ее, долго торчали перед зеркалом в большой комнате, рассматривали свои оживленные рожицы.
— Теперь посидим тихонько, — сказала я. — Надо силы поберечь, нельзя же все сразу истратить. Идите ко мне, я вам расскажу что-нибудь.
Вдруг Анночка запела во весь голос, чего с ней после болезни еще не случалось: «По-си-дим ряд-ком, по-бол-та-ем лад-ком!» Так любил говорить Алексей Максимович, и Анке нравилась эта поговорка.
Вот так уладилось дело с горячим молоком. Девочки скоро научились пить его с удовольствием. Пашенька смеялась и говорила, что Муха ловко их перехитрила.
Но мы-то уже знали, как хорошо действует горячее молоко на больных, вялых и непослушных детей.
И каждый может это проверить. Попробуйте!
АЛЕНКА ОТРАВИЛАСЬ
Вот уже три дня в доме «карусель», как говорит Паша. Приехали на побывку папа и мама Анки и Аленки. Все перепуталось. Утром девочки, босиком, в одних трусах, целый час делают гимнастику с Алексеем в большой комнате, возятся, пыхтят на всю квартиру, прыгают и хохочут.
— Молодцы! — кричит Алексей. — Ноги выше! Так! Ирина, а ты чего же? Не подымаются, говоришь? Плохи твои дела. Мало каши ешь.
— Она много каши ест, — уверяет Анка. — Это я кашу не люблю. А Иришка все, что угодно, ест. Просто у нее ноги короткие.
— Ничего, подрастут, — говорит Алексей. — Ну, теперь, в заключение, будет цирк. Парад алле!
Дверь в столовую, где мы с сестрой пьем чай, распахивается, и на четвереньках медленно входит Алексей. На спине у него торжественно восседают все три девочки, уцепившись одна за другую.
— Гоп! Гоп! — визжит Аленка. — Вы видите — это слон! Мы едем на слоне!
Торжественная процессия объезжает вокруг стола. Потом слон останавливается, мотает головой и вдруг начинает сердито трубить.
— Слышите? — говорю я. — Слон уже устал таскать трех таких больших девочек. Теперь надо его покормить — он целую ночь ничего не ел.
— А мы тоже ночью не едим! — кричат девочки. — Мы тоже голодные!
Тут слон неожиданно встает, и девочки скатываются с него, как с дерева.
— Ах, извините, мне надо вымыть лапки! — говорит слон тоненьким голосом и стремглав выбегает из комнаты.
Девочки тоже бегут за ним — умываться.
Потом они требуют, чтобы он завтракал с ними вместе за маленьким столом. Они стараются усадить его на низенький круглый табурет, но он никак не умещается — колени торчат выше тарелки; а когда пробуют спрятать его ноги под стол, вдруг весь столик с тарелками и чашками тихонько подымается вверх и качается. Девчонки хохочут и ничего не могут есть от смеха.
— Алексей Максимович, перестань! Пашенька не любит, когда за столом балуются, — говорю я.
Алексей делает вид, что страшно пугается, хочет спрятаться под стол — не выходит; тогда он с испуганным лицом начинает быстро и старательно резать что-то на пустой тарелке и с наслаждением есть это что-то; потом удовлетворенно поглаживает себя по животу, но внезапно замирает в удивлении и начинает разглядывать со всех сторон пустую чистую тарелку, ищет что-то на ней пальцами, пробует языком, с ужасом отставляет ее от себя и... падает без чувств к Анке на плечо.
— Ничего себе... разыграл! — говорит со смехом сестра.
— А мне-то что? — обижается Пашенька, ставя на стол котлеты. — Только вот как подавятся они...
— Давится только тот, кто плохо жует! — весело уверяет Алексей и подмигивает девочкам. — А ну-ка, товарищи, покажем Пашеньке, как мы умеем жевать! Жевать — это самое главное. Кто лучше всех жует, тот дольше всех жить будет.
И тут все так принялись жевать, что страшно было смотреть.
— А ну вас! — сказала Паша. — Чисто кролики...
Но все-таки она была довольна, потому что съели все с аппетитом — «подчистили до крошки».
После завтрака ездили «всей семьей — всей толпой» по магазинам, гуляли по Крещатику, зашли в кофейную, ели мороженое — по целой вазочке. Иришка даже не могла все съесть, сказала, что у нее «язык калеет», и отдала Алене. Вернулись домой, обедали все за большим столом, как взрослые, только Иришке пришлось подложить на стул толстые книги и ноты. А Аленка не захотела.
— Ну, и простояла весь обед на стуле на коленках, — сказала Анка.
— Ничего, — отмахнулась Аленка, — зато я была даже выше тети Веры.
После обеда Алексей сказал:
— А теперь, девочки, займитесь своими делами, а мы своими будем заниматься. Сейчас к нам придут художники из театра, знакомые придут повидаться. Давайте друг другу не мешать. Ладно?
— Ладно! — согласились девочки. — А можно, мы в большой комнате будем играть?
— Можно, — сказал Алексей, — валяйте! А мы будем в столовой.
— Только не очень шумите, — сказала сестра.
— Мы запремся, и ничего не будет слышно, — сказали девочки весело. Они очень любили играть в большой комнате.
Я ушла к себе и не видела, что они перетаскивали в большую комнату, как собирались играть. Скоро прибежала ко мне Иришка, взъерошенная, с озабоченной рожицей, и молча остановилась передо мной.
Это была ее манера: стоять передо мной и молчать, когда ей нужно было что-нибудь попросить.
— Что тебе? — спросила я.
— Нам нужно лекарство.
— Какое лекарство? Зачем?
— Нам нужно... — сказала она убежденно и стала крутить большой палец на левой руке.
— Что за выдумки! У тебя болит что-нибудь?
— Нет! — Она усиленно закачала кудрявой головой.
— А у Анки? У Аленки? Заболело горло от мороженого? Сейчас пойду посмотрю.
Иришка не дала мне встать:
— Ты, пожалуйста, не вставай. Не надо ходить. Отдыхай, читай книжку. Давайте не мешать друг другу. Ты нам только дай лекарство. Мы хорошо играем.
— Лекарство — не игрушка. Не выдумывайте глупостей! Не дам я вам никакого лекарства. Иди и не мешай мне.
Тут раздался звонок, я пошла отворить дверь. Иришка, недовольная, поплелась в большую комнату.
Пришли гости. Стали пить чай в столовой. Поднялся шумный разговор. Алексей рассказывал про спектакли, которые они ставили в разных городах, представлял в лицах целые сцены, вспоминал смешные приключения, случившиеся с ним в поездках. Я была занята угощением — разливала чай, резала сыр, колбасу, булки.
Пришли два художника. Они принесли рисунки — декорации и костюмы, и все стали их рассматривать. Алексей заспорил с одним из художников из-за его рисунка, и художник пошел в мою комнату, чтобы что-то поправить. Он устроился за моим столом и даже дверь немножко прикрыл, чтобы, как он сказал, собраться с мыслями.
Мы совсем забыли про девочек. Только один раз Иришка бочком проскользнула через столовую — в мою комнату.
— Эй, Иришка, что же ты не здороваешься? — закричал кто-то из гостей.
Но она уже убежала.
— В самом деле, что это не видно ваших девочек? — спросила наша знакомая тетя Котя.
— Они играют в большой комнате, — сказала сестра. — Пусть играют...
Войдя в мою комнату, Иришка остановилась как вкопанная, увидев за столом художника, который, прищурясь, стирал что-то резинкой на своем рисунке. Потом она сделала шаг вперед, склонила голову набок и сказала вежливо:
— Здравствуйте! Встаньте, пожалуйста. Мне нужно достать лекарство из аптечки, а вы заняли стул.
— Ах, извините, будь ласка! — весело сказал художник. — Что? Лекарство! Я вам сейчас достану. — Он открыл маленький шкафчик, висевший на стене. — Какое вам угодно?
— От кашля, — сказала Иришка.
Художник перебрал пузырьки на полочке, нашел один, отдал Иришке:
— Нашатырно-анисовые капли вас устраивают?
— Спасибо, — пролепетала Иришка и, как мышка, скользнула вон.
Художник закрыл шкафчик и опять сел рисовать.
В столовой никто не заметил, как Иришка прошмыгнула обратно.
Вдруг раздался пронзительный вопль в большой комнате.
Мы так и обмерли за столом.
— Что? Что такое? — тревожно спросила сестра.
Крик повторился, за ним еще и еще... Я вскочила и бросилась к двери. Она была заперта.
— Девочки, откройте сейчас же! — закричала я.
— Спокойно, — сказал Алексей и побежал в переднюю, откуда тоже была дверь в большую комнату. Мы все — за ним.
Нам представилась такая картина: на двух стульях была устроена постель, и на этой постели сидела Аленка, зажмурив глаза, широко раскрыв рот, и кричала. Анка и Иришка стояли рядом не дыша.
— Что случилось? Что с Аленой? — спросила я, беря Аленку на руки.
Она не переставала кричать, широко разевая рот, как галчонок, и только трясла головой.
— Анна, отвечай сейчас же, что вы тут сделали? — строго сказал отец.
Анка молча, округлившимися от ужаса глазами показала на табуретку, стоявшую рядом: на ней были какие-то коробочки, футляр от термометра, круглое зеркальце и пузырек. Чайная ложка валялась на полу.
— Ага, — сказал Алексей, беря пузырек, — нашатырно-анисовые капли? Понятно. Сколько она выпила?
— Пол ложечки, — запинаясь, сказала Анка. — Иришка ей только пол ложечки налила.
— Боже мой, отравилась! — закричала сестра. — За доктором! Скорее!
Услыхав про доктора, Алена перестала кричать, закрыла рот и заплакала.
— Спокойно. Позвони, мамка, в аптеку, — сказал Алексей.
Алена заплакала еще сильней. Гости в смятении столпились вокруг.
— Ну-ка, Алена, покажи горло, — сказала тетя Котя. Алена славилась своим умением «показывать горло» и сейчас тоже с готовностью раскрыла рот.
— Ничего страшного, — сказала, посмотрев Аленино горло, тетя Котя. — Я кое-что в этом понимаю, не бойтесь. Она просто немного обожгла горло. Надо согреть молока и напоить ее. Есть у вас уксус?
— Есть, — сказала дрожащая Пашенька. — Потерпи, Алешенька, сейчас принесу!
Принесли уксус. Тетя Котя налила несколько капель в стакан воды и заставила Алену выпить, пока на кухне грели молоко. Потом Аленка пила молоко, морщась при каждом глотке, слезы дрожали у нее на ресницах, и она говорила охрипшим голосом, что у нее уже не горит во рту и теперь она не умрет. Алексей взял ее на руки и ходил с ней по комнате, тихонько баюкая. Наплакавшуюся Анку Паша увела умываться.
В столовой я поила валерьянкой перепуганную сестру, и все говорили, как трудно с детьми, как опасны их выдумки: нужен глаз да глаз, ни на минутку их нельзя оставлять одних.
— А где они достали нашатырно-анисовые капли? — спросил кто-то. — Разве можно держать лекарство так, чтобы его могли взять дети?
— Увы, это я, — сказал молчавший до сих пор художник.
— Что — вы?
— Я дал им эти капли. Пришла девочка, очень вежливо попросила достать ей из маминой аптечки лекарство от кашля. Я думал, что ее послала мама, и любезно сам дал ей этот пузырек.
Все накинулись на художника, ахали и бранили его.
Я заступилась за него:
— Не надо его так ругать. А если бы в комнате никого не было? Иришка сама залезла бы в шкафчик.
— Хорошо еще, что я дал ей нашатырно-анисовые капли. Сама она могла бы взять что-нибудь похуже, — сказал художник.
— Надо запирать шкафчик! — взволновалась опять Аленкина мама. — Да-да, запирать на замок!
— Э, замков не напасешься! — сказал Алексей, успевший уже отнести уснувшую Алену в постель. — Да и что за беда? Ну, выпила вместо двадцати капель пятьдесят. Зато теперь небось подумает, прежде чем глотать что попало.
— И почему это ребята так любят играть в больных, в доктора? — сказала я. — Болеть и лечиться на самом деле не любят, а играть в это — для них первое удовольствие. Смешные девчонки! Теперь я понимаю: они решили играть в больных и прислали ко мне Иришку за лекарством. Я, конечно, отказала: «Глупости!» А они, видите, все-таки сделали по-своему...
— А я бы, — сказал Алексей, — сделал на твоем месте так: «Ах, вам лекарство нужно?.. Пожалуйста! У нас самая лучшая аптека! Вам какого лекарства дать? От кашля? Или от живота? Подождите минутку — сейчас приготовим...» Я — старый аптекарь, беру чистый пузырек, наливаю в него кипяченой воды, прибавляю чаю для цвета, затыкаю пузырек пробкой — все, как полагается. Пишу «рецепт» и привязываю к горлышку. «Будь ласка, получайте ваше лекарство! Капать по десять капель в ложечку, три раза в день. Можно не закусывать». И все было бы в порядке. Даже польза была бы: научились бы считать капельки. А вы говорите: нельзя давать лекарства. Пожалуйста! Надо только иметь чуточку воображения!
И он тихонько пошлепал меня по затылку.
Тут все засмеялись и стали собираться домой.
— А где же сама отравительница? — спросил, прощаясь со мной, художник.
Я вдруг вспомнила отчаянное лицо Иришки, когда мы вбежали в комнату на крик Аленки. С тех пор я ее не видела. В самом деле, где же Иришка?
Я стала искать ее.
Иришки не было ни в моей комнате, ни у девочек, ни на кухне. Обеспокоенная, я пошла в большую комнату — ее и там не было. Я взяла злополучный пузырек с нашатырно-анисовыми каплями и понесла к себе. Открыв шкафчик-аптечку и ставя пузырек на место, я вдруг услыхала не то вздох, не то стон.
— Ириша?
Никто не отзывается.
— Куда ты спряталась?
Молчание.
Отгибаю край скатерти, которой накрыт мой стол, и вижу в уголке, на полу, сжавшуюся в комок, бледную, неподвижную Иришку. Она не глядит на меня, когда я вытаскиваю ее из-под стола — всю холодную, дрожащую.
— Все обошлось, моя глупенькая, — говорю я. — Аленка уже спит — все обошлось... Только мы все так испугались за нее. Ах, девочки, девочки!
ДЕВОЧКИ В ТЕАТРЕ
Утром девочки просыпаются рано-рано. Сегодня они первый раз в жизни идут в театр. Алексей Максимович еще вчера вечером принес нам билеты, и мы идем слушать оперу «Сказка о царе Салтане».
Эту сказку девочки знают хорошо — я им читала ее несколько раз. Они любили повторять:
Ветер по́ морю гуляет
И кораблик подгоняет.
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах...
Театр они тоже знают — снаружи: мы проходим мимо него всякий раз, когда идем гулять. Но внутри они не были еще никогда. Сегодня они в первый раз увидят настоящий спектакль.
Провожая нас, Алексей Максимович говорит:
— Слушайте в оба уха, смотрите в оба глаза. И не забудьте, когда спектакль окончится, похлопать актерам. А то некоторые зрители сразу бегут одеваться — это невежливо. Зря, что ли, актеры для вас работают?
Театр в двух шагах от нашего дома, но девочки боятся опоздать, и мы отправляемся за полчаса до начала представления. Еще издали мы видим, что со всех сторон спешат к театру люди, театральная дверь не успевает закрываться. Девочки не могут удержаться и бегут за всеми. Я смеюсь над ними, но меня тоже охватывает нетерпение и веселое ожидание, как всякого человека, который идет в театр.
В раздевалке уже масса народу. Много девочек и мальчиков пришли — кто с родителями, кто с бабушкой, а школьники со своими учителями и учительницами. Школьников гораздо больше, чем таких малышей, как наши, — кажется, что сюда пришли целые школы. Наверное, это так и есть — ведь сегодня в театре «Детский утренник». Так написано на большой афише, которая висит на двери.
Оставив на вешалке свои пальто и шапки, мы вступаем в узкий коридор, который закругляется на две стороны, идем направо до конца, открываем низенькую дверь и входим в маленькую комнатку, похожую на коробочку, обитую красным бархатом. Передней стенки в коробочке нет — точно большое окно открыто в зал. Это и есть ложа, где нам дали места. В ложе стоят бархатные стулья — три спереди и три сзади. Девочки протискиваются вперед к барьеру, гладят бархатную обивку и смотрят в зал. У них глаза разбегаются. Круглый зал весь сверкает и светится, шумит и волнуется. Много-много красных кресел, и все заняты детьми и взрослыми. А вокруг зала этажами идут расписные позолоченные балконы, и на них тоже видны головы, головы... Ух, сколько народу помещается в театре! Шум, смех, разговоры. Но все головы то и дело оборачиваются к большому красному занавесу, за которым скрыто главное: сцена, где будет представление.
Наша ложа совсем рядом со сценой, и нам видно даже то, чего не видят зрители в зале. Под нами внизу — оркестр; мы видим, как собираются музыканты со своими инструментами, рассаживаются на стульях, раскладывают перед собой на пюпитрах ноты. В шум и гам зала врываются звуки настраиваемых инструментов. Звенит звонок.
— Ну, теперь садитесь на стулья и сидите тихо. Сейчас начнется, — говорю я девочкам.
Они поспешно влезают на передние стулья, но тут оказывается, что Иришка и Алена едва достают носами до барьера и им ничего не видно.
— Лучше мы будем стоять, — говорит Иришка и с сожалением расстается с мягким стулом.
А Аленка громоздится на коленки и кладет голову на барьер.
— Ну ладно, если устанете, я возьму вас к себе на колени, — говорю я.
Медленно гаснут огни в зале и у нас в ложе.
В полумраке мы видим, как среди музыкантов пробирается невысокий толстенький человек с палочкой в руках, влезает на подставку впереди всех, поворачивается спиной к зрителям и стучит палочкой по высокому пюпитру. Это дирижер, он управляет оркестром. Музыканты взяли в руки свои инструменты, приготовились, все глядят на дирижера. В зале становится тихо. Дирижер поднимает палочку. Начинается музыка.
Анка встает со стула и, раскрыв рот, смотрит на дирижера: как он машет своей чудесной палочкой над оркестром, поворачивает голову вправо и влево, кивает то скрипкам, то трем огромным контрабасам, то барабану, а то вдруг поднимет обе руки над головой и с силой тряхнет ими сразу. Скрипки поют, гудят контрабасы, тоненько заливаются флейты, вдруг гремит барабан, звенят медные тарелки... Анка слушает жадно и смотрит, и ей хочется самой петь и махать руками.
В эту минуту колышется и медленно раздвигается красный бархатный занавес.
Три красавицы девицы, в нарядных атласных сарафанах, сидят за прялками в просторной горнице. Две — рядышком, одна в сторонке. У них длинные, до колен, косы, на голове блестящие повязки. Они сидят так близко от нас, что нам видно: они только делают вид, что прядут, а больше смотрят на дирижера. По очереди они встают, оставляют свои прялки, выходят вперед, на самый краешек сцены, и поют о том, что они сделали бы, если б стали царицами. Вот очередь уже дошла до той девицы, что была всех моложе и красивее и сидела отдельно от своих сестриц. Только что она запела высоким нежным голосом, как вдруг Анка перевешивается через барьер и, протянув руки, радостно кричит на весь театр:
— А Салтан-то подслушивает! Вон он!
И показывает за кулисы, где в самом деле стоит царь Салтан со своей свитой и ждет, когда девицы споют свои желания и ему можно будет войти и выбрать себе царицу.
— Где? Где? — кричат ребята из зала и оглядываются на Анку.
А взрослые смеются, и теперь не слышно даже, что поет будущая царица.
— Ти-ше! — шикают на нас со всех сторон.
Растерянная Анка садится на свой стул и оглядывается на меня. Я обнимаю ее и тихонько объясняю, что в театре нельзя говорить громко, а то помешаешь актерам. Но мы видим, как за кулисами смеется сам царь Салтан и вся его свита.
Но вот действие кончается, занавес задвигается и закрывает от нас актеров. Ребята в зале хлопают в ладоши изо всех сил и кричат: «Бис! Бис!» Тогда царь Салтан со своей царицей, с ткачихой и поварихой, взявшись за руки, гуськом выходят сбоку и низко кланяются. Загораются лампочки над всеми дверями и у нас в ложе. Все в зале встают со своих мест и устремляются в коридор. А мои девочки все не могут угомониться и хлопают, хлопают в ладоши, как велел им Алексей Максимович. Наконец они садятся отдохнуть на бархатные стулья, и я даю им по яблоку.
Перед вторым действием, когда уже погасли огни и опять заиграла музыка, но занавес еще не раскрылся, Алена вдруг оживилась, глаза у нее заблестели; она обернулась ко мне и зашептала горячо, показывая в противоположный угол сцены:
— Тетя Вера, смотри — кто там?
Там, у занавеса, в самом углу сцены, стоял в своей блестящей каске пожарный, и около него лежал, свернувшись, как большая змея, пожарный шланг с ярко начищенным краном. Пожарный стоял — руки по швам, как солдат на часах, но, наверное, тоже смотрел на сцену и слушал пение.
— Это пожарный, — говорю я тихонько Алене. — Разве ты не узнала?
— Узнала! — шепчет Алена радостно и с восторгом глядит на пожарного. — А он скоро будет действовать?
Тут опять раздвигается занавес, и сказка продолжается. Но теперь Алену ничто уже в театре не интересует, кроме пожарного.
Даже когда князь Гвидон вылез из бочки на пустынном острове Буяне, сбил стрелой из лука злого колдуна-коршуна и лебедь белая превратилась в красавицу, а потом из простого деревянного пола выросли вдруг деревья, расписные дома, громко зазвонили колокола за сценой и отовсюду выбежали люди и стали петь и плясать, Алена обернулась ко мне и спросила:
— А когда же пожарный будет действовать?
Мы увидели белочку, которую вывезли на сцену в большой золотой клетке; белочка грызла золотые орешки и пела. Тоненький, черный с золотом шмель бегал по всей сцене на пиру у царя Салтана и злился, злился и жалил то ткачиху, то повариху, то старую бабу Бабариху. Анка и Иришка все ладоши себе отхлопали, когда спектакль кончился и царь Салтан с Гвидоном и царевной Лебедью и со всеми сестрицами выходили на край сцены и кланялись публике. Но Алена была разочарована.
— А почему пожарный так и не действовал? — спрашивала она.
Анка, которая даже не заметила пожарного, удивлялась:
— При чем тут пожарный? Разве в театре бывает пожар?
Я объяснила, что в театрах всегда дежурит пожарный — именно для того, чтобы не было пожара. Но Аленка огорченно пожимала плечами:
— Все-таки почему он не действовал?
И потом дома, когда девочек расспрашивали, понравился ли им театр, и Анночка и Иришка говорили: «Оччень понравился!» — Аленка прибавляла, вздыхая:
— Только пожарный почему-то так и не действовал...
КАК ХОРОШО ЛЕЧИТЬСЯ!
— У меня зуб качается, — сообщила утром за завтраком удивленная Анка. — Я хочу укусить корочку, а он качается.
— Ну-ка, покажи, — забеспокоилась я. — Тебе больно?
— Нет, — сказала Анка, — просто он качается — и все. Вот видите, я могу его сама покачать двумя пальцами.
Она широко раскрыла рот, и Аленка с Иришкой с интересом туда заглядывали.
— Не надо пальцами в рот лезть! Закрой рот, пожалуйста!
Анка закрыла рот, потом вдруг радостно заявила:
— Он и без пальцев качается! Можно языком его покачать.
— Придется вырвать, — сказала Паша.
— Как это — вырвать? — испугалась Анка.
— Очень просто, — успокоила Пашенька. — У нас на селе так делали: обмотают плохой зуб суровой ниткой, нитку за ручку двери привяжут. Ка-ак дернут дверь — и зуба нет!
— Я не хочу, — нахмурилась Анка. — Я не хочу дверью!
— А пускай он качается, — сказала сочувственно Иришка. — У меня вот тут сбоку тоже один немножко качается, а я ничего.
— Сегодня ничего, завтра ничего, а потом вдруг зацепишь его ложкой или вилкой — и проглотишь вместе с котлетой! — заворчала Пашенька. — Так и подавиться можно.
Девочки не хотели подавиться, и на другой день мы отправились в зубную лечебницу.
Очень хорошо это придумали: лечебница для детей — своя, отдельная, как будто немного игрушечная. Нас встретила молодая, краснощекая, белозубая няня; как перышко, подхватила Иришку, поставила на табуретку, быстро размотала шарф, расстегнула пальто, стащила шапочку, сунула все в рукав, повесила и номерочек дала.
— Нас можно всех вместе, — сказала я.
Но она засмеялась:
— Зачем же? Я каждой дам. Пусть дивчинка посмотрит, запомнит свой номерок, спрячет в карманчик и бережет. Потом, как окончат лечение, они мне — номерок, я им — пальтишко.
Девочки получили номерки, громко их заучивали: «У меня третий». — «А у меня десятый». — «А у меня какой?..»
Мы прошли по коридору, вошли в маленькую веселую комнатку с низенькими, очень удобными стульчиками, диванчиками и столиком, на котором стоял пестрый глиняный горшочек с цветами. Все стены комнаты были увешаны картинками, такими интересными, что Иришка и Анка сейчас же отдали мне на сохранение свои номерки и стали ходить вокруг комнаты, все рассматривая. Аленка успела уже так засунуть мизинец в дырочку железного номерка, что никак не могла его вытащить.
Девочки еще не умели читать, только Анка знала «главные буквы», поэтому они не могли сами прочесть, что было написано под каждой картинкой, но все равно было интересно. Во-первых, там был нарисован толстый, румяный мальчик в одних трусах; он чистил зубы. Все было нарисовано по порядку: сначала красивая синяя кружечка с кипяченой водой, желтая щеточка, голубая коробка с белым порошком; потом мальчик водил щеточкой по зубам справа налево и сверху вниз; потом он усердно полоскал рот водой, а потом, глядя на нас, улыбался во весь рот, так что вычищенные зубы просто сверкали. И под всем этим великолепием было написано (я им прочла это):
Если мальчик любит мыло
И зубной порошок,
Этот мальчик очень милый —
Поступает хорошо.
— А почему девочек не нарисовали? — ворчала Анка, которая всегда стояла за справедливость.
— А это что? — спросила Алена, подходя к другой стене.
— Это твой рот, — сказала тетя в белом халате, которая сидела в углу за столиком и записывала всех, у кого болели зубы.
— Ух, какой большой! — ахнула Иришка.
— Это нарочно нарисован такой большой рот, чтобы лучше можно было все увидеть. Видите, зубы во рту не все одинаковые: одни тоненькие и острые — чтобы кусать, откусывать пищу; другие пошире и потолще — чтобы ее жевать, перетирать в кашицу. Всего у человека должно быть тридцать два зуба.
— А у нас столько нет, — сказала Анка. — Как же нам быть?
— Ничего, потом вырастут и остальные. Те зубы, что у вас сейчас, — молочные, они все равно выпадут, а на их месте вырастут настоящие.
Ну и удивились девочки! «Как это — молочные зубы? Что ли, они из молока?»
— Ваши теперешние зубки появились у вас, когда вы были еще совсем крошки, кормились только молоком, сосали мамину грудь или бутылочку с молоком — вот их и назвали молочными. Они не очень прочные, эти зубы, а ведь вам придется потом жевать самую твердую пищу.
— А мы и теперь умеем орехи грызть. Это ведь твердая пища? — сказала Анка.
— Вот от этого они у вас и начинают шататься, — улыбнулась белая тетя. — Ведь шатаются, правда?
— Да, — сказали виновато Анка и Иришка.
В эту минуту раскрылась дверь, вошла хорошенькая, тоненькая, на высоких каблучках девушка, тоже в белом халате, и сказала приветливо:
— Освободилось два места. Кто следующий?
— Теперь мы, — сказала я с трепетом и, взяв за руки Анку и Иришку, подвела их к ней.
— Как тебя зовут, девочка?.. Ириша? А тебя?.. Аня? Отлично. Мамаша останется здесь, а вы пойдете со мной.
— А я? — закричала Алена.
— А ты потом.
И она увела куда-то Иришку и Анку и закрыла за ними дверь. Мы с Аленкой постояли, послушали: за дверью слышался мерный зудящий звук.
— Что там зудит? — спросила Алена шепотом.
— Это бормашина, — отвечала я тоже тихо, потому что хорошо знала, что это за штука.
Мы с Аленой сели на диванчик и стали ждать.
Вдруг открылась дверь, и та же девушка поманила меня к себе.
— Мамаша, зайдите на минуточку. Ваша девочка плачет, и мы не можем понять, в чем дело.
Конечно, я сейчас же пошла за ней, и Аленка за мной.
Там была длинная, очень светлая комната — целый ряд высоких окон, до половины закрашенных белым; натертый, блестящий, как зеркало, пол, а перед каждым окном белые, сверкающие никелем, совсем маленькие детские креслица и бормашины. Между окнами в узких простенках стояли стеклянные шкафчики, тоже белые, и внутри них все сверкало и блестело. А в маленьких креслах сидели девочки и мальчики, и доктора в белых халатах лечили им зубы.
В одном креслице сидела Иришка и плакала. Во рту у нее было вставлено какое-то блестящее металлическое кольцо.
— У нее такой маленький ротик, — сказала мне девушка, — доктор вставил ей расширитель. Но ведь это же совсем не больно... Разве тебе больно, Ириша?
Ира помотала головой, но с упреком посмотрела на девушку.
— Кажется, я догадалась, — сказала седая женщина-врач и покачала головой. — Это ваш язычок виноват, Леночка! Вы сказали, что мы на девочку наденем намордник, как на собачку, и засмеялись, а она обиделась, конечно. Глупые шутки! Правда, девочка?
Иришка глубоко вздохнула и кивнула головой.
— Ну ничего, не сердись. Давай лучше посмотрим твои зубки. Вот видишь — зеркальце, оно мне помогает видеть твой рот. Вот один зуб немножко шатается. Но мы его трогать пока не будем — он здоровый, пусть еще послужит. А вот в другом у тебя дырочка. Сиди смирно, сейчас я тебе ее запломбирую. Я сначала почищу дырочку вот этой штукой. — Она показала Иришке инструмент и пустила в ход бормашину.
— Ну вот, теперь она у нас не плачет! — сказала весело хорошенькая девушка. — Молодец, Ириша!
— А теперь смотри: вот я беру щепоточку этого белого порошка, смачиваю и делаю такое тесто-замазку. Я вложу немножко этой замазки в дырочку зуба — она там засохнет, затвердеет, и зуб будет уже без дырочки, опять весь целый и крепкий! — говорила седая женщина-доктор. И делала все, что говорила. Потом она сказала: — Ну, вот и все, — и вынула у Иришки изо рта металлическое кольцо. — Только не кушай ничего два часа — дай пломбе затвердеть. Иди.
Девушка сняла Иришку с креслица, погладила ее по голове и посадила на ее место Алену, которая все время стояла рядом и смотрела, широко разинув рот.
— Ну, тут, кажется, расширитель не понадобится! — засмеялась девушка.
— Алена у нас лучше всех горло показывает, — сказала Иришка со вздохом.
Алене не пришлось познакомиться и с бормашиной. Все зубы у нее были в порядке.
Но лицо ее выразило глубокое сожаление, когда она слезала с кресла. Выйдя на середину комнаты, она восхищенно оглядела все вокруг, заломила руки над головой, что было у нее признаком самого большого восторга, и громко воскликнула:
— Как хорошо лечиться!
Все оглянулись на нее — и дети в креслицах и доктора — и стали смеяться.
— Приятно слышать, — сказала седая женщина, лечившая Иришку. — Если бы все наши больные так говорили!
У Анки тоже все было хорошо. Ей вырвали шатающийся зуб так легко, что она не успела даже испугаться. Зуб завернули в кусочек марли и отдали Анке — на память. Она была ужасно довольна и горда.
— Дома покажу, — говорила она Иришке и Алене. — Ведь это мой зуб, — когда хочу, тогда и показываю.
— А что надо сказать, девочки? — подсказывала я шепотом.
— Спасибо! — важно сказала Анка.
— Спасибо! — пролепетала Иришка.
— Большое-пребольшое! — с чувством сказала Алена и поклонилась всем низко-низко, чуть не до самого пола.
— На здоровье, девочки! До свиданья, до свиданья! — сказали в ответ доктора, и даже дети, которых они лечили, закивали моим девочкам.
— Пожалуйста, приводите к нам почаще эту кудрявенькую, которой так нравится лечиться: она нам всем поднимает настроение, — сказала самая главная из докторов. — Приходи к нам еще, девочка, хорошо?
Алена покраснела от радости и сказала огорченно:
— Только у меня ничего не болит... к сожалению.
Мы еще несколько раз потом ходили в зуболечебницу, потому что Иришке все-таки пришлось вырвать зуб, а Анночке сделать несколько пломб. И Алена успела хорошо познакомиться со всеми докторами и служащими детской лечебницы.
Но самое интересное: очень скоро в нашей квартире, в большой комнате, была оборудована замечательная зуболечебница с двумя докторами и одной помощницей, которую звали так же, как и там, в больнице, Леночкой.
— Леночка, — говорит строго главный доктор, Анна Алексеевна, — вы все смеетесь да смеетесь, а больные дожидаются. Ведите скорее больного!
— Извините, мне смешинка в рот попала, — отвечает смиренно Алена и тащит за лапу старого, потертого Мишку. — Мишенька, ты не бойся, это совсем не больно. Садись, Мишенька, вот сюда, раскрой ротик.
— Это я должна говорить: «Раскрой рот»! — сердится Анка. — Вы пока помогайте другому доктору.
Алена бежит к дивану, где в ожидании сидят: Иришкин серый заяц, Аленкин пушистый утенок, две тряпочные куклы, резиновый матросик и полосатый старый клоун с жестяными тарелками в руках.
— Одну минуточку, — говорит между тем Анка. — Ну-ка, Мишенька, открой, деточка, шире ротик. Вот так. Теперь я заведу мою бормашину... — Она берет вязальный крючок, привязанный на нитке к спинке стула, сует его Мишке в пасть и кричит: — Алена! Ну, что ж ты? Опять забыла? Зуди!
И Алена начинает зудеть: «З-з-з-з!» — точь-в-точь как бормашина.
АЛЕНА ХОЧЕТ БЫТЬ КОННЫМ МИЛИЦИОНЕРОМ
Утром нас разбудила музыка: прямо под нашими окнами гремел веселый марш.
— Девочки, вставайте! Вот уж и музыка играет, — постучала в дверь Пашенька.
Аленка вскочила, протерла глаза и закричала на всю квартиру:
— Ура! Первое мая начинается!
На стуле у каждой кровати лежали красный флажок и красная шапочка. Мы сами сделали их накануне, готовясь к первомайскому празднику. Девочки живо нацепили красные шапочки, взяли в руки флажки и в ночных рубашках, босиком зашагали в столовую.
— Марш, марш вперед, веселый народ! — пели они во все горло.
Но Пашенька моментально призвала их к порядку:
— Одеваться! Мыться! Зубы чистить! Завтракать! Живо! Весь народ уже на улицах, а вы тут баловаться вздумали!
— Мы не балуемся, — сказала Анка. — Это музыка нас так и подталкивает в ноги.
Пашенька была нарядная, без передника, и совсем не сердилась.
Она налила девочкам какао и, пока они пили, рассказывала про Первое мая:
— Нынче наш рабочий праздник, нынче празднуют все, кто работает. И тот, кто на сахарном заводе делает сахар, и тот, кто на фабрике ткет материи, и кто продает в магазине, и кто на кухне обед готовит. И я тоже сейчас пойду на демонстрацию. А кто не работает, кто ничего не умеет делать, тот нынче дома сидит да прячется в углу.
— А мы? — спросили испуганно девочки. — Мы же не умеем работать!
— Вы еще маленькие. Вырастете — будете учиться; чему-нибудь научитесь — тоже будете, как все люди, работать. Кем захотите, тем и будете.
— Я буду учиться на актрису, — решительно сказала Анка. — Выучусь — буду вместе с папой, с мамой работать в театре.
— А я не хочу быть актрисой, — махнула рукой Алена. — Ну, что такое! И папка в театре, и мамка в театре, и еще Анка тоже в театре? Лучше уж я буду знаете кем?..
— И знать не хочу! — сказала Анка. — Ты уж двадцать раз кем-нибудь была: то в трамвае водитель, то пожарный, то доктор... Один человек не может все делать.
— Что ли, тебе жалко? А если мне хочется все попробовать? А вот я возьму и захочу... — начала было Алена.
Но Паша сказала, что довольно болтать, пора отправляться, а то вся демонстрация мимо пройдет.
В красных шапочках, размахивая флажками, девочки побежали вниз по лестнице.
Мы с Пашенькой заперли дверь в квартиру и тоже пошли на улицу.
На нашем крыльце столпились чуть ли не все жители нашего дома. А старый мастер из парикмахерской, что на втором этаже, вынес себе стул, сидел читал газету и смотрел вокруг.
— А нам не видно! — сказали девочки и живо протиснулись вперед, на самый край тротуара.
Улица была полна народа. Погода была самая праздничная: солнце сияло, небо было чистое-чистое, голубое, деревья весело зеленели вдоль улицы. И до самого Крещатика на всех домах — по всей нашей Ленинской улице — виднелись красные флаги. По мостовой стройно, ровными рядами шли красноармейцы, шли матросы, шли рабочие и работницы с заводов и фабрик, шли пионеры, школьники и школьницы, а за ними опять взрослые — моряки, железнодорожники в летней форме, деревенские хлопцы в расшитых рубашках, дивчата с венками на голове. Несли знамена, несли большие белые листы с рисунками, огромные портреты.
— Вот Ленин, Ленин! — узнали девочки. — Смотрите, Ленин!..
В руках у всех были цветы — первые весенние цветы. А некоторые мужчины несли на плечах своих маленьких ребят, и наши девочки провожали их жадными глазами. Вот бы хорошо так пройтись по улицам — с высоты все-все видно!
Люди шли и пели. А сбоку, у самого тротуара, стояла, как статуя, большая гнедая лошадь, вся гладкая, блестящая, будто ее помазали маслом, и на ней сидел милиционер.
Вот показалась колонна пионеров — в белых блузах с красными галстуками. Они шли у противоположного тротуара и пели. На девочках были венки из первых весенних цветов.
Аленка сразу обхватила меня руками.
— Тетя Верочка, пойдем на ту сторону! Там пионеры, там наша Муха где-нибудь идет, — сказала она.
— А как же мы перейдем? Ведь все время идет демонстрация.
Но пробраться можно было. Вот прошла одна колонна, а другая только придвигалась, колыхая знаменами и цветами на длинных палках. Я схватила Анку и Иришку за руки, и мы живо юркнули в прорыв и побежали через улицу.
Колонны шагали быстрее нас, и мы едва успели выбраться на противоположный тротуар, как уже новая толпа затопила всю мостовую.
Я оглянулась — и сердце мое замерло: Алены с нами не было.
— А где же Алена? Алена где, девочки?
— Наверное, она не успела за нами побежать и осталась на той стороне, — сказала Иришка.
— Что же нам теперь делать? — волновалась я. — Придется идти назад.
Дождавшись опять перерыва в людском потоке, мы побежали обратно через улицу. Алены не было и здесь.
— Зачем вы так беспокоитесь? — сказал старый парикмахер, сидевший на крыльце нашего дома. — Не пропадет ваша девочка. Я вам ручаюсь. Разве Первого мая может пропасть ребенок.
Но я ужасно расстроилась и, оставив Анночку и Иришку около дома под присмотром парикмахера, быстро пошла по краю мостовой искать пропавшую Аленку.
Вдруг вижу: мне навстречу медленным шагом идет большая гнедая лошадь, на ней сидит милиционер, а перед ним на седле — Аленка.
— Алена! — закричала я во весь голос.
А она сидит на лошади, улыбается и смотрит так гордо.
— Вот уже наш дом, а вот моя тетя, — говорит она милиционеру.
Милиционер остановил лошадь.
— Это ваша девочка? — спрашивает он. — Что же вы ее одну бросили?
— Я так испугалась, — сказала я, — мы уже думали, что она потерялась!
— Никак невозможно, — сказал милиционер. — Получайте вашу девочку!
Снял Алену с седла и подал мне прямо в руки.
— Большое спасибо! — сказала я милиционеру.
— Спасибо! Спасибо! — закричала Аленка и помахала ему рукой.
Милиционер приложил руку к козырьку парадной фуражки, повернул тихонько свою гнедую лошадь и уехал.
А мы с Аленкой побежали к нашему дому, где ждали девочки.
— И как это ты ухитрилась отстать? Вот уж Кручена! — говорила я. — Ну, что мне с тобой делать!
Я бранила Аленку и сердилась, но она только смеялась и была очень довольна. Она с удовольствием рассказывала, как остановилась посреди улицы, потому что у нее расстегнулась пуговка на туфле, как мы вдруг все потерялись, а ее взял на руки высокий человек, понес, потом передал другому, тот третьему, — и так она путешествовала по рукам, пока ее не отдали милиционеру на гнедой лошади, а он повез ее домой.
Целый день Алена гордилась этим и всем рассказывала:
— А я познакомилась с милиционером, ага!
За обедом она заявила Пашеньке:
— Когда я вырасту, обязательно буду милиционером.
И долго потом, когда ее спрашивали, кем она хочет быть, она отвечала без запинки:
— Конным милиционером!
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





