ЖЕНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
- Б
- Бажова Валентина
- Бажова-Гайдар Ариадна
- Байрамукова Халимат
- Баранская Наталья
- Басова Людмила
- Башкирова Галина
- Безбородова Ада
- Беланова Галина
- Белкина Мария
- Белозерская Любовь
- Беляева Лилия
- Беляева Светлана
- Белякова Алла
- Берберова Нина
- Берггольц Ольга
- Бианки Валентина
- Богуславская Зоя
- Бодрова Анна
- Боровицкая Валентина
- Бочкарева Екатерина
- Броневская Янина
- Будогоская Лидия
- Бутырева Галина
- Быкова Елена
- В
- Вакуловская Лидия
- Вальцева Анна
- Ванеева Лариса
- Вартан Виктория
- Василевич Алена
- Василевская Ванда
- Васильева Ксения
- Васильева Лариса
- Васютина Евгения
- Вел Елена
- Велембовская Ирина
- Верейская Елена
- Весёлая Заяра
- Вигдорова Фрида
- Вигорова Надежда
- Войнич Этель Лилиан
- Войтоловская Лина
- Волчкова Людмила
- Вольф Криста
- Воробьева Лариса
- Воронцова Елена
- Воскресенская Зоя
- Г
- Габова Елена
- Галахова Галина
- Гамазкова Инна
- Ганина Майя
- Гасилова Халида
- Георгиевская Сусанна
- Гербер Алла
- Гёбль Полина
- Гинзбург Лидия
- Гинзбург Наталия
- Гиппиус Зинаида
- Голанд Валентина
- Голованивская Мария
- Головина Алла
- Голубева Вера
- Горланова Нина
- Горобова Александра
- Горшман Шира
- Гофф Инна
- Графова Лидия
- Грекова Ирина
- Гурченко Людмила
- Гурьян Ольга
- Гуссаковская Ольга
- К
- Каленова Тамара
- Калиненко Оксана
- Каплинская Елена
- Караваева Анна
- Кардашова Анна
- Карташёва Екатерина
- Катасонова Елена
- Катерли Нина
- Кащук Наталья
- Кетлинская Вера
- Киселева Мария
- Климашевская Ирина
- Ковалевская Софья
- Коваленко Римма
- Кожевникова Надежда
- Кожухова Ольга
- Козырева Марьяна
- Койн Ирмгард
- Колесникова Мария
- Кологривова Елизавета
- Колчинская Наталья
- Кононенко Елена
- Конопницкая Мария
- Коптева Яна
- Корнилова Галина
- Костенецкая Марина
- Костюченко Наталия
- Котовщикова Аделаида
- Кохова Цуца
- Кочегаров Евгений
- Крашенинникова Екатерина
- Кретова Марина
- Крудова Наталья
- Кршижановская Елена
- Кузнецова Агния
- Кузнецова Алла
- Кузнецова Галина
- Кундышева Эмилия
- Куратова Нина
- Куроянаги Тэцуко
- С
- Сабинина Людмила
- Сабо Магда
- Сальникова Людмила
- Светлая Каролина
- Сейфуллина Лидия
- Сельянова Алла
- Семенова Нина
- Сенгалевич Маргарита
- Серебрякова Галина
- Силина Надежда
- Ситнова Ольга
- Скабелкина Прасковья
- Скорик Любовь
- Смирнова Вера
- Снегова Ирина
- Соколова Ингрида
- Соколова Марина
- Соколова Наталья
- Соловьева Валентина
- Соротокина Нина
- Старостина Екатерина
- Стрелкова Ирина
- Судакова Екатерина
- Суханова Наталья
- Сухотина-Толстая Татьяна
- Сыромятникова Зинаида
- Сысоева Татьяна



рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

© Сенгалевич Маргарита 1974
«Тучки небесные, вечные странники!»
Окно открыто. Ветер надувает белые занавески, и маленькая комнатка на пятом этаже, кажется, плывет куда-то вдаль вместе с белоснежными облаками. Облака плывут над Днепром, над зеленью днепровских круч, над домами и площадями города...
По стенам скользят солнечные зайчики. Мама ходит по комнате. На ней белая кофточка. Мама тихонько напевает:
Тучки небесные, вечные странники!
За столом сидит папа. Он наклонился над книгой. Я вижу его голову с шевелюрой черных завитков, уголок бледной щеки с красным пятнышком на скуле. Папа читает, иногда повторяя тихонько незнакомые слова...
У него скоро государственные экзамены, и потому надо сидеть очень тихо — так сказала мне мама.
Я примостилась у своего низенького детского столика и что-то изображаю цветными карандашами на клочке бумаги. Мне уже давно хочется побегать, и я искоса посматриваю на папу, а он все перелистывает и перелистывает страницу за страницей и продолжает повторять странные, непонятные слова. Можно было бы поиграть с Чертушкой — черным пушистым котенком с белым пятном на шее, но котенок куда-то убежал из комнаты. «Неужели туда?» — со страхом поглядываю я на дверь, откуда доносятся шаркающие шаги и голоса...
Но все же я счастлива — ведь так редко мама и папа бывают дома. Папа — студент, но скоро он будет доктором. «Тогда нам будет лучше». Мама купит мне красивую куклу с закрывающимися глазами, которую я видела в витрине магазина на Крещатике. А пока надо сидеть очень тихо, чтобы не мешать папе и чтобы не услышала хозяйка.
«Но где же Чертушка?» — с тревогой подумала я, снова взглянув на дверь.
— Брысь! — послышалось вдруг за дверью.
Дверь распахнулась, и Чертушка, прижав к голове уши, влетел в комнату.
Я бросилась к своему другу. Мокрый, с прилипшей к телу шерстью, он дрожал. Под пальцами я чувствовала, как громко бьется его перепуганное сердце.
— Опять квартирантский котенок под ногами путается! — послышался за стеной визгливый голос.
Мама бросилась к Чертушке и стала осматривать его.
— Кипятком? — с испугом спросила я.
— Нет, нет... просто холодной водой окатила! — ответила мама.
Она положила Чертушку на освещенный солнцем подоконник. Вид у Чертушки очень жалкий и беспомощный.
Папа отодвинул книгу.
— Надя, зачем она это делает? Для чего? — сказал он, растерянно глядя на дверь.
Мама подошла к нему и положила руку на плечо:
— Успокойся, Яська, я поговорю с хозяйкой, а ты не волнуйся, у тебя же завтра экзамен.
Папа нахмурился, облокотился рукой о стол и наклонил голову. Крик за дверью утих.
— Я иду к обедне. Смотри, чтобы котлеты не пригорели! — послышался за стеной голос хозяйки.
Хлопнули двери. Тишина. Хозяйка отправилась в церковь.
Маленькая неприятность с Чертушкой закончилась, но в сердце у меня чувство обиды. «Почему хозяйка бьет слабого, беззащитного Чертушку? Почему?» — думаю я и не могу дать ответа на этот вопрос.
Солнечный зайчик скользит по свежевымытому крашеному полу. Вот он скользнул по обоям, по развешанным на стенах маминым картинам — маленькая семицветная радуга. Я смотрю на солнечный зайчик, и мне становится тепло и весело и даже не скучно «сидеть смирно». Я снова занялась рисованием.
Хлопнула входная дверь — это вернулась хозяйка.
Но вот наконец папа закрывает книгу — значит, можно побегать. Это совсем замечательно!
Я сажаю в старую мамину шляпу куклу Катюшу, сшитую из старого тряпья, усаживаю рядом с ней Чертушку, беру в руки веревочку и пускаюсь вокруг стола. Что может быть приятнее такого путешествия!..
Но Чертушке, видно, такое путешествие не по вкусу — он вдруг выскакивает из необычной повозки и со всех ног бросается под кровать. Катюша вываливается из шляпы-коляски.
— Куда ты, Чертушка? — кричу я и устремляюсь под кровать.
— Риточка, тише! — с испугом говорит мама. — Тише, хозяйка услышит! — повторяет она.
Но уже поздно. Именно в тот момент, когда я вылезаю из-под кровати с мяукающим Чертушкой в руках, дверь распахивается и появляется хозяйка. От страха я приседаю на пол, прижимая к себе отбивающегося Чертушку.
Хозяйка останавливается на пороге и грозным взглядом окидывает комнату. На ней пестрый халат и удивительные туфли без задников — это их шлепанье постоянно слышится за дверьми. Хозяйка обводит глазами комнату, и ее взгляд задерживается на мне. Затем она переводит его на папу.
— Господин студент! — произносит она. — Господин студент! Я сдавала комнату одинокому, ну, двое — это еще туда-сюда, но трое!.. — Хозяйка снова смотрит на меня. — Но трое — это уж слишком! Потрудитесь освободить квартиру, господин студент!
— Если вы насчет ребенка, — голос мамы дрожит, но она старается говорить спокойно, — то мне кажется, что Риточка никому не мешает!
— Вам кажется, вам так кажется!.. — Голос хозяйки вдруг делается визгливым, как тогда, когда она кричит на кухарку Аксинью. — Я сдаю приличным жильцам, одиноким. У меня девица, мадемуазель Жаннет, бывшая губернаторская гувернантка живет, штабс-капитан Бобриков живет. Им, может, ваше дитё мешает...
Папа встает, на его лице выступают красные пятна.
— Чего вы хотите? — говорит он. — За квартиру прибавить мы не можем, я студент...
— Соблаговолите немедленно освободить квартиру! — решительно прерывает его хозяйка.
Она хлопает дверью и исчезает, унося с собой запах жареного лука и подгорелых котлет.
— Риточка... — произносит мама растерянно.
Я чувствую себя виноватой, но в чем — не знаю, вероятно, в том, что из-за меня мы кочуем из одной комнаты в другую.
Их бесконечное множество — этих студенческих комнатушек. Одни из них где-то очень высоко — под крышей, другие слишком низко — в подвалах. Стены одних украшены дешевенькими обоями, стены других разрисованы пятнами сырости.
И мы переезжаем и переезжаем без конца из одной комнатушки в другую.
Хозяйкам всегда кажется, что мы платим слишком мало, а маме — что мы платим слишком дорого, а кроме того, хозяйки любят «одиноких».
В этот день мы легли позже обычного. Мама и папа долго беседовали о чем-то, что-то подсчитывали...
— Яська, завтра я пойду искать новую квартиру, — сказала наконец мама.
Что ждет нас в этой новой студенческой комнатушке?
Засыпая, я слышала, как мама тихонько напевает:
Тучки небесные, вечные странники!
На новую квартиру
Но найти новую квартиру оказалось не так-то легко. На больших темных четырехугольниках окон белели маленькие белые наклейки. И наклеек было очень много — все они извещали о том, что «сдается комната», и все же мы никак не могли переехать на новую квартиру.
— Яська, я уже побывала и на Шулявке, и на Демиевке, и на Подоле, — о центре я уже не говорю, он нам совсем не по карману, — сказала как-то мама, возвратившись из своего очередного путешествия.
— Все эти хозяйки просто помешались на одиноких. Одинокий, по их мнению, не должен ни разговаривать, ни есть, ни пить и, уж конечно, не варить на хозяйской плите манной каши.
Манная каша! Конечно, это для меня готовила мама манную кашу.
Прошла неделя с тех пор, как хозяйка сказала: «Господин студент, прошу вас освободить комнату!»
Теперь она уже не называла папу «господин студент».
По утрам из-за дверей доносился ее зычный крик.
— Студенты — шаромыжники, социалисты, знаем мы таких!.. Пусть только сегодня не выедут — уж я велю дворнику их манатки на улицу выкинуть! Кто их знает, может, еще бомбы делают! Отвечай за них!.. — Голос хозяйки гремит на всю квартиру.
Вечером, когда хозяйка ушла к вечерне, кто-то постучал в дверь.
— Войдите, — сказала мама.
В комнату юркнула кухарка Аксинья. Она маленькая и вся серая, как мышь.
Испуганно поглядывая на дверь, Аксинья быстро заговорила:
— Уж вы уезжайте. Давеча она говорила, сон ей приснился: божья матерь Троеручица явилась и приказала донести на вас. В полицию, значит, сообщить. «Это дело богу угодное, потому что они безбожники. Рабочие, студенты и социалисты против царя замышляют! Так, говорит, Троеручица велела... Не выедут добром — заяви, непременно заяви!» — Аксинья снова с испугом оглядывается на дверь и моргает маленькими, обведенными красными веками глазами. — Только вы ей не сказывайте. Место-то теперь пойди поищи!.. — Аксинья исчезла за дверьми.
— Яська, я пойду завтра на Печерск! Надо выехать немедленно хотя бы куда-нибудь! — сказала мама и озабоченно взглянула на меня: — Я возьму с собой Риту, она совсем побледнела без воздуха! На Печерске очень хорошо. Вот если бы нам удалось устроиться на Печерске!
Папа встал и начал ходить по комнате, потирая руки. Это у него такая привычка — когда он волнуется или озабочен чем-нибудь, он ходит быстро-быстро и потирает ладони.
Я очень рада, что завтра пойду с мамой на Печерск. На Печерске я никогда еще не была.
Мы спустились вниз по Костельной улице и очутились на большой площади. Здесь сели на конку. Мне очень нравилось ездить на конке.
— Мама, почему это — конка? А где же кони?
— Когда-то это была действительно конка, по-настоящему, с лошадьми, — ответила мама, — а теперь этот вагончик движется при помощи электричества, как в сказке!..
Мы уселись в «сказочную» конку, она задребезжала и поползла вверх по улице.
Я прилипла к окну. Вот мимо проплывает большой дом с колоннами и львами у входа.
— Это музей! Здесь много картин... — объясняет мама.
Конка двигалась все выше и выше.
Сбоку, за высокой, красивой оградой, зазеленели деревья.
— Это лес? — спросила я.
— Нет, это царский сад, — ответила мама.
— Какой у царя большой сад! — воскликнула я. — И он там один гуляет?
— Нет, нет, не гуляет... — поспешно сказала мама и взглянула на сидящего напротив человека в черном котелке и коричневато-рыжем пальто.
— А это что? — спросила я, заметив среди зелени красивое кремовое здание, с зеркальными окнами и затейливыми украшениями.
— Это царский дворец.
— А царь там живет... а там много комнат... а он одинокий... а почему?..
— Рита, — сказала вдруг мама, — ты пачкаешь ногами скамейку, сейчас же садись вот так... — Она взяла меня за плечи и усадила спиной к окну.
Сидеть спиной к окну было очень скучно. Я начала разглядывать пассажиров. Их было много, они сидели на обеих расположенных вдоль стен скамейках, спиной к окнам, плотно прижавшись один к другому. Студенты в таких же, как у папы, потертых тужурках и фуражках с вылинявшими синими околышами, женщина с ребенком на руках, какие-то чиновники с петлицами на пальто и тот, в котелке и коричневом пальто. Вид у пассажиров был скучный, и только двое студентов о чем-то тихо беседовали. Но вот конка остановилась.
— Никольские ворота! — сообщил кондуктор.
— Риточка, скорей, скорей, — заторопила меня мама.
Мы вышли из конки.
— Вот и Печерск!
Я огляделась по сторонам. Перед нами была длинная улица с одноэтажными, двух- и трехэтажными домами.
— Это Московская улица, — сказала мама.
На правой стороне Московской улицы возвышалось какое-то необыкновенное здание — таких зданий я никогда раньше не видела. Оно тянулось вдоль улицы и казалось бесконечным. Темные каменные стены мрачно подымались над улицей.
Мама взяла меня за руку, и мы пошли вдоль этого необыкновенного здания.
Я искоса поглядывала на мрачные стены, на огромные закопченные окна, откуда доносился тревожный гул и звон.
— Мама, что это? — спросила я с испугом.
— Это «Арсенал», — ответила мама.
— А что такое арсенал?
Это слово я слышала впервые.
— «Арсенал» — это завод, — объяснила мама. — На заводе работают рабочие.
Мама приостановилась. Я с любопытством взглянула на страшное здание. Стекла огромных окон его были закопчены, сквозь них виднелись какие-то фигуры, темные силуэты машин, красноватые отблески освещали лица людей.
— Это рабочие? — спросила я.
— Да, да... — поспешно ответила мама и, взглянув на полосатую будку, в которой стоял человек с ружьем, потянула меня вперед.
— Мама, а рабочие, они кто? — снова спросила я.
— Рабочие? Ну да, рабочие... Видишь, Риточка, это люди, которые делают машины, материю, из которой сшиты твое и мое платья, башмачки, чашки, ложки и всё, всё!
— И куклу с закрывающимися глазами? Ту, что на Крещатике?
— Ну да, и куклу! Всё, всё!.. — Мама вдруг остановилась у большого белого дома, на окне которого белела наклейка: «Сдается внаем квартира».
На воротах виднелась металлическая дощечка, на ней было написано: «Дом принадлежит лавре».
Минуту подумав, мама дернула ручку висевшего у калитки звонка.
«Дзинь, дзинь, дзинь!» — заверещал звонок.
Послышались шаги, калитка открылась, появился дворник с большой бородой, в белом переднике и с бляхой на груди.
— Можно посмотреть квартиру? — спросила мама.
— Пожалуйте! — ответил дворник и провел нас во двор.
Двор был небольшой, вымощенный булыжником. Со всех сторон его окружали сараи и погреба, тоже каменные, на дверях сараев висели большие замки.
— Вот сюда, сюда! — указал дворник на двери.
Мы пошли за дворником по чистой каменной лестнице. На лестнице аппетитно пахло — видно, где-то недалеко пекли сдобные булочки.
Мы поднялись на второй этаж. Дворник отстегнул от пояса связку ключей и отпер двери.
— Вот, пожалуйста, — сказал он, пропуская нас вперед.
Никогда я не видела таких комнат. Они были совсем не похожи на студенческие комнатушки, в которых мы жили раньше. Все здесь сверкало, комнаты были залиты солнцем, солнце сияло на ярко начищенных медных отдушинах печей, ручках дверей, на паркете натертого пола.
Мама остановилась на пороге и широко раскрытыми глазами смотрела перед собой.
— Да, да, вот здесь поставить Яськину кровать, а там — Риточки. Ну, вон в той комнате... — произнесла она.
Мы ходили из комнаты в комнату.
— Да, здесь можно растить здорового ребенка, — тихонько сказала мама и спросила, наклонившись ко мне: — Тебе нравится эта квартира, Риточка?
— Нравится, — ответила я.
Мама вздохнула и улыбнулась:
— Да, мне тоже нравится! Идем!
Мы вышли в переднюю. Ожидавший нас в передней дворник запер дверь.
— Ну, так как же? — спросил он.
Мама не ответила.
— Квартира хорошая, не сомневайтесь, — сказал дворник. — И если насчет соседей... так у нас все люди порядочные. Вот напротив помещица — зимой в городе, а летом в имении, квартиру же круглый год за собой держит. А вот тут, — дворник указал на дверь, на которой блестела ярко начищенная медная дощечка, — полковник Гридин живут с тетушкой вдвоем, четыре комнаты снимают.
Дворник вопросительно взглянул на маму:
— Так как же?
— Сколько стоит в месяц эта квартира? — обратилась она к дворнику.
Дворник назвал цену. Мама помолчала.
— Нет ли у вас квартиры подешевле? — спросила она.
Дворник пожал плечами:
— Это уж как изволите. Тут один съехал, квартира ничего, по деньгам конечно...
Эта квартира оказалась совсем не такой, как та, которую мы только что смотрели. Эта «квартира» была похожа на нашу «студенческую комнатушку». Мама вздохнула, оглядывая полинявшие обои, окна, из которых виднелись загораживающие свет каменные сараи.
Но цена этой квартиры оказалась, как видно, для мамы более подходящей.
— Мама, там хорошо, там лучше! — сказала я.
Но мама нахмурилась и, обернувшись к дворнику, поспешно сказала:
— Я беру эту квартиру.
— Как будет угодно, — ответил дворник, пожав плечами, и, кашлянув, прибавил: — Только уж задаточек, пожалуйста! В лавре такой порядок!
В лаврском доме
Я открываю глаза и вижу маму. Она наклоняется ко мне, выбившиеся из-под шапочки пряди русых волос касаются моего лица. Я вижу над собой ее светлые глаза...
— До свидания, Риточка! — говорит мама.
Мне хочется задержать ее, я протягиваю руки:
— Мама!..
Но ее уже нет. Мама всегда уходит, с тех пор как мы живем в лаврском доме, и я вижу ее очень редко. Она поступила еще на одну работу.
— Теперь нам надо больше денег, — говорит мама.
Утром она уходит, когда я еще лежу в кроватке. Днем забегает домой, чтобы покормить Валечку, и возвращается только вечером.
Валечка появилась у нас недавно. Когда ее привезли к нам, мама сказала:
— Рита, это твоя сестричка!
Я с удивлением посмотрела на завернутое в голубое одеяло существо с красным личиком и такими же красными пальчиками.
— Теперь тебе будет веселее, Риточка, — сказала мама.
Но пока что Валечка только спит, кричит или ест и с ней совсем не весело. Как-то я попыталась рассказать ей сказку, но она не слушала, а кричала, хотя сказка была очень интересной. Сейчас Валечка спит, и это, пожалуй, даже лучше.
Я прислушиваюсь: из кухни доносится звонкий голос Груни. Груня тоже появилась у нас недавно, она наша прислуга «за всё»...
Грим гремит вечерней тучей,
И дождик льет как из ведра,
— поет Груня.
За окнами сияет солнце, мне хочется погулять. Иногда Груня водит нас в интендантский садик. Там много зелени и цветов, вокруг усыпанной песком площадки стоят лавочки, на них сидят бонны в маленьких соломенных шляпках и белых митенках на руках, няньки в накрахмаленных фартуках, кормилицы в пышных сарафанах и кокошниках. В интендантском садике всегда много детей. Девочки одеты в белые кружевные платьица, на ногах у них белые ботиночки, мальчики в голубых и синих бархатных костюмчиках и белых воротничках.
Но мне не нравится в интендантском садике. Гораздо лучше играть на дворе. Двор при лаврском доме небольшой, но я люблю прогуливаться в нем. Постоянные обитатели этого дворика — толстый пушистый кот Дорофей Иванович и пестрый горластый петух.
Петух казался мне существом, от которого можно было ожидать всяких неприятностей. Одно мощное «кукареку» лаврского петуха пробуждало ото сна чуть не всех обитателей Печерска, а его шпоры, цветистое ожерелье и пунцовый гребень не на шутку пугали меня.
У кота Дорофея Ивановича всегда очень важный вид. И я никогда не делаю попыток познакомиться с Дорофеем Ивановичем поближе.
«Генеральский кот-с!» — почтительно называет его дворник.
Дворник в лаврском доме тоже очень важный. Мне всегда кажется, что он неодобрительно посматривает на меня, когда я гуляю по двору.
Меня дворник называет «студенческое дитё», и это звучит у него совсем не так почтительно, как «генеральский кот-с!»
Солнце так заманчиво сияет за окном! Я надела башмачки и побежала к Груне.
Груня стояла перед кухонным столом и мыла тарелки. На плите кипел суп, на полу возвышалась гора приготовленного для стирки белья — мои платьица, Валечкины пеленки.
...Сижу, играю на гитаре,
Сижу, играю, веселюсь!.. —
заливчато выводила Груня.
— Груня, я пойду гулять, можно? — спросила я.
— Иди, иди побегай! Я позову, когда будет нужно! — ответила Груня, обернув ко мне красное от кухонного жара лицо.
На плите зашипело, и она бросилась спасать суп. Через минуту из кухни снова послышалось:
...Сижу, играю на гитаре,
Сижу, играю, веселюсь!..
Я отправилась гулять. У дверей черного хода я приостановилась и заглянула в щель. Страшного петуха на дворе не было, генеральский кот важно похаживал по погребу, прищурив свои зеленые глаза.
Я смело вышла во двор. Мне очень нравилось прогуливаться по двору, заложив руки в кармашки парусинового фартучка. Во дворе, кроме меня, детей не было. Другие дети в этот час гуляли со своими гувернантками и боннами в интендантском садике. Вот Дорофей Иванович заметил меня и направился в мою сторону. Я вижу два зеленых глаза с узкой черной щелочкой посередине. Кот пристально смотрит на меня, и мне вдруг становится жутко. Дорофей Иванович обычно или дремлет на погребе, или, осторожно ступая мягкими, бархатными лапками, ходит по забору или крыше. Он словно осматривает свои владения. Дорофей Иванович приближается ко мне.
«О чем он думает сейчас?» Мне кажется, что Дорофей Иванович «очень себе на уме», и я нисколько не удивилась бы, если бы однажды увидела его в костюме «кота в сапогах» и он вдруг снял с головы широкополую шляпу, раскланялся, мяукнув «прощайте», и ушел в сказку. Ту самую сказку, что недавно читала мне мама...
Но Дорофей Иванович не удостаивает меня даже этим «прощайте» — он просто спрыгивает с забора и, взмахнув своим пушистым хвостом, исчезает в соседнем дворе.
Я обиделась и пошла по двору дальше.
— Девочка! — вдруг услышала я чей-то голос.
Я оглянулась и увидела в окне первого этажа пожилую полную женщину в синей кофте.
— Девочка, иди-ка сюда! — поманила она меня.
Я подошла к окну. Женщина скрылась в глубине комнаты, а через минуту появилась снова. В руках она держала ломоть сдобной булки, намазанный толстым слоем варенья.
— На, покушай, девочка! — сказала женщина приветливо.
Я стояла, не вынимая рук из карманов своего парусинового фартучка.
— Ну, возьми же покушай, варенье вкусное! — повторила она.
Варенье выглядело очень аппетитно, и я опустила глаза.
— Я не хочу варенья, — произнесла я тихо.
Женщина подняла свои седые брови, и глаза ее стали совсем круглыми, как у «Совушки-вдовушки» на обложке книги сказок.
— Как звать тебя, девочка?
— Риточка, — ответила я.
— А, значит, Маргаритка. Какое красивое имя! Маргаритка — скромный, но прелестный цветок...
Я с удивлением взглянула на женщину. Было что-то в ней не похожее на всех тех людей, с которыми мне приходилось встречаться раньше, и говорила она не так, как мама, папа, папины товарищи, и не так, как Груня.
— Чья же ты, Маргаритка? — продолжала спрашивать женщина, все так же приветливо улыбаясь.
Я не ответила.
— Ты девочка новых жильцов, да?
— Да.
Женщина одобрительно кивнула головой:
— Ну, вот и хорошо. Теперь мы с тобой познакомимся, Маргаритка. Куклы у меня нет, но зато есть книги с красивыми картинками, — произнесла она и прибавила: — Заходи же ко мне в гости, Маргаритка!
Новая знакомая
Новая знакомая очень заинтересовала меня. На следующий день я с нетерпением ждала, когда можно будет отправиться гулять. Наконец Груня сказала:
— Пойди побегай, Рита!
Я побежала во двор.
На дворе ни кота, ни петуха не было. В углу, возле сарая, какой-то человек колол дрова.
Я посмотрела на окно, у которого вчера сидела моя новая знакомая. Занавесочка в окне была задернута.
Я прошлась по двору и снова взглянула на окно, но напрасно — женщина не появилась.
«Цок! Цок! Цок!» — позванивал между тем топор у сарая. Я направилась туда. Заметив меня, человек, коловший дрова, выпрямился, опустил топор, широко улыбнулся и произнес:
— Ну, как поживаешь, маленькая барышня?
Глаза у человека были светло-серые, со светлыми же ресницами, голова наголо обрита, капли пота блестели на его лбу, одет он был в зеленовато-серую, выцветшую на плечах рубашку.
— Хорошо, — ответила я, во все глаза глядя на этого веселого, широко улыбающегося человека.
— Ну, вот и добре! — кивнул он головой.
— А вы кто? — спросила я.
— Я? Денщик.
— Денщик?
Такого имени я никогда не слыхала и уже хотела сказать ему об этом, но человек наклонился, схватил с земли полено, установил его, поплевал на свои ладони и высоко занес топор над головой.
«Цок! Цок! Цок!» — застучал топор.
Человек-денщик то поплевывал на руки, то взмахивал топором, повторяя:
— Раз! Раз! Раз!..
И топор послушно отвечал ему, вонзаясь в дерево: «Цок! Цок! Цок!..»
Я забыла о своей вчерашней знакомой, не отрывая глаз следила за ловкими движениями человека, которому был так послушен этот огромный острый топор.
— Степан!.. — послышалось из окна. — Степан! — повторил женский голос.
Степан быстро вклинил топор в чурку и со всех ног бросился к окну.
Я обернулась. Белая занавесочка в окне была отдернута, моя вчерашняя знакомая выглядывала из окна.
Это она кликнула: «Степан».
Я остановилась в нерешительности.
Но женщина уже увидела меня.
— А-а, Маргаритка! Подойди-ка, подойди сюда, мы ведь с тобой знакомы.
— Ну, чего же ты боишься, Маргаритка? Иди, иди же! — Женщина тихонько подтолкнула меня вперед.
Я вошла в комнату. Здесь было совсем не так, как у нас.
Посреди комнаты стояли большие кресла, обтянутые зеленым плюшем; за стеклами шкафов поблескивали книги в украшенных золотом переплетах; на полу лежал огромный ковер, такой мягкий, словно перина. А над дверьми! Я невольно отступила в испуге. Над дверьми огромная оленья голова с ветвистыми рогами загадочно поблескивала черными стеклянными глазами.
— Не бойся, Маргаритка, она не живая, — сказала женщина.
Но это совсем не успокоило меня.
— А вот посмотри на эти премиленькие безделушки, — продолжала она, очевидно желая отвлечь мое внимание от оленьей головы. — Видишь, если тронуть пальцем этих китайцев, они начнут качать головами.
— А они живые? — спросила я, поглядывая на стоящие на этажерке голубые фигурки.
— Нет, они фарфоровые, — ответила женщина, — но я разрешаю тебе тронуть их пальцем... Только осторожно — они очень хрупкие.
Я протянула руку, легонько коснулась пальцем фарфорового китайца.
Китаец наклонил голову и начал приветливо кивать мне.
Нет, это, конечно, было совсем не то, что мертвая оленья голова.
Китайцы очень понравились мне, и я хотела еще раз прикоснуться к ним, но моя новая знакомая сказала:
— Нет, Маргаритка, довольно. Вот если ты придешь ко мне завтра, я покажу тебе «Макса и Морица» и познакомлю с Алексеем Сергеевичем.
Оказалось, что лаврский дом полон совсем новых для меня вещей.
С «Максом и Морицем», толстой книгой в позолоченном переплете, и с тетушкиным племянником Алексеем Сергеевичем я познакомилась на следующий день, а затем я стала завсегдатаем в квартире полковника Алексея Сергеевича Гридина и его тетушки Степаниды Ивановны, о которых с таким уважением отзывался дворник лаврского дома.
Кукла с закрывающимися глазами
Мама все еще обещала купить мне куклу с закрывающимися глазами, но пока что эта замечательная кукла стоит в витрине магазина на Крещатике, и я продолжаю мечтать о ней... Бедная Катька моя уже давно представляла очень печальное зрелище — у мамы не было времени ее починить, да и починить ее было уже невозможно. Купить куклу обещала мне мама каждое 20-е число — 20-е было днем получки, но всегда выходило так, что именно на куклу денег не хватало.
Когда мама говорила Груне: «Груня, завтра приготовьте на обед картофельные котлеты», — я уже знала, что кукла с закрывающимися глазами по-прежнему будет красоваться в витрине магазина. Мама все чаще заказывала на обед картофельные котлеты, и я уже почти перестала надеяться на то, что когда-нибудь чудесная кукла перекочует из магазина ко мне в лаврский дом.
И вот неожиданно я увидела куклу с закрывающимися глазами у нас во дворе.
В день, когда это случилось, ничто не предвещало такого необыкновенного события.
Груня гремела на кухне тарелками и пела, украдкой поглядывая в окно:
Грим гремит вечерней тучей...
За окном слышался стук топора. Я отправилась во двор. И вот тут-то я увидела необыкновенную куклу...
Девочка в накрахмаленном белом платьице, в белых носочках и белых туфельках стояла у дверей и держала в руках куклу. Я взглянула на куклу — и сразу поняла, что это та самая, что улыбалась мне с витрины магазина на Крещатике. Я сделала шаг по направлению к девочке и замерла от восхищения. Девочка разглядывала меня, а я смотрела только на чудесную куклу.
— Можно?.. Дай мне подержать!.. — произнесла я наконец и протянула руку к кукле.
Девочка отстранилась.
— Моя! — сказала она и прижала к себе куклу.
— Она закрывает глаза? — спросила я.
— Конечно, закрывает! — ответила девочка так, словно обиделась на вопрос. — Видишь, вот она закрыла глаза!
Я наклонилась над куклой. И тут произошло нечто непоправимое! Девочка отдернула куклу — кукла выскользнула из ее рук и упала на булыжник.
«Цок!» Чудесная фарфоровая головка с голубыми глазами и улыбающимся ртом раскололась на куски.
Я стояла, в отчаянии глядя на разбитую о камни фигурку.
— Ах, боже мой, что здесь происходит! — послышался чей-то голос.
Я подняла голову. Передо мной стояла дама в белой шляпе, в руках дама держала белый кружевной зонтик.
— Это не я, это она! — захныкала девочка.
Дама обернулась к подошедшему дворнику и, указав на меня, спросила:
— Антон, чей это ребенок?
— Новых жильцов, барыня, — ответил дворник и, неодобрительно взглянув на меня, пояснил: — Студенческое дитё...
— Вот видишь, Лиля, я говорила тебе, чтобы ты не играла со всякими детьми! — с укором произнесла дама. Она поправила бант на голове Лили и прибавила: — Ну, не плачь, Лилечка, я куплю тебе новую куклу, еще лучше!
Лиля перестала плакать и только исподлобья взглянула на меня.
— Ну, вот и хорошо! — кивнув головой, сказала дама и, отбросив носком туфли распростертую на земле куклу, обратилась к дворнику: — Уберите это, Антон!
Дама и девочка направились к выходу.
Дворник, кряхтя, наклонился, взял куклу за ногу, пошел в противоположный конец двора и швырнул куклу в мусорный ящик.
Куклу с закрывающимися глазами!
Я побежала со двора. На пороге черного хода я наткнулась на Степана.
— Кукла! Кукла там, с закрывающимися глазами!.. — указав на мусорный ящик, забормотала я в отчаянии.
Степан наклонился ко мне.
— Я видел, всё видел, маленькая барышня, — произнес он и прибавил: — Только ты не плачь, я тебе игрушку сделаю лучше ихней. Вот увидишь, лучше!
Проснувшись на следующее утро, я подумала: «Какую же игрушку подарит мне Степан?»
Со двора уже доносился звон топора, и я побежала во двор.
Степан колол дрова. Увидев меня, он бросил на землю топор и кивнул мне. Я подбежала к нему и в нерешительности остановилась. Может быть, он обещал мне игрушку только для того, чтобы утешить меня?
— Здравствуйте! — сказала я.
Степан улыбнулся:
— Здравствуйте, маленькая барышня!
Мне хотелось спросить про игрушку, но я не решалась.
Степан оглянулся, посмотрел на окна лаврского дома. Я с надеждой глядела на него. Вот он порылся в карманах своих солдатских штанов и вытащил маленькую деревянную собачку. Собачка была совсем как живая, казалось, она вот-вот завиляет хвостом, откроет пасть и затявкает.
— Степа-а-ан! — послышалось из окна.
Степан сунул мне в руки собачку и бросился к окну.
Я с восхищением рассматривала неожиданный подарок.
С этого дня я очень подружилась со Степаном. Свободного времени у него почти не было. Он то колол дрова, то выколачивал развешанные на веревке ковры, то начищал до солнечного блеска сапоги Алексея Сергеевича, то натирал полы, то ставил самовар... Из окна поминутно слышалось:
— Степа-а-ан!..
Только после обеда, когда тетушка и племянник отдыхали, Степан присаживался на ступеньках черного хода, вынимал из кармана остро отточенный нож и вырезывал из чурочек разные вещицы. Новые игрушки рождались у меня на глазах.
Вот Степан расколол топором полено, затем отколол небольшую чурочку, уселся на ступеньку, поманил меня пальцем и начал ножом обделывать дерево.
Затаив дыхание я следила за ловкими движениями Степана: вот сверкающее острие ножа мягко врезается в дерево, вот появляется голова; поворот ножа, один, другой, третий... одна за другой появляются ноги. Вот на голове возникают рога, и чурочка превращается в козлика. Это совсем не то, что мертвая оленья голова, которая следит за мной стеклянными глазами в кабинете племянника, а совсем живое, согретое теплыми руками Степана существо.
Вскоре я перестала мечтать о кукле с витрины магазина, а бедная моя Катюша лежала в углу, и я не вспоминала о ней. Теперь у меня был новый, чудесный мир зверюшек, созданных ловкими руками Степана.
Валечка все еще была маленькой, и я никак не могла дождаться, когда она вырастет. Я подходила к голубой коляске, в который она спала, поднималась на цыпочки и заглядывала внутрь. Там виднелось среди белых пеленок красноватое личико с маленьким ротиком.
Хотя Валечка не понимает еще многого, но она уже говорит главные слова: «мама» и «папа».
Когда я улыбаюсь ей, она отвечает мне улыбкой, а когда плачу, смотрит на меня широко открытыми, тревожными глазами. Правда, она еще не умеет по-настоящему играть в куклы и со зверюшками, которые мне делает Степан, но она смеется, когда я позваниваю погремушкой, и протягивает к ней руки.
Мне казалось, что Валечка совсем не растет, и это очень огорчало меня.
Но однажды утром мама вдруг сказала:
— А ты знаешь, Яська, Валечка очень выросла. Пожалуй, скоро придется покупать для нее кроватку!
И совсем неожиданностью было для меня, когда как-то в воскресенье мама поставила Валечку на пол и стала учить ее ходить.
Мама расставила руки, и Валечка двинулась по полу, смешно раскачиваясь и неуверенно передвигая ножками.
— Валечка пошла! Валечка пошла!.. — закричала я и захлопала в ладоши.
Теперь скоро она будет играть со мной, я покажу ей всех зверюшек, мы будем вместе рассматривать «Макса и Морица», голубые китайцы будут кивать нам своими фарфоровыми головами, я познакомлю ее с Дорофеем Ивановичем и расскажу про его таинственные похождения, когда он «отправляется в сказку», и, уж конечно, Валечка подружится со Степаном, и он сделает ей тоже много интересных игрушек.
Когда мама укладывает Валечку спать, я подхожу к коляске и заглядываю в ее глубину. Валечка, утомленная своими первыми шагами, спокойно спит, посапывая маленьким, курносым, словно пуговка, носом.
Я все больше узнаю окружающий мир. Мир этот уже не только студенческая комнатушка на пятом этаже, лаврский дом, интендантский садик — теперь я уже часто гуляю с мамой или Груней по Печерску.
Каждый раз во время прогулки я узнаю что-нибудь новое.
— Ну, идем, Риточка! — говорила Груня. Она набрасывала на плечи платок, надевала на меня пальтишко и шапочку.
— Скорей, Груня, скорей! — кричу я с нетерпением.
Мы выходим на улицу. День ясный, жаркий, вдали на фоне яркого синего неба сияет на солнце золотой купол белоснежной лаврской колокольни.
По мостовой громыхают извозчичьи пролетки; поскрипывая, тянутся крестьянские возы.
Вот из-за угла показалась запряженная парой вороных рысаков черная лакированная карета. В окне кареты мелькнуло худое, словно вылепленное из воска лицо.
— Митрополит!.. — говорит Груня.
Карета мчится по направлению к лавре и исчезает вдали.
— Раз, два! Раз, два!.. — слышится чей-то рявкающий бас.
Четко отбивая шаг тяжелыми сапогами, по мостовой маршируют солдаты.
— Раз, два! Раз, два!.. — рявкает фельдфебель с черными нафабренными усами.
Груня приостанавливается и грустно смотрит вслед солдатам.
Вот затрубил рожок: «Та, та, та!» И уже не черная, а огромная желтая карета мчится по мостовой. На облучке кареты сидят двое людей в черных ливреях; один из них правит лошадьми, другой трубит в рожок. Прохожие шарахаются в стороны. Желтая карета проносится мимо. Я уже знаю, что желтая карета — это «скорая помощь», в «скорой помощи» сидит доктор, он помогает людям, когда с ними случается беда, — это рассказала мне мама.
Мимо нас по тротуару проходят офицеры в блестящих мундирах, дамы в шляпах с большими перьями, на плечах у них пышные гирлянды из маленьких птичьих перышек. Я со страхом посматриваю на этих женщин, они мне напоминают больших хищных птиц.
Вот идет толстый монах в черной длинной рясе, а вот худой и тонкий, с желтым, морщинистым лицом. Их очень много — офицеров и монахов...
Мы идем все дальше. А вот и «Арсенал».
Я еще издали узнаю его мрачные стены. Мы останавливаемся у железной ограды, отделяющей завод от улицы. «Арсенал» такой же мрачный, как и тогда, когда я в первый раз увидела его. Так же вспыхивают красноватые отсветы на его закопченных окнах. Я заглядываю через ограду, вижу людей — это рабочие. Хочу лучше увидеть их, но сквозь закопченные стекла это невозможно. Я вижу, как вспыхивает огонь горнов, вижу гигантские силуэты машин...
Вдруг мне кажется, что огромные стены «Арсенала» вздрагивают, раздаются глухие звуки: «Та! Тах! Та! Тах!»
Я прижимаюсь к Груне.
— Не бойся, Риточка, это большой молот! — успокаивает меня Груня.
— А это, это кто? — вдруг указываю я на мостовую.
По мостовой идут какие-то странные люди — старики с длинными белыми бородами, старухи со страшными, изборожденными морщинами лицами, пожилые и молодые мужчины и женщины. Они медленно бредут, опираясь на большие посохи и палки; рубища едва держатся на их плечах; за плечами висят холщовые торбы. У них темные, обветренные лица, глаза с красными, воспаленными веками, ноги обмотаны тряпьем. Вот одна из старух, в рваной рубахе и черной запаске, приподняла голову, взглянула на лаврскую колокольню и начала быстро, мелко креститься. И все остановились и закрестились, глядя на колокольню красными, гноящимися глазами.
— Груня, кто это? — с удивлением и страхом спросила я.
— Это богомольцы, — ответила Груня.
— А они кто, бо-го-моль-цы? — с трудом выговариваю я.
— Богомольцы — они богу молятся, — ответила Груня. — Вот в лавру идут богу молиться!
Ни папа, ни мама никогда не рассказывали мне о боге, но, вероятно, бог этот не очень добрый, если богомольцы такие несчастные. Мне очень жаль этих богомольцев.
Они всё еще крестятся, глядя на сияющий золотом купол лавры.
На перекрестке стоит важный, толстый городовой. Он страшно таращит маленькие черные глазки и подкручивает огромные черные усы.
Богомольцы наконец перестают креститься, осторожно обходят важного городового и, постукивая о мостовую палками, спешат к лавре.
Пыль застилает мне глаза. Груня берет меня за руку.
— Идем домой, Рита, — говорит она.
И мы направляемся к лаврскому дому. Мне уже хочется домой, к Валечке, к своим игрушкам.
Игрушек у меня теперь очень много, их делает мне Степан.
— Валечка уже, наверное, проснулась, — озабоченно говорит Груня. Она быстро взбегает вверх по лестнице, открывает дверь. — Так и есть!
Валечка уже проснулась — она сидит в коляске, солнце освещает ее пушистые светлые волосы. Она похожа на одуванчик — вся легкая, светлая, пушистая.
Я подхожу к ней. Она протягивает ко мне свои тоненькие ручки, радостно улыбается и смотрит на меня большими светлыми глазами.
Хорошо в этом мире, где так много непонятного и страшного, иметь хотя бы такого маленького друга, как похожая на одуванчик Валечка!
Случай с «киевлянином»
Я очень любила, когда приходил почтальон.
Утро. Мы сидим за столом и пьем чай. В передней раздается звонок.
— Почтальон! — кричу я и спрыгиваю со стула.
Подпрыгивая на одной ножке, я бегу в переднюю. Груня уже открыла двери, и почтальон вручает мне газету. Я прикладываю к лицу влажные странички и вдыхаю приятный, горьковатый запах типографской краски.
— Риточка, давай же скорей газету! — слышится папин голос из столовой.
Он всегда с нетерпением ждет, когда почтальон принесет газеты.
Я отдаю папе газету.
Он поспешно разворачивает ее. Пробежав глазами несколько строк, поднимает от газеты голову и оборачивается к маме.
— Нет, ты только послушай, Надя! — говорит он. — Ты только послушай!..
И начинает читать вслух. Когда папа читает газету, он очень волнуется: то встает и ходит по комнате, потирая руки, словно ему холодно, то снова садится за стол и начинает читать. В газете много непонятных для меня слов: социалисты, черносотенцы, война.
Папа часто говорит о каком-то «Киевлянине»:
«Этот «Киевлянин» опять лжет!»
«Этот «Киевлянин» опять обливает грязью студентов!»
«Киевлянин» опять ругает социалистов!»
«Киевлянин» с пеной у рта набрасывается на рабочих!..»
Я начинаю очень ясно представлять себе этого «Киевлянина». Конечно, это какое-то очень неприятное, злое и гадкое существо. «Киевлянин» постоянно ворчит и рычит, у него огромный, зубастый рот. Я очень ясно представляю себе, как «Киевлянин» с пеной у рта набрасывается на свою жертву. В общем, «Киевлянин» — исчадие злого, вражеского мира... И вот из-за этого «Киевлянина» я чуть не поссорилась со своими новыми знакомыми — тетушкой Степанидой Ивановной и ее племянником Алексеем Сергеевичем.
Вечерами папа и мама часто задерживались на работе, и тогда я заглядывала к соседям.
В тот вечер, когда произошел случай с «Киевлянином», я сидела в своем уголке и укладывала спать козликов и собачек.
Вдруг за стеной раздалось знакомое: «Тук! Тук!» Это был знак, что меня приглашают.
Я побежала к соседям.
И тетушка и племянник были дома. Алексей Сергеевич наигрывал на цитре, а Степанида Ивановна раскладывала на столе карты. Лампа, затененная зеленым шелковым абажуром, освещала полное лицо тетушки и склоненную над цитрой лысину племянника.
— Я хочу читать «Макса и Морица», — попросила я.
Алексей Сергеевич встал с кресла, вытащил из шкафа поблескивающий золотом томик и положил его на стол.
Я вскарабкалась на стул и начала перелистывать книгу с уморительными рожицами знаменитых шалунов — они очень нравились мне. Вот на странице появился мистер Трам; словно аист, шагает он на своих длинных ногах, приставив к глазам подзорную трубу.
Все было как обычно у соседей в эти зимние вечера, когда тетушка и племянник бывали дома.
Вдруг у дверей позвонили.
Степан открыл дверь и через минуту вернулся с газетой в руке. Он подал ее Алексею Сергеевичу.
— Почитай, мой друг, что там пишет «Киевлянин», — поверх очков посмотрев на племянника, сказала тетушка.
«Киевлянин»! Я насторожилась. Тот самый «Киевлянин», которого так ненавидели папа и мама, который был врагом всех рабочих, студентов, всех нас — папы, мамы, Груни...
Племянник поправил поблескивающие на его носу очки и начал читать:
— «Киевлянин» пишет: «Студенты снова бунтуют...» Пора всех этих бунтовщиков засадить за решетку.
Мои щеки и даже уши загорелись. Я отбросила томик с мистером Трамом, соскочила со стула и бросилась к племяннику. Не успел он опомниться, как я вырвала из его рук газету и принялась рвать ее.
— Гадкий, гадкий «Киевлянин»!.. — захлебываясь, повторяла я.
Алексей Сергеевич кинулся ко мне, но было уже поздно — от газеты остались только клочки. Я стояла со слезами на глазах, вся дрожа.
— Риточка! Маргарита! Боже мой, что с тобой, что с ребенком? — залепетала перепуганная тетушка.
— Закройте двери, чтобы Степан не вошел! — крикнул племянник. Сам он стал на колени и начал подбирать с полу обрывки «Киевлянина».
Степанида Ивановна бросилась закрывать дверь.
Собрав все обрывки, Алексей Сергеевич поднялся с колен. Он разложил обрывки на столе и начал составлять их.
— Что это такое, друг мой, что с тобой, Маргаритка?.. — продолжала лепетать тетушка.
Алексей Сергеевич обернулся к ней.
— Оставьте ребенка! Воспитание... понимаете — вос-пи-та-ние!.. — по слогам произнес он.
Тетушка привлекла меня к себе.
— Маргаритка, кто сказал тебе, что «Киевлянин» гадкий? — спросила она меня шепотом.
Руки у нее были мягкие. От просторной, в голубую крапинку, заколотой у горла большой блестящей брошью кофточки пахло чем-то сладким.
— Рита, кто тебе сказал, что «Киевлянин» гадкий? — повторила она. — Это папа сказал, да?
Сердце мое тревожно забилось. Мне вдруг стало страшно в этой красивой комнате. Все показалось мне чужим: и фарфоровые безделушки на этажерках, и плюшевые кресла, и племянник в мундире с поблескивающими золотом погонами, и тетушка его с мягкими, словно пуховыми, руками.
Я отстранилась от неё. Ответить на вопрос — значит, сделать что-то очень плохое, вдруг, сама не зная почему, почувствовала я.
Я вырвалась из мягких, крепко державших меня рук и бросилась к дверям...
Прошло три дня, из-за стены стука не слышалось, соседи не звали меня к себе.
На четвертый день я вдруг услыхала: «Тук, тук!»
Я подняла голову и прислушалась. Стук повторился.
«Тук! Тук! Тук!» — настойчиво звучало за стеной. Я продолжала укладывать спать деревянного козлика.
Стук затих, но в дверях появился Степан.
— Здравствуйте, маленькая барышня! — сказал он. — Барыня зовет вас к себе, а их благородие уехавши на винт!
Отказать Степану я не могла и побежала к соседям, тем более, что за эти три дня история с «Киевлянином» уже перестала мне казаться такой страшной.
Что Алексей Сергеевич уехал «на винт» — это тоже было хорошо: все же после истории с «Киевлянином» мне не хотелось встречаться с ним.
Я вошла в гостиную.
— А, Маргаритка! Иди, иди сюда! — как всегда, приветливо встретила меня Степанида Ивановна.
Мир был восстановлен.
Тетушка отложила в сторону свое вязанье и достала из шкафа «Макса и Морица».
Я начала перелистывать книгу. Вот на странице мелькнула несуразная фигура мистера Трама. Я рассмеялась.
— Какой он смешной, правда? — сказала я, указав на картинку.
Но тетушка вдруг, вместо того чтобы взглянуть на рисунок, произнесла, внимательно посмотрев на меня из-под очков:
— Рита, а ты богу молишься?
— Нет, — ответила я, продолжая перелистывать книгу.
— Как... не молишься?! — Глаза ее на секунду стали совсем круглыми, затем она качнула головой, сняла очки, свернула вязанье, проколов его спицей, и положила на стол рядом с «Максом и Морицем». — Закрой книгу, Маргаритка! — произнесла тетушка многозначительным тоном.
Она с минуту молча смотрела на меня, затем, вздохнув, перевела взгляд на висевшую в углу икону, где среди серебра и золота тускло темнело длинное и темное лицо со странными узкими глазами.
— Надо молиться богу, Риточка! — произнесла Степанида Ивановна наставительно. — Разве тебя никто не учил, как надо молиться?
— Не-ет! Не учил, — ответила я.
Тетушкины слова очень удивили меня.
— А зачем молиться? — спросила я.
— Как — зачем? — с укором взглянув на меня, сказала она, и на ее полном белом лице выступили красные пятна. — Как — зачем? Вот будешь молиться, бог и даст тебе все, чего ты захочешь! Если будешь молиться богу, он тебе и беленькие башмачки, и платьица, и куклу даст!.. Бог, он все дает людям, которые молятся.
«Богомольцы», — вдруг вспомнила я страшных, изможденных, босых людей, старуху с красными, слезящимися веками...
— Богомольцы... это те, что богу молятся, да? — спросила я.
— Ну да, — утвердительно кивнула головой тетушка, — богомольцы богу молятся...
— А почему бог не даст им платьев и башмаков, и почему они такие худые? Им нечего есть, да? — спросила я.
Степанида Ивановна нахмурилась и сказала сердито:
— Нельзя так говорить, надо верить в бога — и всё. И молиться надо, а то бог покарает...
— Покарает? — спросила я.
«Покарает» — это было новое для меня слово, я никогда такого слова раньше не слыхала.
— Ну, накажет, — пояснила тетушка и прибавила: — А ты не спрашивай. Нехорошо, когда маленькие дети рассуждают! А молиться нужно, и всё!..
Я не ответила и пошла к плюшевому стулу. Взобравшись на него, я снова начала перелистывать страницы, но теперь уже не с таким интересом разглядывала смешные мордочки Макса и Морица. Время от времени я поглядывала на темневшее среди золота и серебра темное лицо со странными узкими глазами. Я никак не могла представить себе, что бог может дать мне белые башмачки или «покарать» меня. И мне было очень жаль богомольцев: вот они молились ему, а он поступал с ними нехорошо, даже не дал им башмаков!
В лавре
Однажды Степанида Ивановна взяла меня погулять. День был ясный. Улицы залиты ярким солнечным светом. На фоне голубого неба, как обычно в солнечные дни, ярко блестел купол лаврской колокольни.
— Мы пойдем в интендантский садик? — спросила я.
— Да, — ответила тетушка, но вдруг, взглянув на лаврскую колокольню, спросила: — Риточка, ты была в лавре?
— Нет.
— Боже мой! — вздохнула она. — Жить в двух шагах от лавры и не повести туда ребенка! Бедное дитя! — Тетушка снова вздохнула и, подумав минуту, спросила: — Риточка, хочешь пойти в лавру?
— Хочу! — живо ответила я.
Степанида Ивановна решительно взяла меня за руку, и мы двинулись к сияющей на солнце лаврской колокольне.
Чем ближе мы подходили к лавре, тем на улице становилось все оживленнее — по мостовой спешили богомольцы, проносились экипажи и извозчичьи пролетки.
— Вот и лавра! — сказала тетушка и повела меня к большим белым воротам.
У ворот толпились богомольцы.
Степанида Ивановна хотела войти в ворота, но вдруг послышался чей-то зычный голос:
— Посторонись!
Тетушка рванула меня в сторону. К воротам подкатила коляска, запряженная парой вороных лошадей. На облучке сидел толстый кучер, на голове у него была черная шапка с пестрым павлиньим пером.
— Посторонись! — снова крикнул он.
Богомольцы шарахнулись в сторону, какая-то старуха в порванной свитке поскользнулась, выронила палку и упала на землю.
— Ой, господи! Прости, господи!.. — забормотала она, шаря по земле руками. — Палка-то, палка-то где?
Худой, оборванный паренек в лаптях бросился помогать старухе.
Кучер натянул волоки — и лошади сразу остановились у ворот.
Из порот выбежали два монаха в черных длинных рясах.
Они подошли к коляске, помогли выйти какой-то даме и, поддерживая под руки, повели ее к воротам.
Дама шла, обмахиваясь кружевным платочком.
— Это очень богатая тетя! Она пожертвовала лавре очень много денег! — сказала Степанида Ивановна, почтительно посторонившись, чтобы дать дорогу богатой даме.
Дама скрылась в воротах.
Мы вошли вслед за ней.
В глазах у меня зарябило — большие белые здания, сверкающие на солнце купола, монахи в длинных черных одеждах, богомольцы, нищие...
Воздух гудел от перезвона колоколов.
— Идем! Идем, Рита! — заспешила тетушка.
Она взяла меня за руку, и мы направились к большому белому зданию. У дверей его было особенно много нищих. Худые, бледные, в лохмотьях, слепые, покрытые страшными язвами, они протягивали руки к прохожим:
— Подайте копеечку!
— Подайте милостыньку!.. Подайте!.. — слышались со всех сторон их жалобные голоса.
Я остановилась и с удивлением глядела по сторонам.
Степанида Ивановна вытащила из ридикюля копейку, дала мне и указала на одного из нищих:
— Подай милостыньку старичку.
Старик протянул ко мне пустую чашку, я поспешно положила в нее монету и хотела вернуться к тетушке, но стоявшая рядом со стариком нищая протянула ко мне руку.
— Подай милостыньку, барышня! — жалобно произнесла она.
Я бросилась к тетушке:
— Еще дайте копеечку, вон той бабушке, и еще мальчику!
Степанида Ивановна нахмурилась.
— Вон той бабушке и мальчику! — повторила я и потянула ее за рукав.
— Хватит, хватит, всех не обделишь! — заспешила она.
Несколько рук потянулось к ней.
— Бог подаст, бог подаст!.. — забормотала она и направилась к распахнутым дверям.
Мы вошли. Тетушка протолкнула меня вперед и прошептала:
— Стой смирно!
Я хотела осмотреться, но впереди, кроме чьих-то спин, ничего не увидела. Рядом со мной стояла та самая старушка, которую чуть не сбил экипаж богатой тети.
Откуда-то с высоты доносилось пение, вдали слышался чей-то зычный голос, он произносил непонятные слова.
Тетушка что-то бормотала, вздыхала, закрывала глаза, поднимала их к потолку.
Мне было жарко и душно, гораздо лучше было бы сейчас играть со зверюшками или гулять с Груней.
— Домой, домой!.. — тихонько прошептала я.
— Ш-ш!.. — зашипела тетушка.
Я замолкла. К нам приближался монах с большим блюдом в руке. Все, к кому подходил монах, клали на блюдо монеты.
Монах остановился перед тетушкой, она поспешно положила на блюдо серебряную монету.
Монах подошел к старушке.
— Сейчас! Сейчас! — заметалась старушка. Она вытащила из-за пазухи какую-то тряпочку и стала развязывать ее. Руки у старушки дрожали, и она никак не могла развязать узелок.
Монах сердито, исподлобья взглянул на нее и что-то пробормотал сквозь зубы.
Старушка с испугом взглянула на монаха.
— Ой, сейчас, батюшка, сейчас... Руки-то старые, натруженные, не слушаются, — прошептала она.
Я со страхом посматривала то на старушку, то на монаха. Монах ждал, не спуская глаз с дрожащих, силившихся развязать узелок пальцев старушки.
Но вот старушка развязала узелок, бережно вынула из тряпочки большой темный пятак и положила его на блюдо.
Монах взглянул на пятак, нахмурился и отвернулся.
— Помяни, боже, помяни... — зашептала старушка.
Монах с блюдом двинулся дальше.
«Дзинь, дзинь!..» — послышался звон монет.
Старушка с тоской глянула вслед монаху и, вздохнув, спрятала тряпицу за пазуху.
Тетушка подняла глаза к потолку, где был изображен сидящий на облаках старик с седой бородой, и снова что-то забормотала. Старушка вздохнула и начала бить поклоны.
Гнусавый голос все повторял какие-то непонятные слова, становилось все жарче. Я очень устала стоять, мне хотелось присесть или выбраться из толпы, но Степанида Ивановна крепко держала меня за руку; она то крестилась, то вздыхала, закрывая глаза, то снова что-то бормотала.
Мне было жарко, платьице взмокло от пота, в горле пересохло, першило от дыма, синие волны которого плавали в спертом воздухе. Вдруг колени мои подогнулись, черные мурашки замелькали перед глазами.
— Я... я хочу домой! Домой!.. — произнесла я и рванулась от тетушки.
— Риточка, что ты? Риточка!.. — стараясь удержать меня, зашептала она.
— Я... я домой! Домой!.. — повторила я, стараясь пробраться к выходу.
— Тише! Тише!.. — зашептала тетушка и бросилась за мной.
Мы вышли. Свежий ветер пахнул мне в лицо. Передо мной вдали, утопая в солнечном свете, синел Днепр, зеленели луга. Все это было таким ярким и свежим!
Степанида Ивановна привела в порядок мое измятое платьице. Она укоряла меня за то, что я не дала ей «домолиться», но я уже не слушала ее и только очень обрадовалась, когда она сказала:
— Ну уж пойдем, пойдем домой!
Мне совсем не поправилось в лавре. И я решила больше туда не ходить. Но вскоре лавра снова напомнила о себе.
Лаврский эконом
Я очень часто слышала о лаврском экономе.
— Послушай, Яська, что мы будем делать, если завтра явится лаврский эконом? — говорила мама и прибавляла: — Ты знаешь, он держит в руках всю лавру!
И вот лаврский эконом явился — это произошло 21-го числа.
В окнах чуть брезжил рассвет, я крепко спала в своей кроватке. Вдруг раздался звонок. Я проснулась и выглянула из кроватки. В комнате было еще темно. Я прислушалась. Дверь скрипнула, и луч света упал на пол. В дверях появилась мама, в руках она держала зажженную лампу. На ней была белая ночная кофточка. Свет от лампы освещал ее взволнованное, озабоченное лицо.
Мама направилась к столу. За ней шел толстый монах в черной лоснящейся рясе. Черные курчавые волосы его вздымались на голове спутанной шевелюрой. Он держал в руках большую палку и громко постукивал об пол.
Позади него шел дворник, но теперь этот дворник имел уже совсем не важный вид. Под мышкой он нес большую подворную книгу.
«Лаврский эконом», — со страхом догадалась я, глядя на человека в черной рясе.
Мама подошла к столу, и поставила на стол лампу. Дворник бросился пододвигать лаврскому эконому стул.
Лаврский эконом грузно опустился на стул. Свет упал на его толстое, лоснящееся лицо, и я увидела два маленьких страшных глаза. Эти черные глаза секунды две быстро бегали во все стороны, словно ощупывая все окружающее, а затем остановились и, как два острых буравчика, впились в мамино лицо.
Дворник раскрыл подворную книгу и пододвинул ее к лаврскому эконому.
Тот опустил, глаза, и, когда две черные страшные точки исчезли с его лица, он стал словно слепым и глухим ко всему окружающему. Толстый, узловатый палец медленно пополз по странице и остановился.
— С вас причитается... — произнес он, поднимая глаза на маму.
— Хорошо, мы внесем, но я просила бы подождать дней пять, — ответила она. — Я получу деньги за частный урок только через пять дней.
— Нет... Уж этого не могу, уж этого не могу, — повторил лаврский эконом.
— Но у меня дети, муж сейчас болен, я прошу подождать хотя бы два дня.
Лаврский эконом захлопнул книгу.
— Лавра ждать не может, — произнес он и положил свою тяжелую, широкую ладонь на подворную книгу.
Дворник бросился к эконому, чтобы помочь ему подняться. Упершись руками о стол, лаврский эконом встал и направился к двери.
Дворник с подворной книгой последовал за ним.
— Надя, что там такое? — послышался из соседней комнаты голос папы.
— Ничего, Яська, спи, спи! — крикнула мама.
Но дверь из спальни распахнулась, и в комнату вошел папа.
Лицо у него было очень бледное, только на скулах, как всегда, краснели пятнышки. Черные пряди вьющихся волос прилипли к влажному лбу. На плечах у него был наброшен пиджак. Папа увидел лаврского эконома.
— Мы внесем плату... Я гарантирую лавре, — произнес он.
Лаврский эконом приостановился, окинул быстрым, оценивающим взглядом своих страшных маленьких глаз папу и повернулся к дворнику.
— Антон, если сегодня к двенадцати часам плата не будет внесена, вывеси наклейку, что квартира сдается внаймы, — сказал он и двинулся к дверям.
— Вы не имеете права, я... — Папа закашлялся.
Мама бросилась к нему:
— Что ты делаешь, Яська, зачем ты встал, ты же болен!
Папа провел ладонью по лбу, на котором блестели капли пота.
— Ничего, Надя, это пройдет, вот уже прошло. — Он улыбнулся: — Мы еще повоюем!
Папа снова закашлялся. Мама взяла его за руку и увела в спальню.
Хлопнула входная дверь...
«Так вот он какой, лаврский эконом!» — подумала я.
На следующий день в квартире у нас запахло нафталином. Мама открыла сундук. В этом сундуке было сложено все наше имущество. Старая папина тужурка, мое ватное пальтишко, мамина шубка и другие вещи. Мама долго рылась в глубине сундука.
— Яська, — обратилась наконец она к папе, — моя заячья шубка, собственно, не очень нужна мне. Я перехожу зиму и в осеннем пальто, зимы теперь такие теплые.
Мама запаковала заячью шубку и сказала, что поедет в ломбард. Она возвратилась часа через два и вынула из сумочки две новенькие бумажки. Плата за квартиру на этот раз была внесена, и мы остались в лаврском доме.
Но теперь, когда я видела сверкающую на голубом небе лаврскую колокольню, она уже не казалась мне такой красивой, а когда раздавалось знакомое: «Бом! Бом!..» — я со страхом поеживалась.
Богатая тетя
У дверей раздался звонок. Я, как всегда, бросилась в переднюю, напевая:
— Почтальон! Почтальон! Вот пришел почтальон!..
Действительно, это был почтальон. Он подал мне газету. Я схватила пахнувшие типографской краской листы, на секунду прижала их к лицу и побежала в комнату.
— Постой, девочка! — остановил он меня.
Я обернулась. Почтальон порылся в сумке, вытащил оттуда письмо и подал его мне.
— Письмо, мама, письмо! — закричала я, вбегая в комнату.
Она взглянула на конверт и сказала:
— Это от Лизы!
О тете Лизе я слышала не раз. Она жила со своим мужем где-то далеко и была очень богата. Тетя Лиза писала нам редко.
— От Лизы? — с удивлением спросил папа, отложив газету.
Мама вынула из конверта письмо и начала читать:
— «Дорогие Надя и Яша! Мы давно не получали от вас вестей, но вот узнали от родных, что Яша болен. Зная ваше тяжелое положение и памятуя свой христианский долг, мы решили помочь вам. Как вы знаете, мы люди бездетные, но господь бог не обидел нас достатком, так вот и решили мы взять на воспитание вашу младшую дочь Валентину. У нас она ничем не будет обижена. Думаем, что это будет для вас самой лучшей помощью».
Мама опустила письмо на стол.
— Читай, читай дальше, Надя! Интересно, что еще придумали богатые родственники.
Мама взяла письмо и начала читать дальше:
— «А вам мы ставим только одно условие, чтобы вы, Надя и Яша, как родители, отказались от дочери. Мы хотим воспитать ее в своем духе. Думаем мы, что ты, Надя, хлебнула горя из-за Яшиных убеждений, достаточно и он пережил, будучи административно высланным, и здоровье потерял, и еще неизвестно, как все это кончится в теперешнее тревожное время...»
Мама приложила руку к щеке, лицо ее горело.
— Читай! Читай! — усмехнувшись, сказал папа.
— Ой, Яська, не могу! — прошептала мама, но, скользнув глазами по письму, она продолжала: — «Мы тоже люди не отсталые. Федю даже считают на службе либералом, но мы понимаем, что, как говорится, «плетью обуха не перешибешь». Конечно, каждый живет по-своему. Взрослого не переубедишь, а ребенка воспитать можно. Так вот, когда Валечка подрастет, мы ее отдадим в Институт благородных девиц...» — Мама бросила письмо на стол: — Вот помощь богатых родственников! Ты подумай, Яська! Они хотят забрать ребенка от матери, воспитать на свой лад! Видишь ли, им не нравятся твои убеждения!.. И, в довершение всего, они еще собираются отдать Валечку в Институт благородных девиц! В институт, где калечат детские души!
Папа встал, по привычке заходил по комнате.
— А чего можно ожидать от этого Феди-либерала и богатой тетушки? — сказал он.
— Нет, нет! Ты подумай только — отдать Валечку в Институт благородных девиц, где калечат детские души! — повторила мама и прибавила: — Нет, уж лучше я буду работать и ночью, а о том, чтобы отдать Валечку, не может быть и речи!
Папа остановился и, обняв ее, сказал:
— Ну конечно, Надя, конечно'
Валечка заворочалась в своей кроватке, мама наклонилась над ней и поправила одеяльце. Было ясно, что Валечке угрожала какая-то опасность, но мама спасла ее от этой опасности, и теперь все будет хорошо.
Вскоре оказалось, что опасность попасть в институт, где «калечат детские души», угрожает и мне.
Однажды вечером, когда папы и мамы не было дома, я отправилась к соседям. Степанида Ивановна очень обрадовалась мне.
— Вот хорошо, Маргаритка, что ты пришла! — сказала она особенно приветливо.
Я хотела взобраться на плюшевый стул и заняться «Максом и Морицем», но она поманила меня к себе:
— Иди-ка сюда, Маргаритка, я тебе что-то покажу!
Тетушка отложила вязанье, взяла меня за руку и повела в угол гостиной.
— Вот посмотри, Маргаритка! — Она указала в угол.
Я взглянула туда, и у меня захватило дух.
В углу на ковре лежала груда игрушек. Что это были за игрушки! Чего только здесь не было! Плюшевый заяц с черными блестящими глазами-пуговками. Чайная посуда: маленькие чашечки, блюдечки, пузатый чайник, молочник; огромный пестрый мяч; детская мебель... И, что больше всего поразило меня, на одном из маленьких детских кресел восседала большая красивая кукла. Кукла с закрывающимися глазами! Точь-в-точь такая, о которой я так долго мечтала и уже, по правде говоря, перестала мечтать.
— Ну, поиграй же, поиграй, — сказала тетушка.
Я стояла, растерянно глядя на этот чудесный игрушечный мир. Ничего подобного я никогда не видела.
Минуту-другую я стояла, не решаясь прикоснуться к этим чудесным вещам. Но кукла была такой красивой, что я наконец не выдержала и протянула к ней руки.
Степанида Ивановна одобрительно улыбнулась и уселась за свое вязанье.
Целый вечер я была в этом игрушечном мире. Тетушка время от времени внимательно посматривала на меня поверх очков.
Но вот часы пробили девять. Пора было отправляться домой. Я прижала к груди куклу и направилась к дверям.
— Э-э, нет, нет, Маргаритка! Положи обратно куклу! Она не твоя! — остановила меня тетушка и прибавила: — Вот если ты навсегда останешься у нас жить, тогда все эти игрушки будут твои!
Я остановилась и с удивлением взглянула на тетушку.
— Ну да, если ты, Маргаритка, останешься у нас жить, я подарю тебе эту красивую куклу и все эти игрушки! — повторила она.
— А мама тоже будет у вас жить? — спросила я.
— Нет, зачем же. Мама будет жить у себя дома с папой и Валечкой, а ты со мной и Алексеем Сергеевичем у нас.
Я пристально взглянула на тетушку. Нет, она не шутила!
Я подумала минуту-другую, затем положила куклу на ковер и пошла к двери.
— Подожди, Маргаритка! Куда ты? — крикнула Степанида Ивановна.
Она подошла ко мне, взяла меня за руку и повела в столовую.
В столовой на столе, покрытом белоснежной скатертью, стояли чашки, сухарница с крендельками, вазочки с вареньем.
Тетушка уселась за стол и усадила меня напротив.
Степан подкатил к ней маленький столик, на котором стоял серебряный самоварчик. Тетушка налила две чашки чаю: одну, большую, для себя, и маленькую, белую, с красными крапинками, для меня.
— Ну вот, Маргаритка, возьми кренделек и послушай, что я тебе скажу, — произнесла она и пододвинула ко мне сухарницу с грудой усыпанных сахаром крендельков.
Я взяла один из них.
Отхлебнув глоток чаю, тетушка взглянула на меня и спросила:
— Понравились тебе игрушки, Маргаритка?
— Понравились! — ответила я.
Степанида Ивановна кивнула головой:
— Ну вот и хорошо! А если ты останешься жить у нас, Алексей Сергеевич купит тебе еще много хороших игрушек. — Она помолчала и, пристально взглянув на меня своими круглыми глазами, спросила: — Мама тебе таких игрушек, наверное, не покупает?
— А какая у вас чашка в крапинку красивая! — не ответив на вопрос, произнесла я.
— Чашка? Ну вот, ты всегда будешь пить какао из этой чашки в крапинку. А дома ты пьешь какао, Маргаритка?
— Нет, не пью, — ответила я.
Тетушка вздохнула и пододвинула ко мне поближе сухарницу с крендельками.
— Ну конечно, вы же бедные!..
Это было неверно. Я поправила ее:
— Нет, мы не бедные, это рабочие бедные.
Тетушка поперхнулась и уронила кренделек.
— Что, что такое? — произнесла она с испугом.
Видно, я сказала что-то такое, чего не надо было говорить.
Я растерянно оглянулась и увидела Степана. Он улыбался.
Тетушка покраснела.
— Ступай на кухню! — крикнула она Степану.
Лицо Степана, как всегда, когда тетушка или племянник что-нибудь приказывали ему, вдруг словно окаменело. Он вышел из столовой.
Степанида Ивановна вытерла кружевным платочком выступивший на лбу пот, взглянула па меня и произнесла:
— Бедное дитя! — Потом она пододвинула ко мне блюдечко с вареньем: — Так вот, Маргаритка, если ты будешь жить у нас, мы тебе купим много-много игрушек и платьиц. Ты наденешь хорошенькое белое платьице и белые башмачки, все девочки будут завидовать тебе. А затем, когда ты подрастешь, мы отдадим тебя в Институт благородных девиц...
Услышав, что меня собираются отдать в институт, тот самый институт, где «калечат детские души», я мгновенно соскочила со стула и, оставив на столе недоеденный сахарный кренделек и недопитую чашку в крапинку, бросилась к дверям...
Сверчок
Я продолжала бывать у соседей, но теперь я с опаской поглядывала на тетушку: не предложит ли она мне навсегда остаться у нее или не собирается ли отдать меня в институт, где «калечат детские души». Но тетушка разговора об этом не начинала, только теперь каждый раз меня ждал какой-нибудь сюрприз — то кукла, то новая книга с пестрыми картинками... А однажды она таинственно указала мне на этажерку:
— Посмотри-ка сюда, Маргаритка!
Я увидела маленькую клеточку, состоящую из тоненьких, как спички, жердочек.
В комнату вошел Алексей Сергеевич. Он взял клеточку в руки и поднес ко мне:
— Посмотри, посмотри, что там?
Я заглянула в щелочку и увидела какое-то странное темное существо.
— Это сверчок! — объяснил он.
— А зачем он в клетке? — спросила я, с удивлением разглядывая странное существо.
— Для того чтобы трещать! Вот послушай!
Племянник уселся в качалку, тетушка — в свое кресло. Минуту-другую в комнате было тихо. Я во все глаза смотрела на клетку, в которую был заключен сверчок.
Вдруг в тишине послышалось:
«Стук! Стук! Цвиринь! Цвиринь! — Звук был тихий, но явственный. — Стук! Цвиринь! Стук! Цвиринь!»
— Замечательно! — ударив широкой ладонью по столу, воскликнул Алексей Сергеевич.
«Стук! Цвиринь! Стук! Цвиринь!..»
В этот вечер племянник не поехал в офицерское собрание и не играл на цитре — весь вечер он слушал, как трещит сверчок.
Сверчок очень заинтересовал меня. На следующий день, когда племянника не было дома, а тетушка вышла из комнаты, я стала на цыпочки и начала разглядывать сверчка. Он показался мне очень несчастным. «Наверное, ему очень скучно, очень одиноко... Еще бы, ведь он сидит в тюрьме! В тюрьме за решеткой!»
Послышалось шлепанье тетушкиных туфель. Я отошла от этажерки.
Племяннику очень нравилось слушать, как трещит сверчок.
Каждый вечер сверчок начинал свое:
«Стук! Цвиринь! Стук! Цвиринь!..»
А племянник время от времени хлопал ладонью по столу и восклицал:
— Забавно! Ей-богу, забавно!
Услышав этот возглас, сверчок на минуту-другую прекращал свое «Стук, цвирянь», а затем снова принимался выщелкивать свою одинокую, грустную песенку.
Мне никогда не удавалось остаться в комнате вдвоем со сверчком, а между тем меня все больше и больше интересовало это маленькое, заключенное в клетку существо. «Ведь так скучно бывает даже стоять в углу, когда мама отчертит мелом на полу линию и не позволяет выходить за нее...» И мне начинало казаться, что было бы гораздо лучше, если бы сверчок сидел в своей щели, а не в этой хорошенькой клетке.
Шли дни за днями, а сверчок все продолжал свое грустное: «Стук! Цвиринь!..»
Но вот однажды вечером произошло событие, которое изменило все...
Я была у соседей. Тетушка сидела в кресле и плела кружево. В гостиную вошел племянник.
— А, Маргаритка! — кивнул он мне и, приглаживая ладонями лысеющие виски, направился к клеточке со сверчком.
— Ну-с, как поживаешь? — произнес он, прищуривая глаз и заглядывая в клетку. — Извольте-ка помузицировать!
Но вдруг племянник обернулся, и его лицо побагровело.
— Что это значит? Где сверчок? — спросил он, взглянув на тетушку.
— Сверчок? Сверчок! Да вот Степан сегодня вытирал пыль, уронил клетку, дверца открылась — и сверчок выскочил, — произнесла тетушка.
— Как? Как?..
— Мы всю гостиную обыскали, да, видно, он ускользнул в щель, — сказала тетушка и прибавила: — А уж Степана я разбранила!
— «Разбранила»! — процедил сквозь зубы племянник и, круто повернувшись на каблуках, пошел к дверям.
— Алеша, Алексей Сергеевич! — крикнула встревоженная тетушка.
Но он не обернулся и направился в кухню.
«Сверчок убежал из клетки — это хорошо, теперь он будет на свободе!» — обрадовалась я, но вместе с тем я тоже с тревогой взглянула вслед племяннику.
— Маргаритка, сбегай-ка на кухню и скажи Алексею Сергеевичу, что я прошу его сюда, — отложив вязанье, сказала тетушка и, вздохнув, прибавила: — Вот всегда сердце себе расстраивает!
Я соскочила со стула и побежала в кухню, чтобы позвать племянника.
Конец дружбы
В кухне все сияло: белоснежные кафели плиты, на полках до солнечного блеска начищенные медные кастрюли...
У плиты хлопотала кухарка Варвара. Посреди кухни стоял Степан, а перед ним Алексей Сергеевич. Я увидела его широкую спину в белоснежной рубашке, перекрещенную голубыми подтяжками, красный бритый затылок, переходящий в рыжую щетину волос. Он стоял наклонив голову, слегка расставив ноги.
Степан стоял навытяжку. Губы его были крепко сжаты, а светлые серые глаза, не мигая, смотрели прямо перед собой.
Я хотела позвать Алексея Сергеевича, но, прежде чем я успела вымолвить слово, он вдруг шагнул к Степану, размахнулся и... ударил Степана по лицу. Степан пошатнулся, кровь хлынула у него из носа.
— Ой, господи! — ахнула Варвара и обернулась к окну.
— Пошел, болван! — сквозь зубы бросил племянник.
Степан, пошатываясь, направился к водопроводному крану и, наклонившись над ним, начал смывать кровь.
Племянник обернулся и шагнул к двери.
Только теперь я поняла, что случилось что-то страшное.
Я вскрикнула и кинулась из кухни.
В гостиной тетушка, сидя в кресле, продолжала спокойно вязать. Я бросилась к ней, рыдая, и спрятала лицо в ее коленях.
— Там, там, там!.. — бормотала я захлебываясь.
— Что, что там? — с испугом спросила она.
— Там... он бил Степана!.. — произнесла я, вся дрожа.
Тетушка облегченно вздохнула:
— Ах, вот что!
В эту минуту в дверях показался племянник.
Тетушка взглянула на него поверх очков.
— Зачем же при ребенке, мой друг! — произнесла она с упреком.
Били Степана, моего друга, большого, взрослого человека!..
Я не могла успокоиться и долго не засыпала в этот вечер. Я лежала в кроватке и думала о том, что довелось мне пережить в этот день.
Вот мама тихонько, чтобы не разбудить меня и Валечку, разделась и направилась к кровати.
— Мама! — шепотом позвала я.
Мама остановилась и прислушалась.
— Мама! — громче повторила я.
Она подошла к моей кроватке и наклонилась надо мной.
— Почему ты не спишь, Риточка? — спросила она.
— Мама, он бил... он бил Степана! — прошептала я.
— Кто бил, что ты, Риточка?
— Он... бил... бил... — повторила я и, захлебываясь от слез, начала рассказывать обо всем.
Мама слушала молча, не прерывая меня. В темноте надо мной мерцали ее большие, внимательные глаза.
Но вот она наклонилась еще ближе:
— Никогда, слышишь, никогда, больше не ходи к ним! — произнесла она и повторила: — Никогда!
— Да, да, никогда!..
Это «никогда» было окончательным осуждением того несправедливого, страшного, что довелось увидеть мне в лаврском доме.
На следующий день я несколько раз выходила во двор, но Степана на дворе не было. Не появился он и на другой и на третий день. Проходя мимо окна, где обычно сидела тетушка, я невольно поглядывала на него, но занавесочка была задернута.
На четвертое утро я услыхала во дворе знакомый звон топора.
Я побежала к сараю — у сарая рубил дрова не Степан, а какой-то незнакомый человек. Одет он был так же, как и Степан, — в зеленоватую выцветшую рубашку.
Я бросилась в кухню.
Груня стояла у стола и чистила картошку.
— Груня, а где же Степан? — спросила я.
Груня вздрогнула, неочищенная картошка выскользнула из ее руки и упала в кастрюлю.
— А кто это дрова рубит, а где Степан? — допытывалась я.
— Степана отправили. А это... это ихний новый денщик... А Степана отправили... — произнесла Груня запинаясь.
Она вдруг закусила губы и отвернулась.
— А куда отправили Степана? — спросила я, с тревогой глядя на Груню.
— В казарму, — не оборачиваясь, ответила Груня. — В казарме... ой, лышенько... в казарме он теперь!
На плите ничто не шипело и не сбегало, но Груня вдруг бросилась к плите и начала передвигать кастрюли.
Я не могла представить себе, что такое казарма, но, очевидно, это было что-то очень плохое... И вот Степана отправили в эту казарму!
Да, дружба с соседями из лаврского дома кончилась навсегда!
Теперь я уже не ждала знакомого стука и все вечера проводила дома.
Папины товарищи
По вечерам к папе часто приходили товарищи. Одного из них называли удивительным именем — «Дон-Кихот».
Дон-Кихот был длинный и высокий, такой высокий, что головой он почти касался притолоки дверей. Маленькая светлая бородка клинышком заканчивала его худое, продолговатое лицо. Мама говорила, что Дон-Кихот оттого такой худой, что долго сидел за решеткой на хлебе и воде.
Дон-Кихот! Дон-Кихот! Мне очень нравилось это необыкновенное имя, и я часто напевала: «Дон, Дон, Дон! Дон-Кихот, Дон-Кихот!»
Однажды мама сказала:
— Яська, скажи-ка Николаю, чтобы он приходил к нам обедать. Он, видимо, совсем изголодался.
На следующий день к обеду пришел Дон-Кихот. И тут оказалось, что у Дон-Кихота есть совсем обыкновенное имя, что Дон-Кихот — это Николай, а Николай — Дон-Кихот!
За столом я во все глаза смотрела на Николая — Дон-Кихота, и он казался мне очень загадочным.
Дон-Кихот — Николай ел очень быстро, как будто он не видел супа целый месяц, а мама все подливала ему в тарелку и подливала.
После обеда Дон-Кихот уселся на диван и поманил меня к себе.
— Ну, Рита, как поживаем? — спросил он.
— Хорошо, — ответила я.
— Вот и прекрасно! — Дон-Кихот подхватил меня, поставил на кончик своей вытянутой ноги и начал качать вверх и вниз.
Мне это очень поправилось.
Потом Дон-Кихот взял разрозненную колоду карт, разложил их на столе и начал строить карточные домики. Домики получались очень красивыми. Любуясь ими, я хлопала в ладоши от радости. Один домик получился выше других.
— Какой большой! — воскликнула я.
— Большой, да не крепкий! — сказал Дон-Кихот и вдруг дунул на него — домик рассыпался. — Вот так рухнет когда-нибудь империя Николая Кровавого! — сказал он, усмехнулся и прибавил: — Только Николая — Дон-Кихота, пожалуй, уже не будет!
Он смеялся, а глаза у него были грустные. Мне стало очень жаль Дон-Кихота, ведь мама сказала, что он совсем изголодался и может заболеть.
В этот вечер к папе пришли новые гости. Папа очень обрадовался им.
Один из гостей был плечистый, коренастый человек, на висках у него пробивалась седина, из-под густых, лохматых бровей строго поблескивали серые глаза. Этого человека я никогда раньше у нас не видела, а нахмуренные брови и строго поблескивавшие из-под них глаза совсем смутили меня...
Но папа дружески протянул руку этому хмурому человеку и воскликнул:
— А, Иван Максимович! Привет, привет арсенальцу!
Я прислушалась: «Привет арсенальцу!» Значит, этот хмурый человек, этот Иван Максимович оттуда, из таинственного «Арсенала». Значит, это тот, кто орудует тяжелым молотом, от которого сотрясаются стены, значит, это рабочий, который делает разные вещи!
Я с уважением посмотрела на хмурого гостя, и, несмотря на его строгий вид, мне захотелось расспросить Ивана Максимовича, что он делает в «Арсенале» и как это тяжелый молот слушается его.
Но папа обратился к другому гостю — этот гость понравился мне с первого взгляда. Лицо у него было такое свежее, словно он только что умылся очень холодной водой, а на этом свежем молодом лице ярко блестели большие карие глаза; черная косоворотка его была туго перехвачена кожаным ремнем.
Заметив меня, он улыбнулся и кивнул мне, как будто мы уже давно были знакомы.
Папа крепко пожал руку и ему.
— Как у вас в Юго-западных мастерских, товарищ Федор? — спросил он.
— Да как, народ у нас боевой! Закаленный! — ответил Федор.
В комнату вошла Груня с кипящим самоваром в руках. Я подумала, что папины гости будут с нами пить чай и Ивам Максимович расскажет, что он делает в «Арсенале».
Но папа увел гостей в свою комнату. Дон-Кихот тоже ушел с ними.
Мама усадила меня за стол, затем налила чай в стаканы и отнесла их в папину комнату.
Пить чай одной было очень скучно, я пододвинулась поближе к самовару. Мне нравилось смотреть в самовар — лицо становилось длинным-длинным.
Я посмотрела в самовар — на меня глянуло мое вытянутое лицо... «Как у Николая — Дон-Кихота!» — подумала я и спросила:
— Мама, а почему Николай — Дон-Кихот?
Мама улыбнулась:
— Почему? Как бы тебе объяснить?.. Ну вот, когда ты вырастешь, ты прочтешь книгу про Дон-Кихота. Дон-Кихот был очень худой и длинный, и он захотел защищать бедных и обиженных. Ну вот... Николай тоже такой же длинный и худой и хочет, чтобы людям было хорошо... — Мама подошла ко мне, взяла в свои теплые ладони мою голову и спросила: — Ну, поняла?
— Мама, а почему тот Дон-Кихот не сделал, чтобы не было лаврского эконома? — спросила я.
Из папиной комнаты доносились голоса, шум спора.
Мама обернулась к дверям.
— Тот Дон-Кихот не знал, как надо бороться со злом, он только мечтал и махал мечом, а Николай, папа, Иван Максимович и все его товарищи сделают так, что людям будет очень хорошо! Всем... всем...
— И Степану тоже? — спросила я.
— Да, и Степану! — ответила мама.
Она вдруг взяла меня за плечи, посмотрела на меня и сказала, улыбнувшись:
— Ну вот, и мы тут с тобой занялись по-ли-ти-кой!
Потом она взглянула на часы, сказала, что уже поздно, и уложила меня. Но я не засыпала и еще долго прислушивалась к голосам, доносившимся из папиной комнаты.
Меня очень заинтересовали папины товарищи, мне захотелось, чтобы они чаще приходили к нам.
Все окружающее было полно неожиданностей...
Я сижу за столом. Передо мной лист бумаги. На этом белом, чистом листе можно изобразить так много интересного: можно нарисовать огромный мрачный «Арсенал» и яблоко с красным бочком, даже с зеленым листком у корешка...
Но у меня только три краски: красная, желтая и синяя. Я беру в руки кисточку — как быть?
— Мама, а зеленая краска? Листик-то зеленый.
Мама подошла ко мне и взяла кисточку из моих рук. Вот она смешала желтую и синюю краску, и вдруг получилась ярко-зеленая. Совсем такая, как тот листик, который я только что хотела нарисовать.
— А вот посмотри, Риточка.
Теперь мама обмакнула кисточку в красную краску, потом в синюю, смешала, и получился фиолетовый цвет.
Я с удивлением смотрела на эти чудесные превращения... Теперь я, конечно, нарисую и «Арсенал», и яблоко с красным бочком. Мама взглянула на мой рисунок и улыбнулась, потом перевела глаза на полочку, где стояли зверюшки, сделанные Степаном:
— Не знаю, будет ли Рита художницей, а вот у Степана большие способности, это настоящий талант. — Мама вздохнула: — Как жаль, что он не может учиться!
Папа задумался.
— Когда-нибудь придет лучшее время, может быть, оно уже недалеко... — произнес он и вдруг прибавил озабоченно: — Сегодня вечером к нам придут товарищи.
«Придут товарищи!» Я встрепенулась. Значит, сегодня Дон-Кихот будет строить карточные домики, покачает меня на своей длинной ноге...
Я с гордостью взглянула на лежащий передо мной на столе лист бумаги, на котором уже красовался «Арсенал». Ивану Максимовичу я покажу свой рисунок, и он, наверное, расскажет мне об «Арсенале»... А Федор — с ним тоже было бы хорошо подружиться.
Я снова взялась за кисточку, стараясь изобразить красные отблески на окнах «Арсенала».
— Риточка, испортишь глаза, уже совсем стемнело, — сказала мама.
Она зажгла лампу-молнию и взглянула на часы.
Папины товарищи не приходили.
«Бам, бам!» — пробили часы.
Глаза мои начали слипаться.
Неужели мама сейчас скажет: «Риточка, пора спать!» — со страхом подумала я.
Папа посмотрел на часы и заходил по комнате.
Мама подошла к окну, чуть приоткрыла занавесочку и выглянула в окно.
— Осторожно, Надя, с улицы могут увидеть, — озабоченно сказал папа и, покачав головой, произнес: — Неужели что-нибудь случилось?
Папа и мама, очевидно, тоже очень ждали товарищей.
Мама вздохнула и, вдруг взглянув на меня, сказала самое страшное:
— Риточка, пора спать!
Но в эту самую секунду в передней прозвучал звонок.
— Дон-Кихот! Дон-Кихот! — закричала я и тут же замолкла, отступила назад.
Вместо длинного Дон-Кихота в комнату вошел мальчик. На голове у мальчика был большой картуз с поломанным козырьком. Из-под козырька выглядывал покрытый желтыми точечками веснушек нос. Серые глаза мальчика быстро, но внимательно оглядели комнату и остановились на папе.
— Что? Что случилось, Васёк? — поспешно спросил он.
«Васёк!» — с любопытством взглянула я на мальчика. Значит, папа знал этого мальчика, я же никогда раньше его у нас не видела.
— Что случилось, Васёк? — снова спросил его папа.
Мальчик не ответил. Он быстро сдернул с головы картуз, вынул из него маленький четырехугольный листочек и дал его папе.
Папа поднес листочек к свету, быстро пробежал его глазами и нахмурился.
— Да-а! Вот оно что! — тихо произнес он.
Мальчик выжидающе смотрел на папу, не спуская с него глаз.
Папа поднял голову, спрятал записку в карман:
— Молодец, Васёк! Скажи отцу: «Спасибо!»
Васёк кивнул головой, затем быстро нахлобучил на голову картуз и бросился к дверям. Исчез он так же неожиданно, как и появился.
— Яська, что это за мальчик? Что случилось? — с тревогой спросила мама.
— Это Васёк — сын арсенальца Ивана Максимовича... — ответил папа. — Нам... нам, очевидно, придется немедленно выехать из лаврского дома!
— Что такое? Почему?
— Товарищи сообщают... Здесь собираться небезопасно: все эти «ангельские чины» заодно с полицией, с охранкой!
«Ангельские чины». Я не раз слышала, как папа называл лаврского эконома, монахов «ангельскими чинами».
«Значит, папины товарищи не придут к нам, — с огорчением подумала я. — А мы, значит, скоро переедем в новую квартиру».
В этот вечер, лежа в своей кроватке, я услышала, как мама тихонько напевает:
Тучки небесные, вечные странники!
Я поняла, что действительно скоро мы расстанемся с лаврским домом.
Опять на новую квартиру
Я совсем не огорчилась, когда мама сказала однажды:
— Ну, Яська, я нашла квартиру!
— А куда мы переедем? — живо спросила я.
— В чернояровский дом.
— А где он?
— Напротив «Арсенала»!
«Арсенал»! Тот самый загадочный «Арсенал», в закоптелые окна которого я посматривала с таким любопытством. «Арсенал», в котором работает Иван Максимович, которого слушается большой молот...»
— Мама, а мы скоро переедем в чернояровский дом? — спросила я.
— Скоро, скоро, Риточка! — ответила мама.
Теперь, когда у нас снова появился лаврский эконом, я уже без страха выглядывала из своей кроватки. Бояться лаврского эконома было нечего.
Мама отсчитала эконому деньги и сказала:
— Отец Митрофан, завтра мы освобождаем квартиру...
Лаврский эконом поднялся со стула и молча направился к двери, за ним последовала его большая черная тень и согнувшийся пополам дворник.
На следующее утро, еще лежа в кроватке, я услыхала:
— Надежда Михайловна, давайте-ка сюда предметы домашнего очага и уюта!..
Я выглянула из-под одеяла и увидела Дон-Кихота. Он стоял посреди комнаты и привязывал к половой щетке самоварную трубу. В углу Федор, засучив рукава своей черной сатиновой косоворотки, увязывал корзину. Мама нагружала нашим скарбом Валечкину коляску. Груня укладывала посуду — наши кастрюли для манной каши, чайник, сковородки...
— С добрым утром, Рита! — увидев, что я проснулась, сказал Дон-Кихот и помахал мне рукой.
Федор подмигнул мне.
Мы корзиночку увяжем,
Туго узел мы завяжем,
Силы нам не занимать —
Вот попробуй развязать! —
произнес Федор и так крепко затянул узел, что корзинка затрещала.
Мне очень хотелось принять участие в сборах, но, пока я застегивала лифчик, трудилась над своими башмачками, которые, как назло, не хотели застегиваться, все уже было уложено.
— Ну, Надежда Михайловна, рабочая сила и перевозочные средства в вашем распоряжении! — заявил Дон-Кихот, указывая на себя, а затем на Федора.
— А как же Чертушка поедет? — с тревогой спросила я.
— Чертушка? — переспросил Дон-Кихот и вдруг, схватив за шиворот котенка, сунул его к себе в карман. В другой карман Дон-Кихот засунул Валечкину соску, которую забыли уложить.
Когда стемнело, мы двинулись из лаврского дома.
Вот захлопнулась входная дверь. Я оглянулась. Окно первого этажа светилось, сквозь кружевную занавесочку я на мгновение увидела знакомое лицо тетушки, вот блеснула лысина племянника...
Я отвернулась. Нет, мне не было жаль расставаться с лаврским домом и его обитателями. Здесь дворник презрительно называл меня «студенческое дитё», здесь били моего друга Степана, здесь папиным товарищам угрожала какая-то опасность. А кукла с закрывающимися глазами!.. На что она мне...
Я радовалась, что с лаврским домом было покончено навсегда!
Чернояровский дом
Деревья в интендантском садике совсем пожелтели, холодный ветер забирался под капор, холодно. Скоро зима, за окнами идет дождь. Он барабанит по стеклу, улица затянута его густой сеткой, по тротуару спешат прохожие, вода стекает ручейками с их больших черных зонтов... Все серое, мокрое, холодное, даже купол лаврской колокольни не сверкает — он совсем потускнел, и сама колокольня чуть вырисовывается сквозь серую пелену тумана...
С каждым днем становилось все холоднее. По утрам лужи затягивал тоненький, хрупкий ледок. Когда я становилась на него, он ломался с сухим звоном.
Теперь мы живем в чернояровском доме. Дом этот представляется мне огромным ящиком, перегороженным на множество клеточек. В этих клеточках живут люди. Все очень разные, все не похожие друг на друга. Здесь совсем не так, как в лаврском доме, где у жильцов были горничные в накрахмаленных передниках, денщики и кухарки, из-за дверей их кухонь доносился запах сдобных булочек и жареных уток. Они ездили на извозчиках или казенных пролетках, дети их под присмотром нянек гуляли в интендантском садике.
В чернояровском доме в подвале живет прачка с больной дочкой — девочкой моих лет. Сквозь запотевшие окна видна груда грязного белья на полу, склоненная над корытом женщина, кровать, покрытая ситцевым лоскутным одеялом, и бледная, больная девочка. Только в бельэтаже окна завешены белыми шелковыми шторами и вечером за стеклами поблескивают хрустальные люстры. Когда человек, одетый в шубу с бобровым воротником, выходит из парадных дверей, к крыльцу подкатывает лихач.
Но больше всего меня интересует «Арсенал»...
«Арсенал»! Он совсем близко. Вот я вскарабкиваюсь на подоконник и вижу его мрачные стены, за стенами окон мелькают освещенные красноватыми отблесками фигуры людей...
«Дзинь! Дзинь!» — позванивает посуда в буфете, тихонько раскачивается лампа-молния под потолком. Это большой молот...
В чернояровском доме мы живем очень высоко, под самой крышей, а внизу, рядом с прачкой, живет арсеналец Ивам Максимович.
Я приникаю к оконным стеклам. Вот Иван Максимович выходит из дверей чернояровского дома. Он надвигает на лоб картуз и направляется к «Арсеналу».
Иван Максимович широко шагает по мостовой, спина его чуть сутулится, рядом с ним быстро семенит тоненькая фигурка. Это Васёк. Васёк кажется совсем маленьким, но в действительности он на целую голову выше меня, и, когда мы стоим рядом, он смотрит на меня сверху вниз. На голове у Васька всегда большой старый картуз и очень большие сапоги. И картуз и сапоги, несмотря на многочисленные дыры, имеют очень солидный вид.
Когда Васёк заходит к нам, мне хочется пригласить его поиграть с моими зверюшками, но я не решаюсь предложить ему это.
Сейчас из окна я смотрю на Васька сверху вниз, и он уж не кажется мне таким большим.
Но вот Иван Максимович и Васёк скрываются в воротах «Арсенала». Я с уважением провожаю их взглядом.
Из своего окна я вижу клочок синего неба и мрачные стены «Арсенала», но теперь я уже без страха посматриваю на них.
Когда стены нашего дома вздрагивают от ударов большого молота, я знаю — это работает Иван Максимович.
И мне кажется, будто какие-то невидимые нити связывают нашу квартирку на пятом этаже чернояровского дома с огромным «Арсеналом»...
Теперь вечером, лежа в своей кроватке, я еще долго видела красную полоску света в папиной комнате. Слышала приглушенные голоса: папин голос, густой, словно сердитый голос Ивана Максимовича, прерывающийся, звонкий — Федора... Я прислушиваюсь. Вот заговорил Дон-Кихот. Конечно, это он...
Мне хотелось узнать, о чем же они говорят, но глаза мои смыкались, и я засыпала.
Новый год
Сегодня воскресенье.
— Груня, надо заклеить окна, — сказала мама.
Она нарезала из бумаги длинные узкие полосы и дала мне кисточку.
Это было очень интересно. Мама и я старательно намазывали кисточкой клейстер на полоски бумаги, а Груня наклеивала их на окна.
Потом Груня принесла поленьев и затопила грубку. Поленья в грубке затрещали, зафыркали, по ним побежали веселые оранжевые язычки.
— Ну, вот и зима! — сказала мама. Она подошла к стене и указала на календарь: — Посмотри, Рита, как похудел календарь, в нем осталось совсем мало листочков — скоро наступит Новый год, и мы пойдем на елку! — сказала она.
— Елка! Елка! — Я бросилась к Валечке и стала тормошить ее: — Валечка, мы пойдем на елку! На елку!
— Рита, оставь Валечку — ты ее совсем перепугала, — погрозив мне пальцем, сказала мама.
Я видела елку только на картинках и в витринах магазинов, а теперь мы пойдем на елку, настоящую елку!
— А игрушки на елке будут?
— Будут, если мы их сделаем, — ответила мама.
— А как их делать?
— А вот сейчас увидишь!
Она взяла коробочку из-под спичек и начала оклеивать ее белой бумагой, потом вырезала из картона квадратик, согнула его пополам и надела на коробочку.
— Домик, домик! — воскликнула я.
— А теперь попробуй сама сделать такой же, — сказала мама.
Делать игрушки было очень интересно.
За этим занятием застал нас Дон-Кихот.
— Эге, работнички, да у вас тут целая мастерская! — сказал он, потирая озябшие руки. Дон-Кихот подошел к трубке, погрел руки и сказал: — Ну-ка, принимайте помощника.
Оказалось, что Дон-Кихот умеет делать только одну игрушку. Но зато что это была за игрушка! Совсем настоящая лодочка, даже с парусом! Сделал Дон-Кихот эту чудесную лодочку из скорлупы ореха.
Груня принесла глубокую тарелку с водой. Мама опустила лодочку на воду. Мне очень захотелось, чтобы Валечка тоже полюбовалась чудесной лодочкой. Мама взяла Валечку на руки и поднесла ее к столу.
— Сделай так, вот так, Валечка! — сказала мама и показала, как надо дуть.
Валечка дунула на воду, скорлупка качнулась и... поплыла.
Валечка захлопала ручонками и засмеялась.
День Нового года приближался, и я ждала его с нетерпением.
Каждое утро мама срывала на календаре листок. А когда она уходила на работу, я вскарабкивалась на стул и щупала, насколько похудел календарь. Да, календарь стал совсем, совсем тонким...
И вот наконец настал день, когда мама подвела меня к календарю и сказала:
— Ну, Рита, в календаре остался всего один листочек — сегодня вечером мы пойдем на елку!
Небольшой двухэтажный дом был совсем занесен снегом, даже на крыше у него белела огромная снеговая шапка. По протоптанной в снегу дорожке мы направились к дому.
Окна в доме были завешены, сквозь занавеси тускло пробивался свет. Мама подошла к дверям и дернула ручку звонка.
— Кто там? — послышался из-за дверей женский голос.
— Мы на елку... — ответила мама.
Дверь приоткрылась:
— Входите!
В передней было полутемно. Не успела я оглядеться, как чьи-то руки схватили меня и высоко подняли.
— Эге, Рита превратилась в Снегурочку! — произнес знакомый голос.
И я узнала Дон-Кихота. Рядом с Дон-Кихотом стоял Васёк.
Я с нетерпением глянула на дверь — там ведь, за этой дверью, была елка.
И вот дверь распахнулась. Елка была высокая и пышная, ее зеленая вершина почти касалась потолка. От елки шел чудесный свежий запах.
— Какая красивая елка! — прошептала я, прижимаясь к маме.
В комнате были какие-то люди, но я видела только елку.
— А вот она станет еще лучше, когда мы уберем ее игрушками! — сказала мама.
Она открыла коробку с игрушками, которые мы сделали.
К нам подошел папа:
— Надя, пока вы украшаете елку, мы с товарищами пойдем в другую комнату и побеседуем.
— Ну вот и хорошо! А мы вам мешать не будем, — сказала мама.
Мама и Васёк начали украшать елку, а я помогала им.
Елка становилась все красивее, наряднее: вот между ветвей засверкали серебряные нити, золотые рыбки, запестрели разноцветные фонарики.
— Рита, дай-ка мне вот эту звездочку! — сказала мама.
Я протянула ей звездочку, но мама вдруг прижала палец к губам:
— Тише!
Я застыла со звездочкой в руках. Васёк бесшумно, как кошка, соскочил с табуретки и замер, повернув голову к окну.
За окном заскрипел снег под чьими-то тяжелыми шагами...
— Васёк! — почти не шевеля губами, прошептала мама и указала глазами на дверь.
Васёк скользнул к двери и скрылся в передней.
Мама распахнула дверь в соседнюю комнату, откуда доносились голоса.
— Товарищи, под окнами шаги!.. Скорей вокруг елки! — произнесла она.
Мама схватила меня за руку, за другую руку меня взял Дон-Кихот.
— В гнезде воробышки сидят!.. — закричал Дон-Кихот.
— Правильно! К воробышкам, пожалуй, не то что господин пристав, а и шеф жандармов не придерется, птица безобидная, — смеясь, произнес Федор и подхватил: — И полетать они хотят!..
— В порядке! — раздался вдруг звонкий голос Васька.
Все остановились и рассмеялись.
Мне понравилась песенка, и я закричала:
— Еще, еще воробышков!
— Хватит, Риточка, — остановила меня мама. Она глянула на часы: — Друзья, до Нового года осталось пять минут!
Все обернулись к часам — часы, большие, в черном футляре, висели на стене. Маятник медленно покачивался из стороны в сторону. Две стрелки — одна большая, а другая поменьше — резко выделялись на циферблате. Циферблат был голубой, как небо, а над стрелками нарисованы солнце и луна.
— Еще три! Две минуты!..
Все молча смотрели на часы. В тишине раздавалось только равномерное «Тик-так! Тик-так!..»
И вдруг: «Бом! Бом! Бом!..»
Звуки таяли в тишине.
Я не отрываясь смотрела на стрелки. Мне казалось, что вот-вот случится что-то необыкновенное... Придет Новый год! Какой он, этот Новый год?!
«Бом! Бом!..» — продолжали вызванивать часы.
— Ура! Ура Новому году! — вдруг раздались возгласы.
— Ура! Да здравствует Новый год!
Один из гостей, высокий, широкоплечий человек, вышел из круга и поднял руку:
— Товарищи! Все выше поднимается революционная волна. Вперед же, товарищи, вперед!
На бой кровавый, святой и правый,
Марш, марш вперед, рабочий народ! —
негромко, густым, низким голосом запел Иван Максимович.
Так же негромко, но внятно выговаривая каждое слово, песню подхватили Федор, Дон-Кихот, папа, мама...
Иван Максимович пел, нахмуря густые брови, крепко сжимая большие, тяжелые руки... Казалось, он вот-вот шагнет вперед и, расправив плечи, сокрушит все своей могучей силой. Федор, откинув голову, смотрел перед собой. Ворот его светло-голубой косоворотки был расстегнут, русые волосы откинуты назад.
Мама крепко сжимала мою руку своей горячей рукой. Я видела ее нежный подбородок, мокрые от слез щеки. Она пела:
Нас еще судьбы безвестные ждут!..
Мама! Ее глаза словно стали еще больше, щеки порозовели. Что-то новое было в ней, такое, чего раньше я не замечала... Это была словно не та мама, которая пела, вздыхая: «Тучки небесные, вечные странники». Она была сильнее, красивее, еще лучше...
И папа, и Федор, и Дон-Кихот, и Иван Максимович, и все, все были не такие, как всегда...
Но вот песня стихла. Елка вся сияла, переливалась огнями, серебристые и золотистые нити, сверкая, струились с вершины вниз, флажки трепетали, и вся она словно плыла куда-то...
Мама подхватила меня, и мы закружились с ней вокруг елки... Вот мелькнуло белое платьице — это Дон-Кихот с Валечкой на руках. Вот Васёк — он помахивает красным флажком... Все движется, все летит, плывет куда-то...
Мама остановилась.
— Риточка, идем, я тебе что-то покажу! — сказала она и повела меня к елке: — Вот видишь — это тебе подарок! Новогодний подарок!
В ватном снегу под елкой я увидела какое-то мохнатое существо; из густого золотистого плюша на меня глянуло краснощекое, словно разрумянившееся на морозе личико с карими чуть раскосыми глазами.
— Кто это? — спросила я.
— Это эскимосик.
Я протянула руку, осторожно взяла плюшевого эскимосика и прижала его к себе.
Все дети получили подарки.
Да, это была чудесная елка!
Но мама посмотрела на часы и сказала:
— Ну, пора и домой!..
Свечи на елке уже погасли, но серебряные нити сверкали среди зелени ее ветвей, и она все еще была прекрасна, и мне не хотелось уходить...
— А мы еще придем сюда, здесь хорошо, — обращаясь к Ваську, сказала я.
Васёк усмехнулся.
— А чья это квартира?
Васёк оглянулся, наклонился ко мне и прошептал:
— Кон-спи-ра-тив-ная это квартира!
— Конспи... — хотела повторить я, но выговорить это трудное слово мне не удалось.
Васёк снисходительно посмотрел на меня:
— Ну, да ты еще очень маленькая, этого не поймешь.
Мы вышли на улицу.
Небо, земля, дома — все было голубое. Снег искрился сверкающими точечками, в домах светились окна, а деревья в палисадниках, украшенные инеем, тоже сверкали сияющими звездочками, а над ними в синей бездонной вышине трепетали звезды.
Мама остановилась, подняла голову.
— Какая чудесная ночь! Новогодняя ночь! — произнесла она.
Нас еще судьбы безвестные ждут!.. —
вполголоса запел Дон-Кихот.
— Тише! Что вы делаете! — вздрогнув, сказала мама.
— Эх, не терпится!.. — произнес Дон-Кихот, шумно вздохнул и замолк.
Вдали прозвучал полицейский свисток, ему ответил другой... И оба они замерли в глубине улиц.
Где-то далеко-далеко прогудел гудок паровоза.
— Это наш с Юго-Западных! — усмехнувшись, сказал Федор.
Все прислушались...
— Мама, это уже Новый год? — спросила я.
— Да, Риточка! Новый, тысяча девятьсот пятый год!
Ночной гость
«Дзинь!..» Я приподняла голову.
«Дзинь!..» Сначала тихонько, затем громче...
«Лаврский эконом!» — мелькнула у меня в голове тревожная мысль.
Я выглянула из кроватки. В полутьме я увидела маму. Она стояла около стола и шарила на столе рукой. Вот она нашла коробочку спичек, чиркнула, красный язычок пламени заплясал в темноте. Мама поднесла спичку к лампе, зажгла фитиль — свет лампы озарил встревоженное лицо. Мама подошла к дверям.
«Неужели и сюда, в чернояровский дом, явился лаврский эконом?» — со страхом подумала я.
Мама вышла в переднюю.
«Дзинь!» — еще раз прозвучал звонок и замер.
Тишина... Минуту, другую... Я слышу только, как тревожно бьется мое сердце.
— Кто там? — шепотом спросила мама.
Скрипнула дверь.
— Маргарита дома? — услышала я мужской голос.
— Здесь, здесь! — опять шепотом произнесла мама.
«Маргарита?» — удивилась я. Мне стало страшно.
Но мама не испугалась.
— Да, да, входите!
Я насторожилась. Послышались шаги. Высокий человек в черном пальто и шапке вошел в комнату. Из-под нахмуренных бровей он быстрым, внимательным взглядом оглядел комнату.
— Не бойтесь, здесь только дети, они спят! — сказала мама и прибавила: — Вы совсем замерзли!
— Я две ночи ехал на тендере, — ответил человек хрипло.
Дверь из папиной комнаты распахнулась, вошел папа — на плечах у него был наброшен пиджак. Он направился к гостю и что-то тихо спросил его.
— Да, да! — кивнув головой, произнес тот. — Я получил в Питере явку на вашу квартиру...
— Вы были в толпе? У дворца? — быстро опросил папа.
— Да...
— Мы ничего еще не знаем как следует, газеты, конечно, врут, но слухи ужасные... слухи...
Папа выжидающе взглянул на гостя, лицо его было бледно, голос срывался.
— Да, да... Я видел... был... — произнес гость. — Народ шел просить царя о милости, а царь приказал солдатам стрелять в безоружных... Люди несли иконы, хоругви... Рядом со мной убило женщину, ребенка. Кровь... Вся мостовая перед дворцом в крови... Вся площадь в крови... — Человек говорил быстро, сбивчиво, губы его дрожали — вероятно, ему было холодно.
Я со страхом прислушивалась к его словам. Царь убивал женщин и детей!..
— Пойдемте сюда, здесь теплее... У вас озноб... — произнес папа, указав на дверь своей комнаты, обернулся к маме и сказал: — Чаю, Надя, скорей горячего чаю!..
— Сейчас, — ответила мама и бросилась в кухню.
Гость огляделся по сторонам:
— Я... я привез кое-что очень важное, — вдруг быстро произнес он.
— Что? — спросил папа.
Гость вынул из кармана перочинный нож, быстро отогнул лацкан пиджака, распорол шов и вынул небольшой белый сверток бумаги.
— Это статья Ленина «Начало революции в России»!
— Статья Ленина? Спасибо, вот это нам нужно сейчас! — произнес папа.
Папа и гость скрылись за дверьми папиной комнаты. Я зарылась головой в подушку.
За стенами нашего дома происходило что-то непонятное и страшное!
Дверь скрипнула, в комнату вошла мама. Она держала в руках маленькую кухонную лампочку. Следом за ней в комнату вошел папа. Мама поставила лампу на стол.
— Что же это такое, Яська? — прошептала она.
Папа поднял голову:
— Это начало огромных событий, Наденька! Мы... мы, может быть, еще и не представляем себе всего, что произойдет... — Он наклонился к маме и что-то тихо стал говорить ей.
Я прислушалась и услыхала явственно: «Ленин!»
— Ленин! — повторила мама.
«Ленин! Кто такой Ленин?» — подумала я.
Мама подошла к моей кроватке.
— Мама, а кто Ленин? — спросила я.
— Ты не спишь, Рита? — с удивлением прошептала мама. — Ленин очень умный и очень добрый человек! Ленин хочет, чтобы люди были счастливы и чтобы всем хорошо жилось на свете! Ленин борется за это и учит других, как бороться за справедливую жизнь!
«Ленин! Вот он кто, Ленин!..» Мне захотелось запомнить имя этого хорошего человека.
— Ленин! — тихонько прошептала я.
Мама отошла от кроватки, наклонилась над лампой, свет на мгновение озарил мамино лицо и погас, все погрузилось в темноту, и только краснела узкая полоска света в дверях папиной комнаты.
Новый друг
Меня разбудило солнце. Я открыла глаза и увидела перед собой высокого, сутулого человека. Небольшие серые глаза его со светлыми ресницами слегка щурились. Одет он был в голубую вылинявшую косоворотку. Присмотревшись, я с удивлением узнала в нем ночного гостя.
Увидев, что я проснулась, он одобрительно улыбнулся и продекламировал:
Нынче праздник воскресенье, нам лепешек напекут.
И помажут и покажут, а механику дадут!..
Произнеся эти загадочные слова, незнакомец нахмурился и сказал:
— А впрочем, сегодня не воскресенье, а самый что ни на есть будний день, так что лепешек ждать не приходится!
Незнакомец с минуту пристально разглядывал меня и Валечку, а затем заявил решительно:
— А ну-ка, марш вставать, ребятки!
Я и Валечка застыли, с интересом рассматривая этого удивительного человека.
— Так вот, по случаю будничного дня пора вставать! — повторил незнакомец и, протянув мне руку, сказал: — Будем знакомы — Ефим Иванович!..
Ефим Иванович помог Валечке одеться и затем усадил нас за стол завтракать.
Я с любопытством посматривала на нового знакомого. Особенно удивило и понравилось мне, как он добродушно и вместе с тем лукаво подмаргивал одним глазом, в то время как другой глаз его оставался спокойным и серьезным.
К вечеру мы уже распевали песенку о таинственном механике, очевидно большом любителе лепешек, и были добрыми друзьями с Ефимом Ивановичем.
— Вы будете у нас жить? — спросила я Ефима Ивановича.
— Ну да. Поживу.
— А долго поживете?
— Это уж от меня не зависит... Это, брат ты мой, зависит, так сказать, от непредвиденных обстоятельств!..
Что за «непредвиденные обстоятельства», Ефим Иванович не объяснил, я же решила, что хорошо было бы, чтобы эти «непредвиденные обстоятельства» никогда не наступили и чтобы этот веселый человек жил у нас всегда.
Папа тоже, как видно, был рад приезду Ефима Ивановича.
— У вас будет много работы, товарищ Ефим, — сказал он.
Вечером мама постелила Ефиму Ивановичу постель на черном клеенчатом диване в папиной комнате.
После чая папа и Ефим Иванович ушли в папину комнату и долго о чем-то говорили.
Уже засыпая, я подумала: «Жаль, что у Ефима Ивановича будет много работы, значит, он так же, как и папа и мама, будет очень редко дома!»
На следующее утро первая мысль моя, лишь только я проснулась, была о нашем госте. Я оглядела комнату: на столе стоял самовар, чашки, солнечные зайчики скользили по клеенке. Валечка спала в своей кроватке. Ефима Ивановича не было. Значит, он уже ушел на работу!
Вдруг из папиной комнаты послышалось: «Стук, стук, стук!..»
Я прислушалась.
«Стук, стук, стук!..»
«Кто там стучит? — подумала я. — Это не Груня, Груня на кухне, вот послышались ее шаги, вот звякнула кастрюля... Да, значит, Груня в кухне. А кто же это стучит там, в папиной комнате?»
Я вылезла из кроватки и стала искать свои башмачки. Один здесь, а где же другой, тот, что уже давно просит «каши»? Нет, другого башмачка под кроватью не было.
«Стук! Стук!..» — снова послышалось из-за дверей. Я быстро сунула ногу в башмачок, вприпрыжку побежала к двери, приоткрыла ее и заглянула в папину комнату. То, что я увидела, очень удивило меня.
На черном клеенчатом диване сидел Ефим Иванович. Он держал в руке мой порванный башмачок и быстро вколачивал в его подошву гвозди...
Стоять на одной ноге было очень неудобно. Я схватилась рукой за дверь, дверь скрипнула — Ефим Иванович вздрогнул, быстро оглянулся и пристально посмотрел на меня.
— А, это ты, Риточка? — улыбнулся он, но, увидев, что я не обута, вскочил, бросился ко мне, подхватил меня под мышки и посадил на диван рядом со собой.
Затем Ефим Иванович снова взял в руки мой башмачок и сказал:
— Ну-с, как говорится, дело мастера боится!
Ефим Иванович ловко ударил по гвоздю молотком.
«Стук! Стук!.. Стук!»
Я не могла оторвать глаз от рук Ефима Ивановича — таких ловких рук я никогда не видала.
— Вы кто, сапожник? — спросила я.
— Я? — Ефим Иванович поднял от башмачка голову и усмехнулся, в серых глазах его появились веселые искорки. — Нет, я-то не сапожник! — ответил он.
— А почему вы ботинки чинить умеете?
— Э, брат ты мой, рабочему человеку все уметь делать надо, — ответил Ефим Иванович.
— А вы кто... рабочий? — спросила я, с уважением и любопытством взглянув на Ефима Ивановича.
— Я-то? — Ефим Иванович тряхнул головой. — Я рабочий, пролетарий, брат ты мой! Самый что ни на есть настоящий.
Я с сомнением взглянула на Ефима Ивановича.
Рабочие работали в «Арсенале», на заводе. Я вспомнила все, что мама рассказывала мне о рабочих.
— А почему же вы не идете на завод?
— Я безработный... Я… так сказать... Хозяин говорит: нет тебе работы, подыхай с голоду, Ефим!
— А папа сказал, что у вас будет много работы... — ободряюще сказала я.
Ефим Иванович усмехнулся:
— Ну, это, брат ты мой, работа, да не та! Вроде как бы Федот, да не тот!
«Федот, да не тот!» — такого выражения я никогда не слышала и больше ничего не спросила у Ефима Ивановича.
Ефим Иванович был очень простой и понятный, а вместе с тем какой-то другой, не такой, как мама, папа, Груня, Дон-Кихот.
Мне очень понравилось разговаривать с Ефимом Ивановичем. Я была не прочь, чтобы он как можно дольше чинил мой башмачок. Но Ефим Иванович стукнул еще раз молотком, вытер руки и, полюбовавшись на башмачок, сказал:
— Ну, теперь совсем молодец, сам гулять просится!
— Гулять? Мы пойдем гулять? И вы тоже с нами? — обрадовалась я, ведь гулять мне приходилось не очень часто.
Но Ефим Иванович покачал головой.
— Ну, с гуляньем мне придется подождать! — улыбнувшись, сказал он.
— Почему?
На этот вопрос Ефим Иванович не ответил. Но гулять с нами он не пошел. Это очень огорчило меня — вероятно, гулять с Ефимом Ивановичем было бы очень интересно, даже интереснее, чем с Груней. Но я была рада, что Ефим Иванович, как видно, остается у нас. Я не ошиблась. Ефим Иванович действительно остался у нас. Спал он в папиной комнате на диване, на улицу он никогда не выходил. И вскоре я почувствовала, что нашему новому другу грозит какая-то опасность.
— Будьте осторожны, товарищ Ефим, — повторял папа.
А мама часто предупреждала его:
— Ни в коем случае не выходите на улицу, Ефим Иванович! Вот сегодня я снова видела какого-то подозрительного типа на нашей улице, что-то очень похоже на шпика.
Я была огорчена, что Ефиму Ивановичу нельзя гулять, и очень сердилась на шпиков...
Однажды вечером
За окном падал снег. Пушистые хлопья вились в воздухе, быстро темнело. Дома, люди тонули в голубовато-сером тумане, даже окна «Арсенала» чуть поблескивали сквозь густую снежную мглу.
Начался долгий зимний вечер. Валечка, свернувшись клубочком, прикорнула на кровати. Я разложила бумагу и хотела порисовать, но в комнате было холодно и неуютно. Лампа-молния ярко освещала выбеленные известкой стены, и от этой белизны казалось еще холоднее и неуютнее, а главное, ни мамы, ни папы не было дома.
Я взяла кисточку, обмакнула ее в краску, но поежилась и отложила ее. Мама на педагогическом совете. Как долго тянется этот совет!.. Я никогда не бывала на этих педагогических советах, но очень не любила их. «Тик-так! Тик-так!..» — выстукивают часы. И сколько еще этих скучных «тик-так» скажут они, пока мама вернется домой!
Я смотрю на часы. Они висят над столом. Их черная длинная стрелка чуть движется, а маленькая совсем замерла на месте — вот когда они сойдутся, эти стрелки, тогда в передней прозвучит звонок, мамин звонок!.. Она войдет розовая от мороза, с выбившимися из-под шапочки прядями волос, на которых еще будут сверкать серебряные звездочки снега... Но руки у мамы теплые, они всегда теплые, и тогда в комнате станет теплее и уютнее... Но до маминого прихода еще очень далеко.
— Э, ребятишки, а вы совсем замерзли! — услышала я голос Ефима Ивановича.
Ефим Иванович подошел к окну.
— Ух, как завывает! Метель... — произнес он, вглядываясь в темноту.
Ефим Иванович отошел от окна и направился в кухню. Через минуту он вернулся с охапкой дров.
— Ну, ребятки, за мной, в мою комнату, будем греться! — скомандовал он.
Ефим Иванович уселся на табуретке. Я примостилась на скамеечке рядом с ним. Валечку Ефим Иванович уложил на своем клеенчатом диване и положил ей под голову подушку. Ефим Иванович чиркнул спичку. Язычки пламени побежали по сухим поленьям, поленья затрещали. Огонь забушевал, загудел, бросая красные отблески на пол и стены. Из грубки пахнуло теплом.
— Молодец огонь! Ишь, какой молодец!..
Ефим Иванович улыбнулся:
— Он тебе и озорник и работник!
— Как — огонь работник? — спросила я.
— Да вот печку нашу нагреет — вот тебе и работник. Вон в лампе горит, светит — снова работник! — Ефим Иванович улыбнулся. — Огонь, брат ты мой, великая сила в рабочих руках!
Я протянула руки к огню, мне стало тепло, а в комнате словно уютнее.
— Ефим Иванович, а вы сказки знаете? — спросила я.
— Сказки?.. — Ефим Иванович глянул на меня и прищурился. — Ну, этими, брат ты мой, делами Ефиму заниматься не приходилось. Все, кажись, делал, а вот сказок рассказывать не рассказывал. Чего нет, того нет!
Я очень огорчилась, что Ефим Иванович не знает сказок, но он поворочал кочергой поленья и вдруг сказал:
— А одну сказочку, кажись, я знаю!
— А про кого?
— Про Иванушку!
— Иванушку?.. А я знаю — он на царевне женился.
Ефим Иванович покачал головой.
— Ну, мой Иванушка на царевне не женился и в царские зятья не лез! — усмехнувшись, сказал он. — Да, пожалуй, моего Иванушку царь не то что в зятья не взял, а в три шеи прогнал со двора!
Иванушка Ефима Ивановича, очевидно, не был похож на сказочного Иванушку, но он уже заинтересовал меня.
— А почему его царь в три шеи прогнал? — спросила я.
— Ну, это длинная история! — ответил Ефим Иванович.
Я взглянула на часы: большая и маленькая стрелки еще далеко не сошлись на циферблате.
«Длинная история» — это было замечательно. Как раз теперь хорошо было послушать длинную историю. Я уселась на скамеечку поудобнее и сказала:
— Ну!..
Ефим Иванович потер лоб.
— Н-да... Ну вот, жил-был на свете... парнишка. Парнишка, значит, как парнишка, с ноготок не с ноготок, а чуть побольше. Так, значит, чуть побольше... И крепкий тот парнишка был, как орешек. Ничто его не брало: и холодал он, и голодал, и хозяйские приказчики его по спине нагайками хлестали, и работал он от зари до зари, а все жив, не уморился! Вот какой этот Ивашка был! Бывало, стужа в избе, печь холодная, ребята на печи мерзнут... Отец и скажет: «Айда, Ефимка, в лес за дровами!»
— Ивашка, он же Ивашка, — поправила я.
— Ну да, Ивашка! Говорит: «Айда, Ивашка, в лес за дровами!» Хмыкает носом Ивашка и откликается с печи: «Айда, тятька!» Запрягут лошадь, поедут в лес, а в лесу стужа. Стужа такая, что и зверье из нор носа не кажет. Медведь в берлоге лежит, лапу сосет, а на что уж шуба у него генеральская. Холодно Ивашке, зуб на зуб у него не попадает, хоть трепака пляши, не согреешься. А зипунишко худой, не греет. Плохо дело, брат Ивашка... Гляди не замерзни...
— А он замерз, Ивашка? — со страхом спросила я.
— Нет, не замерз! Крепкий был! Отец только покрикивает: «Держись, Ивашка!» Ну, Ивашка хмыкнет носом, утрет рукавицей слезы да за работу. Вот нарубили они дров, привезли домой, затопили печку. Зашумел огонь, загудело в трубе, от печи теплом потянуло. Хорошо, даже есть меньше хочется. А голод, брат ты мой, не тетка... Ой, не тетка!
— А почему мать ему есть не дает? — спросила я.
— Вот это правильный вопрос... — сказал Ефим Иванович и даже как будто с удивлением взглянул на меня. — Почему есть не дает? Дать нечего, в горшке не густо, в клети пусто, а в амбаре ветер свищет. Земля-то у помещика, в его закромах хлеба полным-полно, а у крестьян земли чуть... вот тебе почему крестьянский сын Ивашка голодный спать ложился!..
Ефим Иванович замолк и прислушался: все было тихо, только гудела метель за окном да потрескивали в грубке дрова...
— Ну, и что же дальше с Ивашкой было? — спросила я.
— Ах да, с Ивашкой, — спохватился Ефим Иванович. — Ну, с Ивашкой много всяких чудес было, всего не перескажешь. Пошел он в город и поступил на завод, большой завод...
— В «Арсенал»?
— Нет, брат ты мой, не в «Арсенал», — усмехнулся Ефим Иванович, — а еще побольше «Арсенала». А порядки на заводе том: чуть что — зуботычина, а то и за ворота пожалуйте. Спит Ивашка на дерюжке, ест Ивашка пустые щи, а работает за десятерых. Только от работы той одному хозяину польза. Работает, работает Ивашка, а от работы той хозяин жиреет, а Ивашка худеет... Такая уж это хитрая механика — чем больше рабочий человек трудится, тем больше хозяин богатеет! Ну и стал Ивашка задумываться, ума-разума набираться, узнал он, кто враги, а кто друзья рабочего класса и как против врагов бороться надо. Только тут проведали про это царские помощники, жандармы да шпионы... Схватили они Ивашку, стали его судить... «Ах, ты бунтовать, ах, ты против царя да хозяев, капиталистов, помещиков идешь! С социалистами знаешься! Революцию устраивать собираешься! Вот мы тебя, такой-этакий, смутьян, упечем!» И упекли!..
— Куда упекли? — с испугом спросила я.
— Куда Макар телят не гоняет — вот куда! — ответил Ефим Иванович и, помолчав, продолжал: — Идет Ивашка, кандалами звенит. Видимо-невидимо таких, как он, борцов за свободу да за счастье народное по той дороге шагает. Бредут товарищи, по бокам стража с шашками наголо... Завывает буран, ни зги не видать. Идет Ивашка, глаза снег слепит, кандалы звенят, того и гляди упадет... Вглядывается он в даль, а там — огонек. Вон, вон засветил, вот померк... опять засветил. Так, искорка маленькая, а горит, светит... Заледенели совсем губы у Ивашки, а улыбнулся он той искорке, и вспомнились ему слова, что довелось ему когда-то читать... Вспомнил Ивашка эти слова, и будто сил у него прибавилось. Из искорки, уж на что она мала, а ведь большое пламя бывает... Вот оно что!
Ефим Иванович наклонился к грубке — огонь уже совсем погас, голубоватый налет пепла покрыл чуть тлеющие поленья. Ефим Иванович ударил кочергой по поленьям — блестящим роем брызнули искры, и объятые пламенем дрова запылали вновь.
— Вот и сказ про Ивашку! — произнес Ефим Иванович.
— А потом? А потом?
— Потом?..
Но Ефим Иванович не успел сказать того, что было с Ивашкой потом — в передней раздался звонок. Ефим Иванович вскочил и шагнул к дверям.
— Мама! Мама! — закричала я так громко, что даже Валечка проснулась, подняла свою пушистую голову с подушки и с испугом взглянула на меня.
Ефим Иванович распахнул дверь. Нет, я ошиблась — это была не мама. В переднюю вошел папа. Видно было, что он очень быстро поднимался по лестнице. Он порывисто дышал. Папа поспешно захлопнул дверь, я бросилась к нему, но он отстранил меня.
— Подожди, Рита! — произнес он.
Я отступила к Ефиму Ивановичу, но он тоже отстранил меня и шагнул к папе:
— Ну как? Что?
— Есть точные сведения, товарищ Ефим. Сегодня прибывает литература...
Ефим Иванович кивнул головой, подошел к вешалке, поспешно надел ушанку и набросил на себя пальто.
— Вы помните? Третий вагон... человек в барашковой шапке, пароль... — Папа шепотом произнес какое-то слово.
— Если через полтора часа меня не будет... — Ефим Иванович начал поспешно застегивать пуговицы пальто, — но я думаю, Яков Васильевич, что все будет в порядке!.. Все будет в порядке! — повторил он.
Папа шагнул к Ефиму Ивановичу, положил руку на его плечо:
— Желаю успеха, товарищ Ефим, мы будем вас ждать...
Ефим Иванович направился к выходу.
— Ефим Иванович, куда? — Я бросилась к Ефиму Ивановичу и обхватила его руками. — Не... не уходите!.. — со слезами попросила я.
Папа подошел ко мне:
— Риточка, что это значит?
Но я чувствовала, что нашему другу угрожает какая-то опасность.
— Не уходите! — снова повторила я, еще крепче прижимаясь к Ефиму Ивановичу.
Ефим Иванович наклонился ко мне:
— Эге-ге... Это что ж за плакса такая! — сказал он улыбнувшись. — Видно, сказку-то про Ивашку забыла. Ивашка крепкий, не пропадет! Ну, а я мигом вернусь. Прогуляюсь по морозцу и вернусь... И еще про Ивашку доскажу. Это же только начало, а конец впереди...
Я выпустила рукав Ефима Ивановича:
— Доскажете, да?..
Но Ефим Иванович уже не ответил мне. Мгновенно дверь распахнулась и захлопнулась. Ефим Иванович исчез. И только с лестницы секунду-другую доносились его поспешные шаги и замолкли.
Папа взял меня за руку.
— А куда ушел Ефим Иванович? — спросила я. — Куда он ушел?
— Ефим Иванович скоро вернется, — ответил папа и прибавил, не глядя на меня: — Он делает очень важное дело! Очень нужное дело!..
Чего не должен знать городовой
Мне кажется, я лечу куда-то... Мне легко-легко, вот я взмахиваю руками и поднимаюсь все выше и выше... У меня захватывает дух, я снова взмахиваю руками, но вдруг стремглав падаю вниз, в темную, бездонную пропасть... Я лежу в своей кроватке с широко открытыми глазами. Темно. Я приподнимаюсь, сажусь в кроватке, прислушиваюсь. Свет от уличного фонаря наполняет комнату серебристо-мутной мглой, посреди комнаты блестит покрытый клеенкой стол. У стены — мамина кровать. Она пуста. Белеет подушка, одеяло сползло на пол, но мамы нет. «Где же мама?» — с тревогой думаю я.
— Мама!..
Никто не отвечает. Мне делается страшно, я спрыгиваю с постели на пол — холодный пол обжигает мои ноги, по спине бегут мурашки.
— Мама!
Я всматриваюсь в темноту. Что-то шуршит совсем близко.
— Мама!
Тишина и снова шорох... Нет, это не мама!
«Что это? Что это?.. Где же мама?»
Ее нет! Снова зашуршало что-то и затихло.
Тоненькая ниточка света на полу — это щель. В папиной комнате светло.
Я бросилась к двери, нащупала холодную скользкую дверную ручку и распахнула дверь...
В комнате было светло.
У стола стоял Ефим Иванович и, наклонившись, что-то делал. Мне не было видно, что именно он делал, так как Ефим Иванович стоял ко мне спиной.
У стола сидела мама. Перед ней лежали белые четырехугольные листочки. Она раскладывала их в аккуратные стопки. Вот она обернулась к Ефиму Ивановичу, протянула руку. Ефим Иванович подал ей листочек, другой... Как белые птицы, вылетали они из рук Ефима Ивановича, а мама осторожно подхватывала их и раскладывала на столе. Мама и Ефим Иванович были так заняты своим странным делом, что не слышали, как я приоткрыла дверь.
«Что они делают?» — с удивлением подумала я, обводя комнату глазами. На окне висело мамино одеяло, на стенах двигались тени — одна большая, черная, она словно повторяла каждое движение Ефима Ивановича, другая тень поменьше, но такая же темная, повторяла каждое мамино движение. Эти страшные черные тени словно следили за Ефимом Ивановичем и мамой, страшные черные тени!
— Мама! — вскрикнула я.
Мама вскочила. Я увидела ее лицо и испуганно отступила назад, в темноту комнаты.
Прижимая к груди листочки, мама смотрела на дверь. Я никогда раньше не видела такого выражения в ее глазах. Ефим Иванович обернулся...
— Это ты, ты, Риточка?! — произнесла мама, разжимая руки. Затем она бросилась ко мне. — Почему ты не спишь? Почему не спишь? Надо спать! Надо спать!.. — заговорила она быстро.
— Я... я испугалась.
Мама обняла меня за плечи и повела к кроватке.
— Ложись. Вот так, ложись, — укладывала она меня.
Одеяло и подушка были еще теплые, но я дрожала от холода и волнения. Высвободив руку из-под одеяла и указав на дверь, я спросила:
— Мама, а что там, что?
— Ничего, ничего, Риточка! Так нужно, понимаешь, так нужно!.. — укутывая меня в теплое одеяльце, ответила мама.
Наконец я согрелась и успокоилась.
— А теперь я уйду, — сказала мама. Она наклонилась и прошептала: — Никому не говори про листочки! Слышишь, Рита, чтоб никто не знал, никто!..
— Городовой не знал, да?
— Да, да!
Мама поднялась. Я почувствовала на своем плече ласковое прикосновение ее руки.
Мама вышла.
За дверьми снова послышался шорох.
Но теперь этот звук уже не пугал меня. Там, за стеной, происходило то, чего не должен был знать городовой. Очевидно, это было что-то хорошее...
Надо молчать!
Я очень обрадовалась, когда однажды вечером мама сказала:
— Сегодня мы пойдем с тобой гулять.
Я побежала в переднюю, сняла с нижнего гвоздика свое пальто и оделась.
— Мама, я уже! — крикнула я, заглядывая в столовую, но мамы в столовой не оказалось. «Неужели она ушла без меня?» — забеспокоилась я.
Я приоткрыла дверь в папину комнату — посреди комнаты стояла мама. Она упаковывала в свой ящик для красок листочки — маленькие, тоненькие, испещренные буквами листочки, те самые, что я видела ночью. Папа стоял рядом и внимательно следил за тем, что делала мама.
— Я думаю вложить их между этюдником и крышкой, — сказала мама и, подняв голову, взглянула на папу.
— Да, так будет хорошо, но только прошу тебя — будь осторожна!
— Я знаю, но мне кажется, что меня уже привыкли видеть с этим ящиком для красок. Ведь я художница и постоянно хожу с ним, а затем Рита... ребенок...
Папа утвердительно кивнул головой.
Мама захлопнула крышку ящика.
— Но все же будь осторожна, Надя, — еще раз повторил папа.
Мама обернулась и увидела меня:
— А, ты уже готова, Рита! Молодец!
Мама быстро оделась, взяла в руки ящик с красками, и мы вышли.
Уже смеркалось. Мостовая и тротуар были белы от недавно выпавшего снега, в синеве сумерек тускло поблескивали окна «Арсенала», а стены его казались еще более темными и мрачными. По тротуару с лесенкой в руках спешил старик фонарщик. Я очень любила наблюдать, как фонарщики зажигают фонари, и приостановилась.
Вот фонарщик установил свою лесенку у фонаря, быстро поднялся по ступенькам вверх, заправил лампочку, чиркнул спичку — вспыхнул язычок пламени, и вот уже в синеватом сумраке предвечерья засветился фонарь.
Фонарщик ловко спрыгнул с лестницы, снова подхватил ее под мышку и поспешным шагом пошел дальше, к следующему фонарю... Там тоже вспыхнул желто-красный огонек, и уже целая цепь огоньков засияла вдоль улицы... И я смотрела на них, и этот человек, зажигающий огоньки в темноте вечера, казался мне чудесным существом, несущим людям свет. Вот его маленькая черная фигурка скрылась в синеве вечера, а огоньки всё вспыхивали, длинная светящаяся дорога уходила куда-то в бесконечную даль...
— Рита, идем же! Скорей, скорей! — торопила мама.
Мы пошли по Московской улице, миновали мрачные стены «Арсенала» и поравнялись с красивым трехэтажным домом — зеркальные окна дома были освещены, у дверей стояло несколько запряженных рысаками саней; рысаки косили черными влажными глазами, подергивали лоснящимися боками.
В эту минуту подъехали еще одни сани. Двери распахнулись. На улицу выбежал швейцар с позументом. Он бросился к саням и начал отстегивать меховую полость. Из саней вышел тучный генерал в медвежьей шубе, за ним дама в меховой ротонде и пышном капоре с лентами. Дама подхватила затянутой в белую перчатку рукой шуршащий шлейф.
Генерал и дама направились к дому. Швейцар распахнул дверь. Послышались звуки музыки, показалась освещенная, покрытая коврами лестница.
Я остановилась, мне хотелось заглянуть в дверь и посмотреть, что делается внутри, но мама сжала мою руку.
— Идем, Рита, — сказала она и ускорила шаги.
Воздух уже совсем посинел, в морозном тумане тускло светили красноватые огоньки фонарей...
Пройдя несколько шагов, мы завернули за угол.
— А куда мы идем? — спросила я.
— Тише, тише, Риточка, — прошептала мама.
Мы прошли вдоль высокого четырехэтажного дома и приблизились к небольшому особняку. Перед особняком был палисадник.
Я узнала — это был тот самый дом, куда мы ходили на елку, и очень обрадовалась.
Окна особняка светились, на снег падали золотистые квадраты света.
— Мама, пойдем сюда! Пойдем!.. — Я потянула маму за руку. Мне очень захотелось снова побывать там, где была такая чудесная елка.
Я заглянула за заборчик и увидела окно подвала. Сквозь стекла окна была видна освещенная лампой кухня, посреди кухни на табурете сидел толстый черноусый городовой. Шинель его была распахнута, между колен поблескивала шашка.
— Мама, а там городовой! — произнесла я с удивлением.
Мама вздрогнула и оглянулась.
— Где городовой? — шепотом спросила она.
— Там, на кухне!.. И у него шашка...
Мама взглянула на освещенное окно подвала и вдруг наклонилась ко мне и стала поправлять мне капор.
— Мама, а почему там городовой? — спросила я.
Мама еще ниже наклонилась, и я совсем близко увидела ее лицо, почувствовала ее теплое дыхание на своей щеке.
— Ничего не спрашивай, Рита! Ничего не спрашивай!.. — услышала я у своего уха ее шепот. Затем она выпрямилась и сказала громко: — Вот так будет лучше, а то ленты развязались и можно горлышко простудить. — И, снова взяв меня за руку, мама пошла по тротуару вдоль ограды палисадника.
В двух-трех шагах от парадных дверей особняка стоял, облокотившись на ограду, какой-то человек в темном пальто с приподнятым воротником и в котелке, надвинутом низко на глаза.
Мама шла не спеша, но я чувствовала, что рука ее еще крепче сжала мою руку.
«Молчать... Надо молчать!..» — вспомнила я ее слова.
Мы поравнялись с дверьми. Человек в черном пальто сделал движение, словно хотел дать нам дорогу и пропустить нас к дверям.
Но мама медленно прошла мимо, рука ее все так же крепко сжимала мою руку. Мы минули палисадник и так же не торопясь прошли до угла переулка. Тут мама остановилась.
— Молодец, молодец! — вдруг заговорила она, наклоняясь ко мне, и на секунду я почувствовала на своей щеке ее горячие губы.
Я не понимала, что произошло, но почувствовала, что мы избежали какой-то очень большой опасности.
Но мама снова озабоченно оглянулась.
— Надо домой, скорей домой! — сказала она и почти побежала по улице.
Я потянула ее назад.
— Нет, нет, туда нельзя! Мы пойдем другой дорогой!
И мы направились к Рыбальской улице. Теперь мама шла так быстро, что я едва поспевала за ней, снег забивался в мои калоши, щеки горели от мороза.
Вот и перекресток. Тут нам надо было перейти улицу.
И вдруг мама остановилась так, что я едва удержалась на ногах. Посреди мостовой, в нескольких шагах от нас, возвышалась огромная черная фигура всадника в папахе.
— Казаки!.. — прошептала мама и круто завернула за угол. — Скорей, скорей, Рита! — повторяла она.
Иногда она на секунду приостанавливалась, чтобы дать мне передохнуть, и затем снова шла вперед.
Вот мы у нового перекрестка.
— Риточка, потерпи! Еще немного... — шептала мама. — Вот скоро мы будем дома...
Мы обошли угол какого-то дома. Перед нами был перекресток.
И тут также возвышалась фигура всадника. Он казался огромным на своем черном коне, в высокой черной папахе.
Мама остановилась. Сердце мое громко билось, по щекам текли и замерзали слезы.
— Мама, — тихонько прошептала я, дернув ее за руку.
— Сейчас, Риточка, подожди... — Мама оглядела улицу, очевидно соображая, что же делать дальше. — Идем сюда! — вдруг решительно сказала она и потащила меня за собой.
Мы очутились в какой-то темной подворотне, на меня пахнуло сыростью. Мне стало страшно.
Мама наклонилась, схватила меня на руки и побежала через двор. Я слышала, как билось у моего уха ее сердце, теплое дыхание ее грело мое замерзшее лицо, но я вся дрожала от волнения, испуга. Мне казалось, что кто-то страшный гонится за нами. Вот мама задохнулась, опустила меня на землю и потащила за руку за собой. Вот снова черпая пасть подворотни, мы спускаемся в какой-то подвал. Мама опять берет меня на руки, и мы бежим дальше темным переулком. Вдали, в просвете улиц, снова мелькнула черная фигура всадника, и мама опять бросилась в сторону. Я выбиваюсь из сил. Но вот лестница, мы поднимаемся куда-то высоко-высоко... Ноги мои скользят по ступенькам, и у меня совсем уже нет сил. Но мама повторяет:
— Мы дома, теперь уже дома!..
И она распахивает какую-то дверь.
Я оглянулась и вскрикнула от неожиданности: мы были... в нашей кухне.
В комнате над столом ярко горела лампа-молния; в кроватке, раскинув руки, спала Валечка; на столе шипел самовар, поблескивали чашки и стаканы. Вон в «моем углу» сидит эскимосик и смотрит на меня своими удивленными, чуть раскосыми глазками, а на маминой кровати растянулся Чертушка... Ну конечно, я дома.
У окна стоял папа. Раздвинув занавеси, он вглядывался в окно.
Услышав наши шаги, он быстро обернулся, с тревогой взглянул на маму и шагнул к ней:
— Надя, что случилось, почему ты так задержалась?
— Там обыск!.. — задыхаясь, ответила мама.
— Обыск?
— Да! И всюду казаки. Очевидно, обыскивают в нашем районе. Мы с Ритой едва пробрались.
Папа провел рукой по волосам, лицо его побледнело.
— Мне надо сейчас же предупредить Ивана Максимовича, — сказал он.
— Но выходить сейчас опасно! На улицах шныряют шпики!
Папа махнул рукой:
— Листовки спрячь! Надо сберечь их во что бы то ни стало!
Он вышел в переднюю, мы остались с мамой. Мама взглянула на меня.
— Рита, — произнесла она вдруг очень серьезно, так, как она разговаривала только со взрослыми. — Рита, никогда никому не рассказывай, что делает папа, я, Ефим Иванович, товарищи... Никогда! Никому! Надо молчать!
Дон-Кихот за решеткой на хлебе и воде! Теперь я уже хорошо знаю, что это значит: Дон-Кихота посадили в тюрьму!
— Я боюсь, что на этот раз Дон-Кихот не выдержит, — сказал папа, — ведь он очень болен!
Я была очень огорчена, что Дон-Кихот сидит за решеткой. Может быть, я уже никогда не увижу его.
Но мама сказала:
— Надо помочь Дон-Кихоту!
В воскресенье мама и Груня напекли пирожков. И мама, уложив их в корзинку, пошла к Дон-Кихоту.
Папа и Ефим Иванович очень волновались. Папа все время поглядывал в окно и на часы, а Ефим Иванович успокаивал его и говорил:
— Не беспокойтесь, Яков Васильевич, все будет благополучно!
Но сам он тоже поглядывал на часы и прислушивался — не послышатся ли на лестнице шаги.
— Папа, а мама скоро придет? Скоро? — спрашивала я.
— Скоро, скоро! — отвечал он, но мама все не возвращалась.
Вдруг Ефим Иванович взял шапку:
— Я пойду, Яков Васильевич!
— Вы думаете, неблагополучно? — спросил папа.
Я взглянула на папу и поняла, что с мамой случилось что-то очень страшное. Неужели она, так же как и Дон-Кихот, за решеткой?..
Мама вошла в комнату совсем неожиданно. Она оглядела всех сияющими глазами и помахала пустой корзинкой.
— Привет от Дон-Кихота!
Она рассказала, что передала Дон-Кихоту пирожки и даже ту записочку, которую она запекла в пирожке, но о которой я ничего не знала.
Я была очень рада, что теперь Дон-Кихот не будет голодным, и с гордостью посматривала на маму: вот она какая храбрая — не побоялась шпиков, городовых и пошла к Дон-Кихоту, чтобы помочь ему!..
Теперь я часто оставалась одна. Дон-Кихота не было, мама и папа были на работе, а Ефим Иванович, с которым я так любила разговаривать и который всегда рассказывал какие-нибудь интересные истории, теперь часто уходил из дому и возвращался поздно вечером — папа недаром говорил, что у Ефима Ивановича будет много работы.
Васёк
Однажды я сидела над шахматной доской и играла в «Конька-горбунка». Эту игру я придумала, после того как мама прочла мне сказку о «Коньке-горбунке».
Мой «Конек-горбунок» скакал, не считаясь с белыми и черными квадратами, по шахматной доске и помогал Иванушке отгадывать загадки, которые задавал ему хитрый царь.
— Здравствуй, Рита! — вдруг услышала я за спиной чей-то голос.
Я обернулась — это был Васёк. Он дружески пожал мою руку, как это делали взрослые. Ладонь у Васька была очень жесткая.
— Ой, какая у тебя рука! — даже вскрикнула я.
— Какая?
— Шершавая!
— Не шершавая, а мозолистая, — поправил меня Васёк, показывая ладонь. — Видишь?
Я с любопытством глянула.
— Нет, ты пощупай! — сказал Васёк. — Ее и шилом не пробьешь...
Я осторожно тронула ладонь пальцем:
— А почему она такая?
— Почему? У настоящего слесаря руки всегда в мозолях — без мозолей напильником не поработаешь!
— А ты слесарь? — спросила я.
— Ну, пока еще не слесарь, а скоро буду слесарем, — ответил Васёк и пояснил: — Пока еще учусь...
— В гимназии учишься, да? — спросила я.
— «В гимназии»! Хм... гимназии! — Васёк усмехнулся. — Нет, в гимназию нашего брата не пускают!
— Почему?
Васёк снова нахмурился.
— Денег у батьки нема платить за ихнюю науку. Вот и не пускают, — ответил он и пояснил: — В гимназии, там больше барчата. — Васёк вдруг как-то странно шмурыгнул носом, отвернулся и махнул рукой. — А ну их, с ихней гимназией! Вот выучусь, слесарем буду, — произнес он. — Знаешь, что значит слесарь! Без слесаря и в дом не войдешь и из дома не выйдешь! Ключи кто делает? Слесарь!..
Васёк глянул на шахматную доску, где уже красовался готовый служить Иванушке верный «Конек-горбунок».
— Во что играешь? — спросил он деловито.
— В «Конька-горбунка», — ответила я.
Я думала, что Васёк, который не сегодня-завтра будет слесарем, не захочет играть со мной, но он живо придвинул табуретку к столу, взглянул на доску и спросил:
— А войско где?
— Войско? — спросила я.
— Ну да, войско! Царь-то что: сам один на один?.. Войско за него сражается, а он только команду дает, а сам в своем чертоге сидит. Вот он какой!
Я снова с уважением посмотрела на Васька. Он, по-видимому, был прав. Меня только смутил этот «чертог». «Ненавистен нам царский чертог» — я сама пела не раз, но что это за «чертог», представляла себе довольно смутно, и мне казалось, что это какое-то злое существо, вроде черта.
Васёк склонил над шахматной доской голову и начал расставлять фигурки. Я придвинулась поближе и вдруг увидела на голове у Васька под коротко обстриженными волосами огромную ссадину. Я забыла о шахматах...
— Ой, что это у тебя на голове? — со страхом глядя на ссадину, спросила я.
Васёк поднял голову, покраснел и потер голову ладонью:
— Да это так...
Я все еще с недоумением и страхом смотрела на него. Происхождение этой страшной ссадины было для меня неясным.
Васёк нахмурился.
— Ну, мастер это у нас такой, Петром Петровичем прозывается... — Воспоминание о мастере Петре Петровиче было, как видно, очень ярким, и Васёк уже не мог сдержаться: — Как саданул, искры из глаз посыпались, аж...
— ...аж заплакал? — спросила я.
— «Заплакал»!.. — возмутился Васёк. — Это девчонки плачут. Не дождется, чтоб заплакал! Кабы наши ребята каждый раз, как затрещину или оплеуху получат, плакали, так, знаешь, какой бы рев в мастерской стоял... У нас как чуть что — зуботычина, а то как саданет!..
Я со страхом и недоумением слушала Васька.
— А зачем... зачем он бьет? — спросила я, не отрывая глаз от страшной ссадины.
— А это наука такая, говорит! «Наука»! — усмехнулся он.
Я сочувственно взглянула на Васька.
Вот какая это была наука!
Вместе с тем я почувствовала к Ваську еще большее уважение. Значит, он будет слесарем-рабочим!
С этого дня я очень подружилась с Васьком.
Неожиданная встреча
Теперь я редко вспоминала о лаврском доме и его обитателях — каждый день приносил новые и новые впечатления, у нас появились новые друзья, и только о своем друге Степане я вспоминала часто. Я спрашивала Груню, где теперь Степан, что с ним, но Груня вздыхала и коротко отвечала:
— Ой, в казарме он! В казарме!..
И по тому, как всякий раз при этом Груня вздыхала, я чувствовала, что в этой казарме Степану живется не очень-то хорошо. Эта отвратительная казарма отняла у нас нашего друга, и по-видимому, никуда не отпускала его, иначе Степан отыскал бы нас...
Когда мы с Груней гуляли по Печерску, я пристально вглядывалась в лица марширующих по мостовой солдат, а Груня останавливалась и долго глядела им вслед.
Степана среди них не было! И вдруг случилось то, чего я уже не ждала.
Однажды утром Груня повела меня и Валечку гулять. Морозец бодрил, небо было ясное и чистое, пушинки легкого инея серебрились на ветвях деревьев и кустов. Мальчишки, перегоняя друг друга, катали по улицам салазки, солнце сверкало в окнах домов. Мне не хотелось уходить с улицы, и я просила Груню погулять еще.
— Ну, чуточку, еще чуточку!.. Вот это что за птичка сидит там на кусте? Воробей, да? А почему у него перышки красные? — спрашивала я, стараясь задержать Груню еще хоть на минуточку. На улице было так хорошо! Все сияло в солнечном свете.
— Снегирь это, снегирь! — ответила Груня поспешно и потянула меня за руку. — Обед уже не успею сготовить!
В это время из-за угла показалась колонна солдат. Груня сразу остановилась. Солдаты, четко отбивая шаг, промаршировали мимо нас.
Груня тихонько вздохнула — Степана среди них не было!
Мы вернулись домой.
Мне очень хотелось рассказать Ефиму Ивановичу обо всем, что мы видели сегодня на улице, и особенно о воробье с красными перышками, который почему-то называется снегирь. Мама говорила мне, что, когда Ефим Иванович занимается или у него сидит кто-нибудь из друзей, к нему в комнату нельзя входить.
Я подошла к двери, минутку постояла и не выдержала — тихонько приоткрыла дверь и заглянула.
Ефим Иванович сидел за столом. Он был не один — против него сидел какой-то человек в черном пиджаке, в ярком солнечном свете блестела его бритая голова.
Услышав скрип двери, Ефим Иванович быстро поднялся и тревожно посмотрел на дверь, его гость тоже быстро обернулся.
— Кто там? — спросил Ефим Иванович.
Я не ответила и бросилась в комнату — ведь человек в черном пиджаке, гость Ефима Ивановича, был Степан!
— Риточка, вы уже вернулись? — произнес Ефим Иванович.
Но я была уже около Степана.
— Степан, а казарма вас пустила к нам? А Груня плакала и говорила, что не пустит! Мы всё смотрели на солдат, а вас не было! А вы у нас! — говорила я в полном восторге.
Значит, Ефим Иванович и Степан — друзья! Это было так хорошо, так замечательно!
— Груня! Груня! — закричала я.
Дверь приоткрылась, в дверях мелькнуло Грунино лицо и тут же скрылось. Степан покраснел.
Ефим Иванович положил руку Степану на плечо и сказал, улыбнувшись:
— А вас, видно, товарищ Степан, здесь любят!
Степан пробыл у нас недолго.
Ефим Иванович дал ему какие-то листочки и сказал:
— Вот это почитайте солдатам у вас в казарме. Только будьте осторожны! За этими листочками охотятся шпики и жандармы. Это большевистские листовки!
— Не беспокойтесь, товарищ Ефим, — ответил Степан, — уж буду хранить их как зеницу ока!
Степан спрятал листовки глубоко в карман пиджака.
Мне было очень жаль, что Степан не побыл у нас подольше, но он сказал, что его могут хватиться в казарме и что он к нам еще зайдет.
— Обязательно заходите, будем держать связь, — сказал Ефим Иванович и крепко пожал руку Степану.
Однажды вечером Степан снова зашел к нам.
Он долго беседовал с папой и Ефимом Ивановичем в папиной комнате. И я боялась, что мне не удастся показать ему моего эскимосика, побеседовать о зверюшках и рассказать о всех новостях нашей жизни в чернояровском доме.
Но вдруг мама сказала:
— Рита, пойди пригласи Степана выпить с нами чаю.
За чаем Степан рассказывал о своей жизни в казарме, о товарищах.
Я сидела на своем стульчике и расширенными от удивления и страха глазами смотрела на Степана и слушала то, что он говорил. Да, недаром Груня каждый раз вздыхала, вспоминая о казарме. Оказывается, в казарме били взрослых людей, кормили горьким хлебом и гнилым мясом. Вот что это была за казарма!
В этот вечер я показала Степану своего эскимосика и расставленных на полочке зверюшек. Они все были целы: и котенок, и козел, и всё, всё.
Степан обещал еще сделать мне медвежонка. Мы распростились с тем, что он опять зайдет к нам. Я была очень рада встрече со Степаном, особенно меня радовало то, что Ефим Иванович и Степан оказались друзьями.
С этого вечера Степан стал чаще заходить к нам.
Я все чаще слышала слово «революция».
Теперь, когда у дверей раздавался звонок почтальона, папа сам спешил в переднюю. Он брал у почтальона газету, на ходу разворачивал ее и начинал читать.
— Да, это революция! Это революция! — восклицал папа, то и дело отрывая глаза от газеты. — Да, да, это не бунт... это революция!..
Для меня газета — загадка. Когда папа кончает читать газету, я беру в руки большой, испещренный маленькими черными значками газетный лист, внимательно рассматриваю его — он кажется мне каким-то чудом... Как, каким образом эти черненькие, маленькие значки рассказывают папе о том, что делается на свете?
Но теперь я знаю, что есть еще другие газеты и листочки, что почтальон не разносит их по домам в своей сумке, за этими листочками охотятся шпики, охранники, городовые и полицейские. Но именно в них написана «вся правда». Это сообщил мне Васёк. В этих листочках написано, как рабочие борются против царя и капиталистов и что надо делать, для того чтобы всем людям жилось хорошо. Так вот, значит, что за таинственные листочки носила мама в своем ящике для красок!
Теперь и Васёк стал нашим постоянным гостем. Я была всегда очень рада, когда он появлялся у нас. Он рассказывал мне много нового и интересного, и рассказывал гораздо понятнее, чем это было написано в газетах. А на свете происходили необыкновенные события!
Однажды Васёк прибежал к нам особенно взволнованным. Папы и мамы не было дома, Васёк бросился ко мне.
— Матросы против царя восстали! — сообщил он мне, задыхаясь от волнения. — Броненосец «Потемкин»... Знаешь, какой броненосец, на нем матросов, может, тысяча! И все восстали!
— Где матросы восстали? — спросила я, еще ничего не понимая.
— На Черном море! Там броненосец... корабль громадный, с пушками!.. — старался объяснить мне Васёк.
Мне трудно было представить себе и броненосец и Черное море, но, что матросы восстали против царя, это, по-видимому, было очень хорошо. Ваську же очень хотелось, чтобы я представила себе как можно лучше и броненосец и Черное море, и, хотя он сам никогда не видел ни того, ни другого, он очень ярко описал мне и грозного «Потемкина» и бушующее море... А матросы? Да, матросы были героями, которые не щадили жизни за свободу!
В конце концов Васёк сообщил мне, что он решил быть не слесарем, а матросом.
Васёк расстегнул ворот и сказал, указав на грудь:
— Вот смотри!
Я взглянула и увидела какие-то синие полосы.
— Видишь? Что это? — спросил Васёк.
— Вижу... Рубашка... — неуверенно ответила я.
— «Рубашка»! — презрительно взглянув на меня, произнес Васёк. — Не рубашка это, а морская душа! Тельняшка!
Попасть на «Потемкина-Таврического» Васёк уже не рассчитывал, но стать матросом и поднять восстание хотя бы на каком-нибудь пароходе он не терял надежды.
Каждый день происходили всё новые и новые события. Они происходили не только где-то там, за тысячи верст, а здесь, совсем близко: на Шулявке, Демиевке, на Подоле, в «Арсенале», в Южнорусских мастерских, на заводе «Греттера» — везде, где возвышались заводские трубы.
Васёк влетал к нам на пятый этаж, запыхавшийся, красный, поспешно вытирал с лица пот рукавом и сообщал:
— Забастовали! На заводе «Греттера» забастовали! Баста, говорят, не будем на кровопийцев работать!.. Долой, говорят, царя!.. Вот! Совет рабочий на Шулявке выбрали! Наша власть теперь, рабочая! Вот!.. — заканчивал Васёк, обводя всех блестящими от возбуждения глазами. — Слесарь! Да, слесарем тоже стоило быть!.. А машинистом! Вот Федор машинист! Вот это сила!.. Паровоз! Тысячу людей везет, а может, и две тысячи!.. — восхищенно рассказывал Васёк.
Паровоз я никогда в жизни не видела, тут мне приходилось верить Ваську на слово. А к Федору я прониклась уважением главным образом за стихи, которые он сочинил:
Ну, а царь, известно всем,
Нам порядком надоел...
Так не будем долго ждать,
Не пора ль его убрать!
Я была вполне согласна с Федором, особенно когда узнала, что царь обманул людей — издал «Манифест», обещал свободу, а сам велел убивать народ, — и я с особым чувством повторяла:
Так не будем долго ждать,
Не пора ль его убрать!
Там, за стенами наших комнатушек, был огромный мир, в этом мире происходили большие, тревожные события. Газеты, листовки, о которых не должен был знать городовой, разговоры взрослых, их дела — все было связано с этим миром...
Войско взбунтовалось
Я подбежала к окну. За окном, да, за окном, слышались знакомые звуки!
Отречемся от старого мира!..
В бой роковой мы вступили с врагами!..
На улице творилось что-то необычное.
В неясном свете осеннего дня по мостовой маршировали солдаты. Солдаты пели «Варшавянку». На тротуарах толпился народ, люди махали шапками, подхватывали песню.
«А как же городовой? Почему они не боятся городовых?» — подумала я и закричала:
— Груня, Груня!
Груня подошла к окну и тоже прильнула к стеклу.
— Ой, что же это творится?! — воскликнула она, всплеснув руками.
— Груня, пойдем туда! Пойдем!..
— Та что ж это такое?! — повторила Груня и побежала в кухню, через секунду она вернулась в платке.
— Груня, пойдем, да?..
— Пойдем, пойдем, Риточка! — радостно блестя глазами, ответила Груня.
Я захлопала в ладоши. Груня надела на меня пальтишко, капор. Пальцы ее дрожали, и она никак не могла завязать бант у меня под подбородком.
— Ой, что же это, Риточка?! — повторяла она.
Наконец я была кое-как одета.
Мы пошли вниз. День был хмурый, моросил мелкий дождь, но на тротуарах было полно народа, а по мостовой шли солдаты, лица у них были совсем не такие, как всегда: солдаты улыбались, махали фуражками и пели, пели так, что вся улица, казалось, звучала.
На бой кровавый, святой и правый...
Толпившиеся на мостовой люди подхватывали песню. Показались музыканты. Загремел оркестр.
Трубачи шли, раздувая щеки. «Та! Та! Та!..» — вырывалось из сверкающих медью труб.
— Стойте! Стойте! — послышался чей-то возглас. — Стойте же, братцы!
По тротуару рысцой бежал пожилой полковник. Он старался остановить солдат, что-то говорил им.
— Ишь, «братцы»! «Братцы»! А вчера «братцев» этих небось по зубам бил! — хмуро произнес молодой мастеровой.
Солдаты, не слушая увещеваний полковника, шли дальше. Оркестр снова грянул знакомую песню, ту самую песню, которую можно было петь только так, чтобы «городовой не услышал».
А солдаты шли, пели и не боялись...
И вдруг я поняла, что происходит что-то необыкновенное, схватила Груню за рукав и прошептала:
— Груня, войско взбунтовалось, да?
Груня не ответила, она подалась вперед.
— Степан! — звонко, на всю улицу крикнула она.
Груня задохнулась, прижала руки к груди.
Я взглянула туда, куда рванулась Груня... Степан шел, высоко подняв голову, глаза его блестели. Он не видел нас — он пел...
— Степан! — снова послышался и осекся голос Груни.
Но Степан уже услышал, оглянулся. Лицо его засияло, он поднял руку и помахал ею в воздухе.
Я смотрела на Степана. Никогда не видела я его таким. Он еще раз помахал нам рукой и запел:
В бой роковой мы вступили с врагами!..
Груня, растерянно оглядываясь по сторонам, спрашивала:
— Куда ж они, куда идут?
Никто ей не ответил.
Степан уже скрылся из глаз.
— Ой, куда ж они? — снова повторила Груня.
Она подхватила меня и спрыгнула с крыльца — мы очутились в людском потоке, поток этот подхватил нас. Где-то впереди гремел оркестр. Солдаты пели, пели люди на тротуарах.
— Что же оно творится такое! — повторяла Груня.
Платок сполз с ее головы на плечи, мелкие капли моросящего дождя падали на ее обвитую черными косами голову, но она не замечала этого. Мы шли и шли... Время от времени Груня приостанавливалась, чтобы дать мне передохнуть, а затем мы снова двигались туда, куда шли солдаты и люди...
— Груня, куда мы? Груня! — спрашивала я.
Но Груня не слушала меня или отвечала односложно:
— Ой, не знаю ж, Риточка, не знаю!..
Но она шла, увлекаемая людским потоком, туда, где вдали среди людских голов и плеч время от времени мелькала голова Степана.
Где мы были? На какой улице? Этого я не знала, но, вероятно, мы были уже очень далеко от дома. Вот какой-то высокий забор, огромные ворота — толпа раздалась.
Я и Груня очутились почти у самых ворот. Груня прижала меня к себе. Солдаты остановились.
Ворота распахнулись совсем близко, почти задев нас, колыхнулось красное знамя, грянула песня:
На бой кровавый, святой и правый,
Марш, марш вперед, рабочий народ!..
Знамя нес молодой рабочий. Голова его была откинута, глаза блестели, он пел... Рядом с ним шел пожилой мастеровой. Я узнала его — это был Иван Максимович!.. А вот...
— Ефим Иванович! Ефим Иванович!.. — закричала я, но мой голос потонул в звуках оркестра, в песне, которая торжествующим потоком залила площадь.
Да, это был Ефим Иванович! Он шагал в ногу с юношей, в руках у которого было красное знамя.
На секунду совсем близко промелькнуло лицо Ефима Ивановича и тоже исчезло в людском потоке… Вот еще какие-то незнакомые лица, а вот... Это же Федор! Конечно, это он!
— Рабочие Юго-западных мастерских — это сила!.. — произнес рядом какой-то человек в картузе с блестящим околышем.
— А вон из «Арсенала»! Я знаю их! Они с батькой работают... — вытягивая тонкую шею и захлебываясь от восторга, твердил мальчик в заплатанной куртке с отцовского плеча. — И наши там!.. — повторил он и, сорвав с головы ушанку, воскликнул, стараясь перекричать гром оркестра: — Ур-ра!..
И вдруг затих оркестр, смолкла песня и в разом наступившей тишине прозвучал громкий голос:
— Долой самодержавие!..
— Долой, долой!.. — эхом прокатилось по площади.
— Да здравствуют революционные рабочие и солдаты!..
— Ур-ра!.. — отозвалась залитая людьми площадь.
— Да здравствует революция!.. — грянуло из толпы.
Все зазвучало, заколебалось, ринулось вперед. Снова заиграл оркестр, призывно зазвучала песня:
Марш, марш вперед, рабочий народ!..
Знамя колыхнулось и поплыло над головами людей. Люди шли, четко отбивая шаг, — рабочие, пожилые люди, солдаты...
«Революция! Вот она какая, революция!..»
Ни Ефима Ивановича, ни Степана уже не было видно, они были где-то там, впереди — перед нами расстилалось колыхающееся море движущихся людей...
Марш, марш вперед, рабочий народ!..
Груня прижала к груди руки.
— Ой, Риточка, не догоним, не догоним же! — произнесла она и, опустившись на тумбу, закрыла лицо руками.
— Груня! — тихонько позвала я.
Груня подняла голову. По щекам ее текли слезы, но она улыбалась распухшими от слез губами.
— А Степан! Какой же он! Ой, какой же он!.. — Она не договорила и прижала меня к себе.
Да, Степан! Он храбрый! Это он пел, не боясь городового:
Отречемся от старого мира!
Но мне стало обидно за Ефима Ивановича. Ведь это он кричал: «Да здравствует революция!» Я узнала его голос...
Груня встала, взяла меня за руку.
— Идем домой, Риточка! — произнесла она.
Вдруг резкий незнакомый звук потряс воздух. Еще, еще, другой, третий...
— А-а!.. — донесся издалека чей-то крик.
Мимо нас пробежала молодая женщина, растрепанные косы бились по ее плечам.
— Ой, ироды, ой, ироды!.. — повторяла она.
— Что там, что? — спросила Груня с ужасом, глядя туда, откуда раздавались выстрелы.
Женщина остановилась, прижала руки к груди.
— Стреляют! По бунтовщикам стреляют! — задыхаясь, произнесла она и, взглянув на меня, прибавила: — А ты куда, девонька, с ребенком? Убьют ведь, не пожалеют! И дитё не пожалеют! Им что, царским-то генералам... Народа не жалко!
Вдали снова послышались выстрелы.
Груня схватила меня, прижала к своей груди...
Уже давно стемнело. Ни мамы, ни папы, ни Ефима Ивановича дома не было.
— Ой, де же они поделись? — с тревогой посматривая на ходики, повторяла Груня.
Груня уже в третий раз подогревала суп, она то подбегала к окну, то снова бежала на кухню. Меня она уложила в постель, напоила горячим молоком и не разрешила вставать.
— Спи, Риточка! Спи! Ой, господи, спи же! — уговаривала она меня.
События этого необыкновенного дня встревожили меня. Я поминутно выглядывала из кроватки и окликала Груню.
— Ну, чего тебе, Риточка? Спи же, спи!..
Грунина тревога передалась и мне. За стенами нашей комнаты происходило что-то необычное. Мне казалось, что я слышу звуки песен, вижу перед собой возбужденные лица, сияющие глаза, вижу залитую народом площадь, мелькающие в воздухе шапки и руки... Вот промелькнуло полыхающее на ветру знамя, а рядом с ним оживленное лицо Ефима Ивановича, вот еще какие-то лица, люди. Вот это, кажется, Степан, а это, конечно, Васёк... Мне чудилось, что я слышу звуки выстрелов, крики о помощи, но вот уже все исчезло — я заснула...
Меня разбудил какой-то шум. Я открыла глаза и позвала:
— Груня!
Никто не ответил.
— Груня! — снова окликнула я.
Тишина...
Я вылезла из кроватки и побежала в кухню. В кухне было полутемно, тускло светилась лампочка. На кровати спала Груня, голова ее свесилась с подушки. Груня тяжело дышала. Она спала одетая. Видно, так измучилась за этот тревожный день, что даже не могла раздеться.
Двери на черный ход были приоткрыты. Я выглянула на лестницу. Там было темно и холодно. Я хотела броситься обратно, но вдруг услышала папин голос:
— Тише, тише, осторожно!
Я прижалась к стенке. На лестнице показались какие-то темные фигуры.
Тусклый свет из открытых дверей освещал лестничную площадку. Папа и Ефим Иванович, осторожно поддерживая какого-то человека под руки, поднимались по ступеням.
Вот они взошли на площадку и остановились. Человек тихо застонал. Свет упал на его лицо, и я узнала — это был Степан!
— Рита!.. — послышался мамин голос.
Мама взяла меня на руки, и через минуту я была уже в кроватке.
Ефим Иванович и папа отвели Степана в папину комнату. Из-за дверей послышался глухой стон. Затем все смолкло...
Уже три дня, как двери в папину комнату были плотно закрыты. Папа не разрешал мне входить туда, чтобы не беспокоить Степана. Я долго простаивала у дверей, прислушиваясь. «Что там со Степаном?» И каждый раз, когда из-за дверей слышался стон, я со страхом посматривала на двери.
Но вот как-то утром за чаем папа сказал:
— Риточка, сегодня ты можешь навестить Степана.
— К Степану можно! К Степану можно!
Я распахнула запретную дверь. Степан лежал на папиной кровати, повернув лицо к стенке. Я тихонько, на цыпочках, подошла к кровати и остановилась перед ней. Степан не обернулся. Он был укрыт папиным теплым одеялом, поверх одеяла лежала его забинтованная рука. Я не решалась окликнуть Степана и стояла перед кроватью.
Вот он медленно повернул голову.
— Степан! — воскликнула я.
Но тут же отступила от кровати. Степан вовсе не был похож на того Степана, которого я знала. Этот был худой, почти такой же худой, как Дон-Кихот, и очень, как показалось мне, длинный.
Он стал так не похож на себя, что я даже усомнилась — Степан ли это передо мной. Я попятилась к двери, не опуская глаз с этого бледного, худого человека...
Но вот Степан улыбнулся совсем так, как тогда во дворе лаврского дома, когда он сказал мне: «Здравствуйте, маленькая барышня!» Теперь Степан взглянул на меня и произнес тихо и ласково:
— Здравствуй, Риточка!
Потом он закрыл глаза. Я тихонько вышла из комнаты.
Мама и Груня по очереди дежурили у постели Степана, ухаживали за ним, и ему наконец стало лучше. Степан даже стал приподниматься на постели.
По вечерам папа, Ефим Иванович, Федор, а иногда и Иван Максимович заходили в комнату к Степану и беседовали с ним, читали ему газеты.
Я тоже часто заходила к Степану. Однажды, когда я сидела на скамейке у его постели, в комнату вошел папа.
— Как самочувствие? — обратился он к Степану.
Степан хотел приподняться, но папа остановил его.
— Нет, нет, еще рано, лежите, лежите! — озабоченно произнес он и присел на край постели. — Еще три-четыре дня полежать, и все будет в порядке, — произнес он ободряюще.
Степан улыбнулся и пристально взглянул на папу:
— Не утешайте, Яков Васильевич!
— Нет, нет... Дня три, четыре, и вы будете на ногах.
— Хотя бы... — Степан нахмурился. — Я же знаю, какой опасности вас всех подвергаю... А там ведь полиция, верно, с ног сбивается, вся охранка на ногах, а у вас дети... дети же!
— Не думайте об этом, наша квартира не на подозрении, выздоравливайте — это главное!
Степан вздохнул.
Папа наклонился к нему и поправил повязку:
— Ну вот, всё в порядке...
Папа поднялся и направился к двери.
Степан вдруг тихонько окликнул его:
— Яков Васильевич!
Папа обернулся, подошел к кровати и снова присел на ее край.
— Что, Степан Андреевич?
— Вот... Только вы не как врач утешайте, а правду, как товарищ, скажите. Правду...
— Что такое?
— Вот насчет руки... чтобы калекой не остаться. Вы же знаете, что такое рабочие руки... Всё в них, вся жизнь! Жизнь вся... Рубанок же у меня вот в этой руке сам ходил. Эх! — Степан закусил губу и вопросительно взглянул на папу.
— Ранение было тяжелое, но работать будете! — произнес папа и встал. — Будете! Это я говорю как врач и как товарищ!
— Верю вам, верю, Яков Васильевич, — произнес Степан.
Папа вышел.
Я встала со скамейки и подошла к Степану. Он лежал вытянувшись, глядя прямо перед собой, видно, о чем-то так задумался, что не заметил, как я подошла к нему. Его большие руки лежали поверх одеяла. Я пристально взглянула на них.
«Рабочие руки!» — подумала я с удивлением, потом взглянула на свои руки. К сожалению, они были очень маленькие и какие-то пухлые, совсем не такие, как у Степана.
Степан лежал все так же тихо, глядя перед собой.
«Наверное, он думает о том, как будет снова строгать рубанком, делать полочки, зверюшек и даже выстроит целый дом... Вот что такое рабочие руки!» Я снова уселась на скамеечку, но старалась не беспокоить Степана, ведь он хочет скорее выздороветь, чтобы работать.
Однажды вечером, как обычно, папа и Ефим Иванович сидели около Степана. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вбежал Васёк. Лицо его было красное от возбуждения, картуз съехал на затылок.
— Шпик, ей-богу, шпик! — воскликнул Васёк, задыхаясь: по-видимому, он взбежал на лестницу одним духом.
Ефим Иванович вскочил и подошел к Ваську.
— Расскажи толком, где, как? — спросил Ефим Иванович.
Степан приподнялся и, обернувшись к Ваську, с тревогой взглянул на него.
Папа также подошел к Ваську и спросил:
— В чем дело, Васёк?
— Иду я это по Московской, подхожу к дому, а он навстречу. Пальто коричневое, невысокий такой, чуть меня повыше, котелок на глаза надвинул. Я скорей за дерево и вижу: огляделся он по сторонам туда-сюда, подошел к столбу, поднял воротник, вытащил папиросы и спички, как будто закуривает, а сам на это вот самое окно поглядывает. Ну, думаю, беда! Шпик за угол, а я в подворотню да сюда живым махом! — Васёк вытер рукавом красное, вспотевшее лицо и произнес: — Шпик, ей-богу, шпик!
— Да, дело серьезное, товарищи! — произнес Ефим Иванович и добавил: — Васёк опытный в этом деле, у него глаз наметан!
Степан ринулся с постели.
Папа бросился к Степану и остановил его:
— Не волнуйтесь, сейчас будет все сделано!
Ефим Иванович поспешно вынул из своего сундучка ватную куртку.
— Эх, о фуражке не подумали! — с досадой махнув рукой, произнес он.
— Вот, мою возьмите! — сказал Васёк, снял со своей головы картуз и подал его Степану.
Дверь приоткрылась, показалась Груня.
— Чай пить идите! Самовар готов! — произнесла она и вдруг замерла, с удивлением взглянув на Степана.
— Ой, куда же это?.. — пробормотала она.
— Я сейчас выясню, можно ли пройти через черный ход! — не обращая внимания на Груню, сказал Ефим Иванович. — А ты, Васёк, беги на парадный. В случае опасности, дай знать... А вы, Яков Васильевич, насчет документов! — четко и ясно, словно приказывая, говорил Ефим Иванович.
Я смотрела на Ефима Ивановича с удивлением — он был не такой, как обычно. Несмотря на то что всем нам угрожала какая-то большая опасность, он был очень спокоен. Я уже знала, что там, на улице, был страшный шпик, жандармы, городовые — они могли ворваться сюда, схватить Степана.
Папа и Ефим Иванович вышли из комнаты.
— Ой, Степаночку, что же это? — произнесла Груня.
Сделала шаг к Степану и остановилась. Степан шагнул к ней.
— Груня! — произнес он каким-то особенным, ласковым голосом.
— Степаночку! — Она закрыла лицо руками, ее плечи вздрогнули.
— Груня, век тебя не забуду. Хоть помирать буду — буду помнить... — Степан взял Груню за руку. — И ты жди меня, не забывай. Я все выдержу!
Она подняла голову и взглянула прямо в глаза Степану.
— Буду ждать, Степаночку! — твердо сказала Груня. — Буду!..
— Товарищ Степан! — послышался голос Ефима Ивановича.
— Степан! — вырвалось у меня сквозь слезы.
Он наклонился ко мне:
— А вы с Груней по мне не плачьте — не надо плакать, Риточка! Еще увидимся!
Степан вышел. Я подбежала к Груне, но она отвернулась и заплакала...
Я выбежала из комнаты. В столовой была только мама. Я бросилась к ней.
— Мама, там Груня плачет! — сказала я, указав на двери папиной комнаты.
— Груня плачет? — переспросила мама. Она встала и пошла в папину комнату.
Через несколько минут Васёк сообщил нам, что Степан уже в безопасном месте.
— На конспиративной квартире! — шепотом произнес он.
Теперь-то я это слово уже хорошо знала и даже выговаривала без ошибки.
Тревожная ночь
Звонки бывают разные. Я уже хорошо знала это. «Дзинь, дзинь!» — так звонила мама, и этого звонка я всегда ждала с нетерпением.
«Дзинь!» — это почтальон.
Он звонит один раз, но звонок у него резкий, потому что почтальон всегда спешит — ведь у него полная сумка писем и он хочет поскорее доставить их людям. Я уже могу угадать и папин звонок, и Ефима Ивановича. И, хотя мы уже давно живем в чернояровском доме, звонок лаврского эконома я помню до сих пор.
Комната была залита мягким голубоватым светом уличного газового фонаря, но я ясно увидела, как мама быстро поднялась с постели и поспешно набросила на себя капот.
Хотя теперь звонок звонил резко и напряженно, но мама почему-то не спешила открывать дверей.
Звонок снова зазвонил требовательно и настойчиво. Мама словно не слышала его — она не пошла в переднюю, а бросилась в комнату, где спали папа и Ефим Иванович. Оттуда послышались приглушенные голоса — дверь открылась, Ефим Иванович, папа и мама вошли в столовую. Ефим Иванович на ходу надевал на себя пальто.
— Через черный ход! — шепотом сказал папа.
Ефим Иванович быстро направился к дверям, ведущим в кухню.
«Куда он уходит ночью?» — с тревогой подумала я. В эту минуту комната опять наполнилась настойчивым дребезжащим звуком звонка. Я вскочила в кроватке. Ефим Иванович, увидев меня, остановился, бросился к моей кроватке и поднял меня. Я почувствовала около своей щеки его теплую щеку, увидела совсем близко его добрые, такие знакомые глаза.
— Ефим Иванович, не уходите! — прошептала я, прижимаясь к его груди.
— Вы с ума сошли, товарищ Ефим! — послышался шепот мамы. — Дорога каждая секунда! Скорей, бегите скорей!..
Ефим Иванович быстро опустил меня в кроватку, бросился к кухонным дверям и исчез за ними.
Мама подошла к столу, зажгла лампу. Папа взял лампу в руки и направился в переднюю.
— Кто там? — послышался из передней его как будто сонный голос.
— Телеграмма! — ответили хриплым басом.
Щелкнул ключ. Скрипнула парадная дверь. Послышались чьи-то чужие голоса.
Мама быстро наклонилась ко мне. Я почувствовала на своем лице ее теплое дыхание.
— Риточка, что бы ни случилось, не бойся и лежи тихонько. И помни — надо молчать!
Я со страхом взглянула на маму, она крепко сжала мою руку и отошла к столу.
В эту секунду дверь распахнулась, и комната вдруг наполнилась шарканьем сапог, звоном шпор, хриплыми голосами.
Я выглянула из кроватки.
Они! Городовые, жандармы и шпики. Вон тот, который остановился у дверей в коричневом пальто и в черном котелке на голове, — конечно, шпик, это тот самый шпик, о котором говорил Васёк! Толстый усатый жандарм, раздвинув полы шинели, уселся за стол и стал что-то писать, а другой жандарм начал рыться в вещах. Двое бросились к комоду, выдвинули ящики; из ящиков полетели на пол мамины кофточки, мои рубашки и платьица, Валины распашонки. Один из жандармов рылся в папином столе, а еще двое из них принялись рассматривать папины книги. Один из них вытащил из кармана пенсне и надел его на нос.
— Подайте-ка эту книгу! Вот эту! — указал он своему подручному на одну из толстых книг. Поправив пенсне, он начал рассматривать книгу.
Папа подошел к полке с книгами.
— Это всё медицинские книги, — сказал он.
— Посмотрим, посмотрим! — нахмурился жандарм, пенсне соскочило с его носа, он поймал его за шнурочек и, снова водрузив его на место, буркнул: — Это уж разрешите нам самим разобраться, что это за книги! — Он перелистал страницы книги и пробурчал: — Ну да, медицинские, а вот эта, эта!.. — Жандарм схватил маленькую брошюрку и впился в нее глазами.
В комнате было душно, пахло мокрыми шинелями, густо начищенными ваксой сапогами. Передо мной мелькали возбужденные лица враждебных мне людей. Слезы душили меня, но, подняв голову с подушки, я встречала мамин спокойный, ободряющий взгляд — она стояла, опершись рукой о стол, освещенная светом лампы, и, казалось, говорила: «Надо молчать!»
Вдруг один из жандармов шагнул к моей кроватке и, обернувшись к сидящему за столом толстому усатому жандарму, произнес:
— Ребеночка побеспокоим?
Тот в ответ утвердительно кивнул головой.
Я с ужасом смотрела на приближающегося жандарма.
Груня бросилась ко мне:
— Ироды проклятые!
Она подняла меня с кровати и поставила на пол. Я, всхлипывая, прижалась к ней.
— У, ироды! — снова повторила Груня задыхаясь.
Толстый городовой обернулся к ней.
— Молчи, дура! — погрозив кулаком, гаркнул он и прибавил: — Вот посажу в каталажку, тогда узнаешь, как оскорблять чинов при исполнении обязанностей!
Я крепче прижалась к Груниным коленям.
— Ой, господи, и что это творится? — прошептала Груня. Она наклонилась ко мне: — Не плачь, Риточка, ой, не плачь! — Груня ласково погладила меня своей шершавой рукой.
Я не выдержала — слезы вдруг хлынули из моих глаз, но мне стало легче: от Груни уютно пахло кухней, чем-то своим, домашним. Я еще крепче прижалась к ней. Мама подошла к Валиной кроватке и взяла сонную Валечку на руки.
Жандарм начал обыскивать наши кроватки. Стали тщательно перетряхивать подушки, матрасики, одеяла. Один из жандармов запустил руку в мою кроватку и вытащил из ее глубины эскимосика. Он швырнул его на пол, но в эту минуту жандарм в пенсне, который пересматривал книги, наклонился к тому жандарму, что сидел за столом, что-то прошептал ему на ухо и указал на куклу-эскимосика.
— Ха! Вы думаете? — прошипел толстый жандарм с сомнением.
— Да, да... Бывают случаи, бывают случаи.
Толстый жандарм кивнул головой и что-то приказал жандарму, перетряхивавшему вещи в моей кроватке.
То, что произошло в последнюю минуту, привело меня в ужас. Жандарм схватил с полу эскимосика, вынул из кармана перочинный нож, блеснуло лезвие — жандарм занес нож над эскимосиком. Я бросилась к жандарму, но крепкие Грунины руки удержали меня.
— А ну их, душегубов! — прошептала она, крепко прижимая меня к себе.
Я увидела только, как снова блеснул нож, и жандарм полоснул им по эскимосику.
Больше я ничего не видела. Я громко вскрикнула. Груня схватила меня на руки, вынесла в кухню и положила на свою кровать.
За стеной еще слышалось шарканье сапог, хриплые голоса, шум передвигаемой мебели, но все это как будто доносилось издалека...
Буду помнить!
Ефим Иванович! Неужели он исчез навсегда и мы его больше не увидим? Где же он, что с ним?
Эскимосик лежит в кроватке рядом со мной. Мама сделала заплатку на его плюшевой спинке, и он снова стал почти такой же, как был прежде. Но даже любимый мой эскимосик не радует меня.
Я подхожу к полочке, где в строгом порядке стоят вырезанные Степаном игрушки, но мне не хочется играть ими и выдумывать разные истории о козликах и зайцах — ведь Степана тоже давно нет, а Груня вздыхает и говорит, что если его поймают, то обязательно закуют в кандалы.
Я смотрю на зайчишку. Он тоже смотрит на меня своими черными глазами-бусинками, и мне кажется, что у зайчишки печальный вид.
Ой, як болыть сердце мое,
А слезы не льются... —
поет Груня на кухне. Груня поет так печально, что мне хочется плакать.
«Где же Ефим Иванович? — думаю я. — Может быть, его, как Иванушку, царь сослал далеко-далеко. Он бредет по дороге... Снег залепляет ему глаза, воет метель, шумит тайга. А огонек? Светит ли ему огонек... тот огонек, о котором говорил он?.. Вот еще недавно Ефим Иванович сидел у трубки и рассказывал мне и Валечке сказку, ту единственную сказку, которую он знал... А вот тут, сидя на табуретке, Ефим Иванович чинил мой башмачок... Вот он выглядывает из-под кровати, этот старый башмачок, он снова «просит каши», но теперь уже некому будет починить его...»
Трачу лита в лютим горе
И конца не бачу... —
выводит Груня.
Она уже давно не поет: «сижу, играю, веселюсь...»
Я подхожу к окну, взбираюсь на подоконник. За окном, как всегда, на противоположной стороне улицы в полосатой будке стоит часовой; вот по мостовой прошагал городовой, вот какой-то человек в коричневом пальто и котелке прошелся по тротуару... Шпик, наверное, шпик! Какой унылой и враждебной кажется сейчас мне эта улица, та самая улица, на которой еще недавно гремели слова «Варшавянки»:
Марш, марш вперед, рабочий народ!..
Я спрыгиваю с подоконника. В комнате все так, как было раньше. Мама и Груня всё уже привели в порядок после учиненного жандармами разгрома, и, пожалуй, только заплатка на спине эскимосика напоминает о страшной ночи. Но комната, знакомые вещи — все кажется мне не таким, каким было раньше. Я с опаской посматриваю на дверь — может быть, оттуда покажется сейчас усатая физиономия городового, а может быть, вон там, за шкафом, прячется шпик... Дверь не открывается, за шкафом никого нет, кроме щетки.
Я сажусь на скамейку. Мама отдала мне свои акварельные краски, но рисовать мне не хочется. Пойти на кухню к Груне? Но ей тоже невесело. Мне, кажется, никогда не забыть страшной ночи, но мама говорит, что все обошлось не так уж плохо — квартира наша, оказывается, могла провалиться, но, к счастью, не провалилась. Папа же говорит: квартира наша не провалилась потому, что Ефим Иванович хороший конспиратор, мама молодец, а жандармы плохо образованные — они «арестовали» его медицинские книги, а листовок не нашли.
«Дзинь!» Звонок прервал мои размышления — я замерла. Нет, теперь я уже не побегу в переднюю — ведь, может быть, за дверью послышится опять хриплый голос: «Телеграмма!»
Дверь распахнулась, и в комнату вошел тот, кого я совсем не ожидала увидеть.
— Федор! Федор!..
Папа, как видно, очень удивился, увидев его.
— Товарищ Федор, как вы решились? Ведь у нас на этих днях был обыск.
Тот махнул рукой.
— Событие! Важное событие! В Москве восстание — рабочие с оружием в руках сражаются на баррикадах! Пресня в огне!.. — Федор говорил быстро, порывисто, глаза его горели.
— Вооруженное восстание! — воскликнул папа.
— Да, мне только что сообщили!
— А Ефим Иванович! Где, где он? Что с ним? — бросилась я к Федору.
— Жив, жив Ефим Иванович. Не бойся, Риточка! Большевики молодцы!
— Надя, я ухожу с Федором! Я должен быть сейчас вместе с товарищами!
— Хорошо, Яська, но ты знаешь, как я буду тебя ждать! — прошептала мама.
Папа пошел к дверям, но вдруг вернулся и сказал:
— Да, Надя, нам надо немедленно уехать из чернояровского дома. После обыска здесь оставаться опасно. А мы должны и будем продолжать нашу борьбу! Что бы ни случилось, будем продолжать борьбу!
— Да, Яська, мы будем продолжать борьбу!
Папа вышел.
Мама подошла к окну и стала смотреть на мрачные стены «Арсенала». В огромных закопченных окнах его поблескивали красные отблески. Глухо доносились удары молота. Я прислушивалась к этим звукам, от которых вздрагивали стены и тихонько раскачивалась лампа-молния под потолком.
«Там, далеко-далеко, что-то происходит, рабочие борются, там с ними, может быть, Ефим Иванович, а может быть, и Степан... А Федор, Иван Максимович — они тоже борются... А мы скоро уедем отсюда куда-то, потому что сюда опять могут явиться жандармы, как в ту страшную ночь... Папа говорит, что надо бороться. А где же папа? Он, наверное, там, с Иваном Максимовичем, Федором...»
— Мама! — вскрикнула я.
Мама подошла ко мне:
— Риточка, что с тобой?
Я протянула к ней руки. Мама опустилась на диван и привлекла меня к себе:
— Риточка, ты знаешь, что происходит там сейчас! Если бы ты знала, если бы ты могла все понять! Ты еще маленькая, ты еще не можешь всего понять, но пройдет время, ты вырастешь и узнаешь все. Ведь для тебя, моя деточка, для Васька, за всех детей, за всех людей, которым тяжело живется, борются сейчас отважные борцы! За наше счастье, за новый, светлый мир! Ты, ты будешь жить в этом мире: справедливом, светлом мире... — Мама прижала меня к себе. — Ты будешь помнить тех, кто боролся, отдавая свои силы, умирал за это светлое будущее? Ты не забудешь их, моя девочка? Ты будешь помнить их?
— Буду!.. — прошептала я и прижалась к маме.
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:
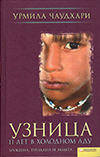
рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:

рекомендуем читать:





